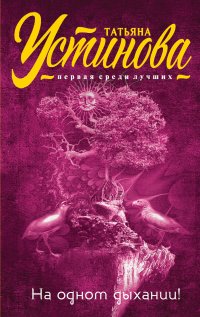
Читать онлайн На одном дыхании! бесплатно
- Все книги автора: Татьяна Устинова
О, Господи Боже, да толку-то что?!
Дм. Быков «Вторая баллада»
Время было рассчитано по минутам, и события тоже. Самое главное, чтобы все пошло, как запланировано, без отклонений от графика.
Смешное слово – «график»!.. Какое-то школьное или, может, институтское, общежитское – «График дежурств по комнате», и листочек криво пришпилен к двери, расчерчен синей ручкой, и написано торопливо «пон», «ср», «птн».
По «вт» и «четв», а заодно и по субботам с воскресеньями уборка помещения, стало быть, не проводится!
Смешное слово «график», особенно когда это график убийства. Смерть должна прийти в соответствии с графиком.
Время было рассчитано, и действия были рассчитаны, и осталось только… уложиться в расписание.
Поначалу все удавалось – до минуты, до шага.
В середине дня вдруг оказалось, что предстоящее дело очень страшное. Такое страшное, что это почти невозможно вынести.
Следовало приказать себе не думать, но не получалось, не получалось никак!..
Он постоянно лгал, обманывал, а за ложь, особенно за такую, которую нагромоздил он, всегда приходится платить.
Впрочем, это его фраза – рано или поздно придется расплачиваться по счетам, так что лучше их не копить.
Ты накопил столько счетов, что придется расплатиться жизнью. Никакая другая валюта не принимается.
Нужно приказать себе не думать, как бы перескочить через сегодняшний день и жить уже в завтрашнем, когда все самое страшное будет далеко позади. Далеко-далеко, неотчетливо, туманно, как расплываются в сияющем морском мареве уходящие тучи вчерашней грозы.
Завтра все встанет на свои места. А сегодня… сегодня просто день, когда платят по счетам.
Но мозг как будто заело.
Раз за разом он бешено рисовал картины – чудовищные, ужасные, от которых сразу начинало тошнить, выворачивать наизнанку.
Голова, разлетевшиеся кости, пороховая синева на виске, открытый рот, запавшие глаза.
Разрезанное горло, лужа черной крови, скрюченные пальцы с обломанными в агонии ногтями.
Нет. Нет. Нет.
Ничего этого не будет и быть не может.
Будет идеальное убийство, элегантное, простое и ненаказуемое, как в детективном романе, которых перечитано десятки, сотни!.. Попадается только недалекий, тупой, неаккуратный мясник-убийца. Умный, хитрый, расчетливый мститель не попадается никогда!
Недаром составлен график, в котором не может и не должно быть сбоев!..
График сбился в середине дня, а мозг все взрывался бешеными картинками. Сквозь огненные камни, оставшиеся после взрывов, стала просачиваться холодная вода животного страха.
Может, все отменить?..
Или хотя бы отложить?..
Пусть ненадолго, пусть только на сегодня, на один день, один крохотный денечек! Потому что сегодня последний день, который можно прожить… не убийцей.
Завтра, послезавтра – и всегда! – придется жить убийцей.
Вот каково это, жить убийцей?
Завтра узнаешь. Завтра почувствуешь. Завтра поймешь.
Заглянуть за эту дверь никак нельзя, она не открывается, как потайная комната Синей Бороды. Эту дверь можно открыть, войти, закрыть ее за собой – и никогда не вернуться обратно.
Отступать нельзя. Все приготовлено, спланировано – и неизвестно, удастся ли все так подгадать в следующий раз.
Огненные камни, ворочающиеся в мозгу, – ерунда, обыкновенный истерический припадок.
Ему просто придется заплатить по счетам.
Самое смешное, что все почти сорвалось!
Из-за чепухи, малой малости идеальное убийство оказалось под угрозой.
Зануда-гаишник в нелепо сидевшей на круглой голове фуражке долго вертел в руках документы, рассматривал так и сяк, потом потребовал страховку и ее тоже вертел и рассматривал.
Он не знал, что из-за его тупоумной медлительности, из-за того, что он никак не сообразит, к чему бы придраться, может все рухнуть! Вся жизнь!
Вся жизнь – и вся тщательно продуманная смерть.
Нельзя было спорить с гаишником, приходилось улыбаться и кивать, а он все тянул и тянул, и драгоценное время все уходило!..
Но, должно быть, этот день был назначен неспроста. День расплаты по счетам.
Потому что, когда гаишник наконец сунул в окно документы, неразборчиво пробормотал нечто среднее между «Счастливого пути» и «Пойдите вы все к чертовой матери» и машина получила свободу, оказалось, что время еще не ушло, план все еще может быть выполнен!
Все было продумано заранее – как подъехать, где поставить машину, как сделать так, чтобы никто ничего не заподозрил.
Никто и не заподозрил.
Из-за тупого гаишника пришлось торопиться, чтобы все было готово вовремя, и все было готово.
В окно было видно, как он приехал, оглянулся, очевидно, в поисках собаки. Он ее очень любил и доверял ей больше, чем людям.
Впрочем, с собаками он всегда был нежен.
Он вошел, стащил пиджак, привычно бросил его куда-то вправо – ему было удобно туда бросать, вот он и бросил. Ему никогда и в голову не приходило, что пиджак вполне можно убрать «на место», а не швырять невесть куда, что какие-то другие люди, а вовсе не он сам, должны думать о его вещах, документах, ключах от машины. Впрочем, считаться с окружающими его людьми ему тоже в голову не приходило.
Пожалуй, он вообще не догадывался, что они существуют.
Телефон зазвонил, и он досадливо полез туда, где тот звонил, долго рылся, вытащил наконец трубку, посмотрел и не стал отвечать.
Пока все идет так, как нужно. Теперь самое главное сдюжить и довести дело до конца.
Он вошел в комнату, сдирая с шеи нелепый модный розовый галстук – нужно говорить не «розовый», а «цвета лососины», – взял с обычного места телевизионный пульт. Квадратная, гладкая и огромная, как каток, поверхность телевизора налилась голубым светом, который моментально трансформировался в мечущихся и орущих людей, играющих в мяч.
Телеканал «Спорт», конечно же!..
Сейчас он повернет за угол и…
Он повернул, поднял глаза в длинных, прямых угольно-черных ресницах.
Погибель, а не глаза.
Погибель, погибель…
Кажется, он даже не слишком удивился. Кажется, он даже обрадовался.
– Привет! – сказал он. – Хорошо, что ты здесь. Нам как раз поговорить бы надо.
– …внезапная смерть тридцативосьмилетнего Владимира Разлогова полностью парализовала деятельность компании «Эксимер», – бойко говорила в телевизоре красотка Катя Андреева. – Владимир Разлогов, возглавлявший «Эксимер» последние четыре года, скончался на минувшей неделе от сердечного приступа у себя на даче. Напомню, что «Эксимер» объединяет несколько химических предприятий, выпускающих продукцию, в том числе и стратегического назначения…
Глафира нашарила пульт и выключила звук. Красотка Андреева продолжала что-то говорить, но, слава богу, уже неслышно.
Глафира посмотрела сначала в пол, а потом на стену. И пол, и стена были обыкновенные, привычные.
Владимир Разлогов, о смерти которого сообщили в новостях, приходился ей мужем.
Посмотрев в стену еще немного, она поднялась и, по-старушечьи шаркая ногами, вышла на террасу.
Осень шаталась по саду, путалась в деревьях, шуршала листьями. Лужи на дорожках морщились от ветра. Гамак, который позабыли снять, качался между соснами, то появляясь, то пропадая, как привидение.
Если бы не случилось несчастья с Владимиром Разлоговым, гамак бы уже убрали и лужи разогнали с дорожек.
Глафира постояла немного, морщась от ветра – как лужа! – спустилась со ступенек и пошла.
Ноги в золотистых, легкомысленных, изящных и черт знает каких шлепанцах моментально вымокли. От холода Глафира поджимала пальцы с накрашенными ноготками.
Ноготки были розовыми, глянцевыми и немного торчали из пляжных шлепанцев, которыми Глафира загребала воду из луж. Она накрасила ногти на руках и ногах розовым лаком, потому что они с Владимиром Разлоговым собирались на море.
– Что-то устал я, – сказал он, приехав однажды с работы, – сил моих нет. Поедем на море?
– Поедем, – согласилась Глафира.
Надо отдать ему должное, приличий он никогда не нарушал – своих барышень в дом не водил и на курорты с ними не таскался. Мало ли, вдруг там знакомые, на курорте-то?!
Глафира накрасила ногти розовым лаком, купила дикие леопардовые босоножки и сарафанчик с бретельками в «цветах сезона», чтобы не ударить лицом в грязь и не подвести Владимира Разлогова – вдруг там знакомые, на курорте-то!
Осень дунула ей в лицо, как будто припудрила дождевой пылью. Глафира зажмурилась и потрясла головой, словно усталая лошадь. На участке никого не было, Глафира выставила всех вон. Можно никого не опасаться, не «делать лицо»! Она шагнула с дорожки в пожухлую мокрую траву и пошла, загребая шлепанцами.
Сосны шумели в вышине неодобрительно, гулким осенним шумом.
Наверное, нужно уехать в город. Наверное, следовало сделать это сразу после того, как она вернулась… оттуда. Наверное, не стоит бродить по лужам в нелепых леопардовых пляжных босоножках!..
Глафира дошла до сосны, положила обе руки на ее мокрый темный шершавый бок, подняла голову и долго смотрела вверх. Когда голова закружилась, перестала смотреть.
Владимир Разлогов поступил с ней ужасно. Впрочем, не с ней одной! Ему наплевать на окружающих! То есть было наплевать, конечно. Вот и работа компании «Эксимер» парализована!
Тут Глафира засмеялась, и смеялась довольно долго. Хорошо, что она выставила всех вон и никто не слышит, как она смеется! А что прикажете делать?.. Плакать, что ли?!
Телефон зазвонил, и она удивилась – ей казалось, что в этой странной, другой жизни, где она бродит в пляжных шлепанцах по осеннему саду, телефон звонить не должен. Хотя он только и делал, что звонил, и каждый раз она вяло удивлялась.
– Але?
– Глафира Сергеевна, Дремов беспокоит. Разрешите прежде всего выразить вам глубочайшие соболезнования по поводу кончины нашего дорогого…
Очень дорогого, вставила Глафира беззвучно. Наш дорогой – бриллиантовый! – Разлогов столько тебе платил, что впору не соболезнования выражать, а пойти и повеситься.
Но Дремов, по-видимому, вешаться не собирался, был печально деловит и трагически озабочен.
– Глафира Сергеевна, всей душой осознавая, как вам тяжело, я все же хотел бы, чтоб вы обозначили – хотя бы прикидочно! – сроки, в которые мы с вами можем встретиться.
Глафира вновь подняла голову и смотрела на сосны, которые все качались и качались в вышине, а юрист все гудел и гудел в трубке, безостановочно, как овод над коровьим хвостом.
– …некоторые обстоятельства! Боюсь, вам придется лично заниматься этим вопросом или делегировать полномочия…
В конце концов Глафире он надоел, и она попыталась остановить басовитое гудение.
– Это срочно?
Овод, совсем было пристроившийся к коровьему хвосту, неожиданно смолк. Глафира ждала. Овод помалкивал настороженно, ворочался на том конце телефонной линии, топырил слюдяные крылья.
– Глафира Сергеевна, я не смею настаивать, понимая ваше состояние…
Состояние в мильон, беззвучно добавила Глафира.
– …но тем не менее хотелось бы повстречаться в обозримые сроки. Дело в том, что у Владимира Андреевича, к сожалению, остались незавершенные дела. Его кончина была столь неожиданной…
– Через две недели, – твердо сказала Глафира. – Ваши дела терпят две недели?
– Две недели?! – ужаснулся юрист и опять загудел, как овод: – Голубчик, это слишком долго, невозможно долго! Поймите, при всем сочувствии к вам я не могу столько ждать…
– Две недели, – повторила Глафира твердо. – Раньше я не могу.
Подумала и добавила, подпустив в голос слезинку:
– Он же умер! Понимаете, умер!
Это прозвучало на редкость фальшиво, но овод-Дремов никакой фальши не заметил.
Интересно, что за проблемы были у моего благоверного, равнодушно подумала Глафира, распрощавшись с юристом. И как они меня касаются?..
Телефон опять зазвонил, и она опять вяло удивилась.
– Глаша, это я, – произнес ей в ухо Андрей. – Глаша, я только прилетел, я ничего не знал! Вот сейчас в «Новостях»…
Глафира слушала и кивала, как будто он мог ее видеть.
Ну конечно, не знал. Ну конечно, только прилетел. Ну конечно, «держись, хорошая моя девочка»!
Я держусь. Собственно, ничего не происходит.
– Как ты там, маленькая? Как ты… пережила?
– Что, Андрюш?
– Да все! Похороны, речи, всю эту… чушь собачью?
– А ничего не было.
– Как… не было?
– Так, не было. Его увезли в Иркутск, он же оттуда родом, и все. На похоронах никого не было, я не разрешила. Я… только что вернулась.
– Почему ты мне не позвонила?! Я бы сразу прилетел. С кем ты там, Глаша? И где?!
– На даче.
– Почему не в Москве?! Он же, насколько я понял, как раз на даче и… и ты там…
– Я здесь, – согласилась Глафира.
Почему-то именно сейчас, «в эту трудную минуту», как пишут в плохих романах, ей не хотелось с ним разговаривать.
– Я немедленно приеду, – решительно заявил Андрей, разговаривать с которым ей нынче почему-то не хотелось, – это ужасно, что ты там одна! Можно мне приехать?..
Если бы он не спросил, она бы не сопротивлялась, конечно. В конце концов, надеяться ей больше не на кого, только на него, на Андрея! Но он зачем-то спросил – можно? – и она ответила:
– Нет.
Он опешил:
– Что – нет?
– Нет – значит нет, – пояснила Глафира безмятежно. – Нет – значит не приезжай, Андрюша.
Он помолчал, и молчание его выражало недоумение и огорчение. Он умел хорошо, выразительно молчать.
– Глаша, – начал он осторожно, – что происходит?
Ей стало смешно, и она засмеялась. Вот действительно!.. Что происходит?..
– Ничего не происходит, – сказала она весело. – Просто у меня муж помер, и я его только что похоронила… Я как раз с похорон прилетела, я тебе об этом уже сообщила!
– Я не виноват, что он помер, Глаша.
– Конечно, нет, – успокоила его она, спохватившись.
Раз от раза она как будто забывала эту его черту и потом вспоминала – с огорчением. Во всем и всегда он искал виноватых, кажется, с единственной целью – установить, что он не виноват. Никогда. Ни в чем.
– Никто не виноват, Андрюша, – повторила Глафира задумчиво. – Я одна виновата.
– Ты что, с ума сошла?! Чокнулась от горя?! Ты-то в чем можешь быть виновата?!
– Да во всем, – твердо сказала Глафира, и он через свою трубку, прижатую к уху, вдруг почувствовал, как далека она от него и как стремительно удаляется, исчезает, вот-вот совсем исчезнет.
Он не обладал чрезмерным воображением, но эту картину увидел всерьез, на самом деле, и она его напугала.
Что он станет без нее делать?! Как жить?! Чем и для чего?!
Сделав над собой усилие, он разогнал туман, в котором она исчезала.
Какая-то чепуха на постном масле. Почему он должен что-то такое делать… без нее?! В конце концов, никаких препятствий теперь вовсе не осталось. Муж – главное препятствие! – взял да и помер, неожиданно для всех. Это он хорошо придумал. Освободил. Разрубил узлы.
Мысль была настолько… стыдной, что Андрей заговорил быстро и горячо:
– Короче, я сейчас приеду! Чего там сидеть, на этой даче! Я тебя отвезу к маме, по дороге мы где-нибудь поедим, и ты мне все расскажешь.
– Андрюш…
– Надо было сразу мне позвонить, я бы прилетел!
– Ты это уже говорил.
– Глафира! Что с тобой?!
– Ты это уже спрашивал.
Он растерялся. Переговоры зашли в тупик. Вернее, пошли по кругу. Это он уже говорил, а об этом уже спрашивал…
– Короче, я сейчас буду, – объявил он, запутавшись между кругами и тупиками.
За спиной у Глафиры вдруг что-то с силой бабахнуло так, что эхо прокатилось над соснами, она вздрогнула и уронила телефон со смятенным Андреевым голосом внутри.
И медленно оглянулась.
Странное дело. Дверь на террасе, двустворчатая, высоченная и тяжеленная, которую Глафира оставила нараспашку, теперь была наглухо закрыта.
Но она не может закрыться… сама по себе!
Она специально сделана с какими-то «стопорами» и «упорами», чтобы случайный сквозняк не мог ее захлопнуть!.. Разлогов говорил, что, если такими дверьми хорошенько хлопнуть, ровно половина участка окажется засыпанной битым стеклом.
Извержение вулкана Везувий. Гибель Помпеи.
Позабыв про телефон, Глафира быстро пошла к дому. Поскользнулась на жухлой траве и чуть не упала.
Сердце сильно колотилось, и ладони вспотели. Сосны шумели в вышине, и их шум вдруг показался Глафире угрожающим.
Перед террасой, спускавшейся в сад широкими пологими ступенями, было светлее. Глухие заросли жасмина и старой сирени отступали к беседке и мангалу, которым Разлогов очень гордился и даже на работу не ездил, когда его устанавливали, – наблюдал и помогал класть печь, это Разлогов-то!..
Шлепая нелепыми тапками, Глафира взобралась по ступеням на террасу и потянула на себя дверь. Дверь не шелохнулась. Глафира перевела дыхание, зачем-то подергала холодную и влажную ручку и опять потянула.
Так, спокойно. Она не может захлопнуться – «стопоры», «упоры» и всякое такое…
Эту дверь закрыть и запереть можно только изнутри.
Изнутри… Изнутри…
Глафира скатилась со ступеней, оступилась, шлепанец свалился с ноги. Бежать в одном было неудобно, но она бежала.
Были еще два входа – со стороны ворот и подъездной площадки, и в цокольный этаж вела отдельная дверца, которой пользовался в основном садовник Юра, а зимой голый Разлогов сигал из нее в сугроб, насидевшись до обморока в сауне.
Глафира точно знала, что обе эти двери заперты, но все же бежала.
Парадный вход в ее – в разлоговский! – дом был закрыт наглухо.
Его не открывали с того самого дня, когда она, Глафира, приехав домой, нашла на полу в гостиной Разлогова. Беломраморное нелепейшее крыльцо с балюстрадой было застлано мокрыми листьями, которые никто больше не убирал.
Глафира навалилась на дверь, но что толку наваливаться!..
Внезапно ледяной и плотный ветер как будто кинулся холодом ей в лицо, раскидал волосы, обдал горящие щеки, и листья полетели под ноги, как карты из рассыпавшейся колоды.
Глафира замерла.
Там, в доме, кто-то ходил. Неясная тень прошла в окне, Глафира видела ее смутное шевеление. С улицы казалось, что в доме темно, но все же тень шевелилась – совершенно отчетливо!
– Господи, – пробормотала Глафира, и зубы у нее стукнули.
Два стрельчатых окна гостиной выходили на парадное крыльцо по обе стороны высоченной готической двери, и там, за этими окнами, кто-то чужой ходил по ее дому!
Он, этот чужой, запер двери и теперь хозяйничает там, внутри!..
Он, этот чужой, знает, что у дома больше нет хозяина, а Глафира не в счет! Ее можно оставить на улице, запереть у нее перед носом двери, только и всего!..
Конечно, безразличие и апатия последних дней, когда Глафира целыми часами сидела в кресле и смотрела в стену, рано или поздно должны были закончиться. Они и закончились – в эту самую секунду.
Зарычав от бессильного бешенства, Глафира голой ногой стукнула дверь – та даже не шелохнулась, – скатилась с крыльца и помчалась к гаражу – где были сложены кирпичи, с тех самых пор, как возводили мангал и беседку. Она разобьет окно, влезет в дом и разберется со всеми тенями, которые шатаются там, внутри! Никто не смеет без спроса влезать в ее дом!
Трава была скользкой и мокрой, и оставшийся на ноге шлепанец ей очень мешал, на ходу она его скинула, и он улетел куда-то в сторону дрожащих от ветра облетевших кустов жасмина.
Есть же еще одна дверь! Я совсем про нее забыла.
С кирпичом в руке Глафира повернула за угол, к клумбам и альпийской горке, над которой смеялись все разлоговские гости. Горки давно вышли из моды, но Разлогову было наплевать. Ему очень нравилась его горка.
Глафира проломилась через горку, осыпая камушки и ломая стебли еще оставшихся цветов, выскочила на плитку и уже взялась рукой за кованую решетку, ограждавшую несколько ступеней в цокольный этаж, но потянуть дверь не успела. Что-то с силой дернуло ее за волосы, она взвизгнула, отшатнулась, присела от боли, и тут как будто камни обрушились на нее с вершины горы.
Больше она ничего не видела.
Больше всего на свете Андрей Прохоров ненавидел автомобильные пробки, бесталанных журналистов и гламурных барышень.
В пробках он зверел, матерился, тыкал в кнопки приемника, и от речей и песнопений, которыми разражался приемник, зверел еще больше.
…губернатор…кской области поздравил ветеранов с годовщиной битвы под… Эта волнительная встреча проходила в только что открытом в областном центре ледовом дворце…
…а я стою у окна, за горизонтом весна-а, а я одна и одна-а, ла-ла, ла-ла!
…расценивает происходящее событие с точки зрения рядовых граждан, для которых характерна именно такая точка зрения, о которой я сейчас говорю, а навязывать им другую точку зрения вопрос не простой, и мы, депутаты, обязаны, так сказать, в общем и целом разделять точку зрения нашего народа, даже если она где-то расходится с нашей личной точкой зрения.
…а в небе луна, и она не права, это была не я, я похожа на волка и слегка на тигрицу, ламца-дри-дри-дрица, вою я на дверь, вою я на дверь!..
…вчера наши ребята особенно отличились в матче с Новой Гвинеей. Несколько особо опасных моментов сложилось во втором тайме, когда вратарь гвинейцев отбил мяч и упал, а добить его было некому…
И так везде, и так повсюду, и каждая кнопка приемника – как дырка в чьем-то болезненном, извращенном сознании, и через эту дырку вырывается, посвистывая, нечто серое, бесформенное, но очень заразное, как это полюбившееся всем в последнее время слово «волнительно»!
Нет такого слова! Не существует его в природе!
Бесталанных журналистов Андрей Прохоров терпеть не мог, потому что в основном с такими ему и приходилось работать.
Андрей Прохоров был главным редактором журнала.
Свой журнал он любил, но сотрудников подчас ненавидел. Половина из них была уверена, что Бен Гурион связан кровными братскими узами с Бен Ладеном, и оба эти «Бена» еще как-то связаны с самолетами и аэропортами. Другая половина в текстах употребляла выражения типа: «Несколько теплых слов», «умные руки хирурга», «усталые, но довольные глаза губернатора», «стол ломился от изобилия и гостеприимства».
С этим ничего нельзя было поделать.
– Как вас учат?! Чему вас учат?! – гремел главный редактор на летучках и напрягал очередным шедевром. – Что это такое – премьера прошла при большом скоплении истеблишмента и селебритис? Какое такое «скопление истеблишмента», а?! Научитесь сначала слова различать, а потом лезьте в журналистику!
Подчиненные отводили глаза, сопели, ерзали, но писали по-прежнему плохо, глупо, топорно! Совсем никудышных Прохоров увольнял, приходили следующие, и все начиналось сначала.
Гламурные барышни тоже некоторым образом являлись частью его работы, и это была самая трудная и нелюбимая ее часть. Время от времени о них приходилось писать, и… – боги, боги! – что это были за материалы. Барышень, как правило, Андрею «заказывали» – за деньги, по дружбе или за «просто так».
«Просто так» – это когда звонил издатель и говорил:
– Старина, нужно, понимаешь, одну лебедушку в плавание пустить! Сделаешь?..
«Стариной» издатель называл Прохорова всегда, как будто не мог запомнить его имя.
«Лебедушками» были все барышни без исключения. Им могло быть двадцать лет, а могло и сорок, они могли трудиться в поте лица на ниве журналистики или дизайна, а могли просто украшать собой жизнь какого-нибудь хорошего и небедного человека. Они могли проживать в Горках-Вторых или в небольшой, всего сто восемьдесят метров, квартирке-студии на Моховой. Какая разница… Лебедушка, она и есть лебедушка. Андрей никогда не вникал, какой интерес у его издателя именно к данной лебедушке, хотя тот иногда пытался объяснять, и объяснял так путано и туманно, что Андрею в конце концов становилось смешно.
По дружбе и за деньги заказывали материалы про новых жен, про потенциальных или уже состоявшихся любовниц и – очень редко! – «про сестру моего армейского кореша».
– Кореш – правильный пацан, у него сеть спортивных супермаркетов «Кросс», знаешь? И сеструха подросла, классная деваха, сейчас свою линию одежды хочет создать! Помоги по дружбе, а?..
Андрей «помогал», но такого рода материалы были до крайности однообразны, похожи друг на друга, как голландские розы в букете, а потому скучны до зубовного скрежета.
Гламурной барышне полагалось три профессии на выбор – дизайнер, продюсер или журналист. Эта последняя иногда трансформировалась в «телеведущую», хотя Андрею Прохорову за семь лет на посту главного редактора так ни разу и не удалось увидеть, чтобы «телеведущая» хоть что-нибудь хоть куда-нибудь вела. Интервью формировалось в основном в зависимости от места, оставшегося под фотографиями.
Фотографий полагалось по две на каждый из исторических моментов жизни «звезды». Вот «школьные годы чудесные» – очаровашка в бантах и локонах – первый раз в первый класс, и та же очаровашка в локонах и декольте на выпускном балу. Вот «дебют» – очаровашке непременно вручают какой-то диплом на какой-то сцене. Тоже две фотографии, непосредственно с дипломом и с тем же дипломом, но рядом с каким-нибудь «узнаваемым лицом» – Андреем Малаховым, Павлом Астаховым или Дмитрием Гориным. Как правило, «узнаваемые» на таких фотографиях смотрят в сторону, и вид у них неуверенный, словно они до конца не понимают, что происходит. Обязательной была также пара изображений в купальнике, в одиночестве или в обнимку с бойфрендом, который, собственно, материальчик и оплачивает. Ну и конечно, «в интерьере». Те самые Горки-Вторые или квартира-студия на Моховой – стеклянные стены, черные полы, похожие на асфальтовые, светильники в виде пауков, деревянные стулья, приколоченные ножками к потолку, свечи, непременно белые, красные и черные, в неправдоподобно огромных стеклянных колбах. Просторы, ломаные линии, хромированные поверхности, босые ноги очаровашки, попирающие лохматый ковер, непременно белоснежный. Необъятное озеро гигантского монитора, лучше всего с символикой «Apple». И нигде ничего похожего на… обычную жизнь. Ни книг, ни брошенных кофейных чашек, ни надкушенной булки.
Гламурным барышням не полагается жить обычной жизнью и откусывать от булки!
Андрей, конечно, ставил такие материалы – а куда денешься-то?! – но старался делать это не слишком часто, чтоб уж очень-то не ронять престиж журнала, и под каким-нибудь приемлемым соусом. Ну то есть вроде бы материал про престижную бизнес-премию, а тут, как рояль, или лучше сказать, балалайка, в кустах – ать, и барышня! И говорит в том смысле, что очень хотела бы эту премию получить, когда ее, барышнин, бизнес уже выйдет на международный уровень!
Сегодня с самого утра, едва вернувшись в Москву, он получил все удовольствия сразу – и пробки, и мелкий моросящий дождь, и очередной шедевр про очередную светскую львицу. У этой даже профессии никакой не было, зато все время повторялось, что она – именно львица.
– Точно львица? – спросил Прохоров у Дэна Столетова, который писал текст. – Ну в смысле не тигрица?.. Не пума? Не снежный барс? Или как ее тогда… барсица? Барсетка?
Дэн Столетов, сообразивший, что дело клонится к скандалу – или пахнет керосином, кому как больше нравится, – коротко вздохнул, положил ногу на ногу и независимо посмотрел в стену.
Вы можете кричать тут хоть до ночи, а материал в набор ушел давно – вот что означал его вид, и Прохоров это прекрасно понял.
– Кто хоть она такая, Дэн? Чья?
Журналист, ожидавший грандиозного скандала, – материал был плох, и он отлично это знал! – немного приободрился.
– Так это… А вы что, забыли, Андрей Ильич? Это новая пассия Разлогова!
Андрей Прохоров, главный редактор журнала «День сегодняшний», выглянул из-за компьютера и уточнил совершенно равнодушно:
– Покойного Разлогова?
Все бы ничего, только ладони моментально стали мокрыми. Прохоров снял руки с клавиатуры.
– Ну да! – радостно подтвердил Дэн Столетов. – Это еще до вашей командировки было! Ну мы тогда смеялись на летучке, помните? Что у Разлогова они с каждым годом все моложе и все краше!..
На летучке смеялись над Разлоговым, а в курилке смеялись над Прохоровым, который, с одной стороны, амурничал с разлоговской законной супругой, а с другой стороны, за денежки пиарил разлоговских телочек!
Чем не жизнь! Хорошо шеф устроился, грамотно.
Прохоров поделал руками непонятные пассы, как бы ища на столе сигареты. Ясное дело, не нашел и полез в карман пиджака, сначала в один, потом в другой. Время таким образом было выиграно. Несколько секунд, чтобы все осознать.
Да, конечно. Полтора месяца назад позвонил издатель, сообщил про очередную «лебедушку».
– Это для Володьки Разлогова, – поделился издатель доверительно. – Хороший парень, умница и деловой! В общем, сделай все как надо, старина. Даже лучше, чем надо, сделай!
Прохоров пообещал, что все будет в лучшем виде, и тут вдруг издатель захохотал, как будто вспомнил нечто приятное.
– Помнишь, ты про его жену материал ставил? Ну Глафира Разлогова!.. Такая… фактурная такая! А теперь вот про подружку!
Андрей распорядился относительно «подружки».
Пока он был в командировке, Разлогов умер, его вдова куда-то подевалась, оказалось, что она летала его хоронить, а подружка «ушла в набор».
– Вы фотографии-то видели? – подал голос Дэн Столетов. В голосе сквозило ехидство. – Сапогов снимал, отлично получилось!
Прохоров, отмахиваясь от собственного сигаретного дыма, пощелкал мышью, полистал туда-сюда.
М-да. Получилось действительно отлично.
Беловолосая львица – снежная барсица – была представлена во всех необходимых для такого материала ипостасях. Тут были и балы выпускные, и, так сказать, «впускные», и светские рауты, и «домик в деревне» – особняк с белыми колоннами, – и океанский простор, и песок на загорелой коже, и сам Разлогов, прищурившийся и раздраженный, на заднем плане.
– Эту тоже поставили?! – Прохоров ткнул сигаретой в монитор. – А, Дэн?
– Какую? – Столетов рысью обежал стол и засопел у Прохорова над ухом. – А… ну да! А что, Андрей Ильич? Разлогов уже того… ну, в смысле, ему все равно, а фотография красивая такая, из ее личного архива. Ей, наверное, приятно будет… Напоследок на него в журнале посмотреть…
Прохоров опять пролистал фотографии туда-сюда.
Сапогов постарался, это точно! Классные фотографы иногда позволяют себе такое. Умеют. Могут.
Все вроде хорошо и правильно. И красота вроде налицо, и вроде необыкновенно красивая красота! И пейзажи расстилаются, и наряды развеваются. Все как надо.
Но… лучше не надо, ей-богу!
Что-то эдакое фотографы умеют то ли подчеркнуть, то ли выделить, то ли затемнить, но общее впечатление получилось однозначным и убийственным. Фальшь. Сплошная фальшь.
Длинные белые волосы – хорошо, если крашеные, а не накладные! Бюст – два кубометра силикона, гадость какая. Пухлые зовущие губы пошлы и развратны. Дом с колоннами – съемная хата для дорогих проституток, ничем не лучше вокзальной ночлежки, разве что почище. Никакого цельного образа – львицы, тигрицы или просто красивой девушки – нет и в помине. Все отдельно, вразнобой, разобрано по деталям, и эти детали отвратительны.
М-да…
Дэн Столетов все сопел за плечом, видимо, был в восторге от их общей с Сапоговым придумки.
– Это нельзя ставить, – тихо и грозно сказал Прохоров и, оглянувшись, очень близко посмотрел в мальчишеские шоколадные глаза журналиста. – Ты что, не понимаешь?
Дэн отшатнулся и сразу заскулил, как мелкий жулик, пойманный за руку в чужом кармане.
– Не, ну при чем тут?! Андрей Ильич, я тут ни при чем! А вам что, фотографии не нравятся?
– Мне ничего не нравится! – рявкнул Прохоров. – Отзывай материал из набора! Где Феофанов, мать его!
Феофанов сегодня был дежурным редактором.
– Да как его отзывать, он же проплатной, – по инерции бормотал Дэн Столетов, – и чем мы место забьем, три полосы…
– Не твое собачье дело!.. Галя! – заорал Прохоров в селектор. – Галя!
Селектор не отзывался, и главный вновь повернулся к корреспонденту, который на всякий случай отодвинулся подальше.
Ишь, как взбеленился! Должно быть, из-за разлоговской вдовицы! Не хочет, должно быть, покойнику посмертную репутацию портить, хотя больше уж не испортишь!
Стеклянная дверь распахнулась, открылся редакционный коридор, залитый синим офисным светом, и всунулась секретарша. Прохорова всего перекосило.
– Где тебя носит, Галя?!
– Что вы хотели, Андрей Ильич?
– Феофанова я хотел! И хочу!
Секретарша помолчала, выполнять приказание не кинулась.
– Что непонятно, Галя?! Если главный редактор просит срочно найти сотрудника, значит, нужно срочно найти, Галина!
Секретарша пожала плечами совершенно хладнокровно.
– Постараюсь, Андрей Ильич.
И закрыла дверь. Главный и корреспондент уставились друг на друга.
Ой что будет, со сладким ужасом подумал корреспондент.
Ой что сейчас будет, мрачно решил про себя главный.
Извержение вулкана Везувий. Гибель Помпеи.
Дверь распахнулась, и влетел Феофанов, худой, нервный и издерганный. Он ничего не понимал и вины за собой никакой не чувствовал.
Ну был материал про какую-то Олесю Светозарову, все по договоренности, как заплатили, три полосы, восемь фотографий, полный цвет! Что не так-то?
– Вернуть из набора! – загремел Везувий. – Ты что, Феофанов? Фоток не видел?! И Разлогов перекинулся, а за материал этот он платил!
– Да все проплачено вперед, Андрей!
– И х… с ним! Это неприлично просто, ты чего, не догоняешь?! Он там есть, в материале!
– Кто?!
– Разлогов, мертвый! То есть тогда еще живой!
– И чего?!
– Он помер, а мы его живого ставим, да еще с бабой! Меняй материал, Феофанов! Кому говорю!
Тут дежурный редактор посмотрел на главного как будто с сочувствием и сказал осторожно:
– Андрюш, ты там, в своей… Венесуэле, счет дням потерял. Сегодня уже… десятое, а не восьмое и не третье. Тираж в типографии, вечером продаваться будет…
Дэн Столетов замер, и рот у него приоткрылся, как у идиота. Сегодня и вправду десятое, елки-палки! Это что значит? Зарплата скоро, вот что это значит!
А тираж и впрямь почти в продаже!.. Изменить ничего нельзя.
И тут, словно в подтверждение того, что ничего уже не изменить, за матово-стеклянными стенами кабинета главного пронеслась какая-то тень, ломающаяся на углах и стыках, а за ней еще тени, погуще и пожирнее, и только потом добавились шум, гул и топот, и Феофанов изумленно поднял брови, а Дэн Столетов вытянул шею.
– Остановитесь! Остановитесь, кому говорю!
– Девушка! Девушка, предъявите паспорт!
– Задержите ее! Стой, стой!
Прохоров быстро пошел к двери, но она сама распахнулась ему навстречу, и в кабинет ввалилась целая толпа.
– Что?! Что происходит?
Дэн Столетов – из соображений безопасности! – юркнул в открытую балконную дверь и там затаился.
– Андрей Ильич, мы ничего не могли… – начал один из ввалившихся охранников. Он с трудом дышал и вращал глазами. – Ну не бить же ее, Андрей Ильич!
– Я требую разбирательств! – собравшись с силами, вдруг закричала платиноволосая тоненькая девушка, и секретарша Галя отшатнулась в сторону. – Я в милицию заявление напишу! Вы что, не понимаете, что это уголовное дело?!
– Мы ничего не могли, Андрей Ильич, ничего! Ну не бить же, на самом деле…
За матовой стеной кабинета было черным-черно от собравшегося в коридоре народа.
Прохоров хотел что-то сказать и осекся. Дэн Столетов потихоньку выбрался из-за балконной двери. Тоненькая девушка продолжала бушевать.
– Если это подтвердится, если только подтвердится, вы все, – тут она ткнула охранника пальцем в грудь, – пойдете под суд! И вы тоже!
Это она выкрикнула в лицо Прохорову, и Дэн Столетов с холодеющим, как в минуты сильной опасности, сердцем узнал в ней героиню сегодняшнего злополучного материала, любовницу покойного Владимира Разлогова Олесю Светозарову – львицу или тигрицу, у которой он сам две недели назад брал интервью.
Тут она вдруг заметила Дэна и пошла на него, замахиваясь смешной крошечной сумочкой. Глаза у нее налились слезами.
– Это ты, ты! Куда ты его дел?!
Дэн попятился, зацепился за стул и с размаху сел на пол. Стул покачнулся, не устоял и тоже рухнул. Дэн взвизгнул от боли – стул ударил его по коленке, больно.
– Ти-хо! – гаркнул Прохоров, про которого все забыли, и вдруг наступила тишина. Только сопели охранники и всхлипывала девушка. Даже в коридоре стало необыкновенно тихо.
– Что случилось? – среди этой тишины спросил Прохоров. – Вы ведь… госпожа Светозарова, если не ошибаюсь?
– Да, да! – закричала девушка. – Не ошибаетесь! Ваши… ваши… бандиты брали у меня интервью. И особенно этот!
Она вздернула подбородок и им показала на Дэна. Видимо, хорошие манеры не позволяли ей показать пальцем.
– А еще про маму мою спрашивал, мерзавец!
Прохоров растерялся:
– Почему бандиты?! Почему мерзавец, госпожа Светозарова?! – Он быстро взглянул на Дэна. – Это… наш корреспондент, Денис Столетов, и никакой он не…
– Он вор, нет, он грабитель! – завизжала девушка. – Пока один фотографировал, другой грабил!
Все посмотрели на Дениса Столетова, который ничего не понимал.
– Я вор? Я грабитель? – переспросил он и вдруг улыбнулся на одну секунду доброй мальчишеской улыбкой. А потом побагровел до ушей, до корней волос. – Я у вас украл?!
– Или ты, или тот, второй, – выпалила девушка. – Ну что ты на меня смотришь?! Ты думал, я никогда не хвачусь, да?!
– Что у вас украли?! – Это Прохоров вступил. – И почему вы уверены, что украли именно… мои люди?
Девушка открыла свою крохотную смешную сумочку – руки у нее сильно тряслись – и достала пакетик с салфетками. Открыть его у нее получилось не сразу.
Все стояли и смотрели, ждали, пока она откроет.
Зарычав, она разорвала пакетик и выхватила салфетку.
– У меня украли перстень, – отчеканила она и приложила салфетку к лицу. – Очень дорогой, вы даже не можете себе представить, насколько! И это не просто перстень! Это подарок самого близкого человека, и перстень пропал! А человек умер! Понимаете, умер! И он подарил мне кольцо, а эти… сволочи его стащили!
Прохоров невольно покосился на Дениса, и тот, залитый тяжелым, жгучим, температурным румянцем, забормотал по-детски:
– Я не брал… Я ничего не брал, Андрей Ильич, правда…
– Девушка, милая, с чего вы решили, что…
– Я вам не милая! – прорыдала милая девушка из-за своего скомканного бумажного платка. – И не смейте так говорить! Я точно знаю, что это они утащили!
– Да почему?!
– Потому что мы разговаривали в алькове. – Она так и сказала «в алькове». – А туда никто из посторонних никогда не заходит! Даже слуги!
Она так и сказала «слуги», и Галя, секретарша, вдруг стрельнула в нее глазами и усмехнулась недобро.
– Так, хорошо, – быстро подхватил Прохоров, – слуги не заходят, и дальше что?!
– Дальше они сказали, – снова подбородок вперед, в сторону Дэна Столетова, – что нужна интимная обстановка! Что чем интимней, тем лучше! Ну для интервью лучше! И для фотографий, чтоб красиво было. Ну я их и пригласила в альков!..
Прохоров вдруг как будто очнулся, оглянулся по сторонам – неистовое, первобытное, жаркое любопытство истекало из горящих глаз, сочилось с полуоткрытых губ, собиралось и закручивалось в смерч, в центре которого были Прохоров и красотка.
– Я прошу всех немедленно выйти, – тихо и твердо сказал Прохоров.
И, чуть повысив голос:
– Пожалуйста, без дискуссий!
Ясное дело, никто не двинулся с места – еще бы!..
– Я заявление в милицию напишу, я всем газетам расскажу! А тебя, гаденыш, я своими руками!..
Нет, решил Прохоров, дело так не пойдет! Мягко, но твердо он взял обоих охранников за надувные резиновые плечи, развернул к двери и подтолкнул. Охранники переступили слоновьими ногами, и дальше дело застопорилось. Прохоров кивнул Гале, рывком поднял валявшийся на полу стул и так, со стулом в руках, пошел на журналистов. Умная Галя раскинула руки, как наседка крылья, и тоже двинулась на толпу.
Девушка всхлипывала и порывалась вцепиться в волосы Столетову, а тот отмахивался от нее, как от мухи, делая нелепые пассы руками.
В несколько приемов, не сразу, Гале с Прохоровым удалось вытолкать всех за дверь – теперь темная туча народа за матовым стеклом выглядела угрожающе, как грозовая.
Галя оглянулась, и Прохоров велел:
– Воды принесите!
Секретарша кивнула, зачем-то осмотрела кабинет, шагнула вон и плотно прикрыла за собой дверь. Шум голосов отдалился и звучал теперь смутно, как раскаты дальнего грома. Гроза, гроза прошла…
– Зна-чит, аль-ков, – почти по слогам выговорил Прохоров. – Да встань ты уже, Дэн!
Столетов посмотрел, не сразу сообразив, чего от него хотят, а потом все же поднялся.
– Ну да, да, альков, – заговорила девушка с ожесточением, – у меня там был перстень. Ну тот самый, который Володя подарил, он в специальной коробочке лежал, а они его сперли! Я это дело так не оставлю! Я в милицию пойду!
– А что такое альков? – задумчиво уточнил Прохоров. – А?..
– А?! – повторил Дэн.
Девушка громко высморкалась в скомканный платочек.
– А это у меня в доме такой… будуар, – выдала она. – Он примыкает к спальне и к гардеробной, и я никому не разрешаю туда заходить, даже горничной.
– Альков и будуар, – повторил Прохоров. – А там у вас что? Сейф?
– У меня вообще нет сейфа! И перстень просто так лежал, в коробочке, а потом пропал! А я только сегодня обнаружила! Потому что я его и не надела ни разу, только на съемку! Которую вот эти двое делали! Они сказали, что в алькове будет лучше всего!
– Дэн, чего вас понесло-то с Сапоговым?! В альков им захотелось! Девушка… Олеся, вы перстень в последний раз видели именно на съемке? И больше нет?
– Я его сняла и положила в коробочку после первого «лука». На второй «лук» мы в гостиную перешли, к камину. Я хотела потом проверить, но, просто… Володя приехал, а потом он уже… умер, и я вспомнила про перстень только сегодня. Полезла, а его нет! Его никто, никто не мог взять, кроме этих двух!..
– Да не брали мы ничего, Андрей Ильич!
– А что, этот будуарный альков запирается на замок?
Девушка кивнула и опять высморкалась.
– Еще на какой! Я там и пыль сама стираю, и убираюсь сама!
– Убираю, – машинально поправил Дэн Столетов, грамотей и умник, и Прохоров с девицей посмотрели на него с изумлением.
– А что? – перепугался Дэн. – Что такое? Правильно говорить «я убираю», а не «я убираюсь».
– Вот что, – вдруг решительно сказала девица, – я в милицию не пойду. Я Марку пожалуюсь. Вы знаете, кто такой Марк?
Прохоров с силой выдохнул.
– Кто такой Марк?
– Волошин. Заместитель Володин. И он, к счастью, жив и здоров! Он не оставит меня без защиты. Он знал, как Володя… как Володя ко мне относился. И он мне поможет! – Она выпрямилась и запулила бумажным катышком в урну. И не промахнулась. – Кстати, это хорошо, что вы не знаете Марка. Он человек… страшный. С ним лучше вообще… не знакомиться. И я все, все ему скажу!..
– Вы нас не пугайте, девушка… Олеся… – огрызнулся Прохоров.
Господи, еще и кольцо пропало! Прохорову уже давно нужно было позвонить, он то забывал, то вспоминал об этом!
Словно отвечая на его мысли, на столе зазвонил телефон. Совершенно уверенный, что это Галя интересуется, подавать ли кофе – или что там? Воду? – Андрей нажал на черном мигающем аппарате кнопку громкой связи.
– Але!
– Прохоров? – спросил равнодушный голос, совсем незнакомый.
Андрей перестал расхаживать по кабинету и сверху посмотрел на телефон.
И сказал осторожно:
– Да?
– Мне известно, что именно вы убили Владимира Разлогова, – продолжал равнодушный голос, как будто по бумажке читал. – Известно, за что и каким способом.
Девушка судорожно вздохнула и вцепилась тоненькими пальчиками в рукав Дэна Столетова.
– Вам надлежит обдумать эту информацию, – продолжал чеканить голос из телефона, – я сообщу вам, что хочу получить в обмен на молчание. Ждите звонка.
– Стойте! – заорал Прохоров и сорвал трубку со сверкающего черной пластмассой аппарата. – Подождите! Кто вы?!
Но в трубке только пунктирно и пронзительно гудело.
Волошин некоторое время посидел в машине. Хорошо бы так до вечера просидеть. В мире было холодно, неуютно и осенне-печально. В машине славно пахло сигаретами, играло радио, из решетки отопителя дуло ровным теплом.
Деревья качались высоко-высоко, и небо в разрывах дождевых нахмуренных облаков было очень синим. Почему такое небо бывает только осенью?..
Волошин посидел еще немного, потом вытряхнул из пачки сигарету, малодушно решив, что хочет курить. Он курил и думал, что курить вовсе не хочет. От каждой затяжки на языке оставалась тошнотворная вязкость. Листья вдруг сыпанули на лобовое стекло, должно быть, ветер принес. Волошин включил «дворники», согнал осеннюю разноцветность вниз. Один листок, самый стойкий, зацепился и теперь мотался вместе с «дворником».
Тук-тук – равномерно постукивал «дворник».
Тук-тук – постукивало в такт сердце. Оно у него побаливало последнее время.
Ну все. Хватит разводить антимонии – или антиномии, он никогда не мог запомнить! Кажется, это что-то из «большой литературы» – какой-то герой путался так же, как и Волошин, демонстрировал необразованность.
Он затолкал окурок в переполненную пепельницу и решительно выбрался из машины. Ничего не поделаешь, надо идти.
Когда Разлогов умер, было еще тепло, листва, яблоки на траве. А сейчас такая глухая безнадежная осень, как будто с тех пор прошло сто лет.
Хорошо бы с тех пор прошло сто лет!..
Волошин сунул руки в карманы и посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую. Пуста была поселковая улица. Только голые рябины дрожали на ветру и кусты сирени все сыпали и сыпали некрасивые скрученные, как будто побитые плетью листья.
…Почему так? Почему даже листья умирают по-разному? Одни – красиво, гордо и разноцветно, а другие – глупо, скрюченно, торопливо?
Волошин перепрыгнул лужу, подошел к калитке, похожей на врата готического замка, и позвонил.
Конечно, никто не ответил.
Разлоговская вдова, насколько было известно Волошину, в первую очередь выгнала всех из дома. Не осталось никого, ни водителя, ни домработницы, некому дверь открыть!..
Дура, мать ее, даже на похороны никого не пустила!..
Волошин помедлил и позвонил снова. Никакого ответа. Впрочем, ничего другого он и не ожидал.
Забор, в духе крепостной стены все того же готического замка, шпилями и башенками почти упирался в облака. Волошин поднял голову и посмотрел.
…Почему так? Почему даже в самом сером и безысходном небе всегда бывают ослепительно-синие просветы, в которых кувыркается солнце? Почему так никогда не бывает в жизни?
Шпили и башенки, а также флюгер с флагом и кошкой, выгнувшей презрительно хвост, придумал знаменитый архитектор Данилов – фантазер и эпатажник.
Разлогов с ним дружил, а Волошин был уверен, что Данилов больной.
Больной или здоровый, архитектор Данилов тем не менее спроектировал забор так, что штурмом его было не взять – надо отдать должное и Данилову, и забору. Но попасть на участок несанкционированно все же было можно. Этот способ попадания придумал сам Разлогов, который то и дело забывал ключи.
Волошин еще раз глянул по сторонам – никого – и решительно полез в заросли бузины и рябины, которыми был обсажен разлоговский участок.
Полоумный архитектор Данилов насоветовал. Сказал, что рябина с бузиной вполне средневековые деревья. Средневековые деревья осыпали Волошину на куртку и за шиворот листья и тяжелые осенние капли.
Волошин, отряхиваясь, как мокрый пес, добрался до выступа в стене, сделанного в виде башенки, и зашарил по влажным, как будто замшелым, кирпичам. Пальцы нащупали резиновый козырек, а под ним толстую упругую кнопку.
Волошин вдавил кнопку, которая важно и громко щелкнула, и стал выбираться из средневековых – вполне! – зарослей. Выбравшись, он зачем-то потопал по гравию ногами, словно вылез из сугроба, и толкнул калитку, подавшуюся удивительно легко.
Ну вот. Все очень просто.
Между деревьями виднелся дом, и – вот что хотите делайте! – вид у него был нежилой и мрачный, как будто дом знал, что хозяин больше никогда сюда не вернется.
Волошин аккуратно прихлопнул за собой калитку и пошел по веселой дорожке, вымощенной, как в сказке, желтым кирпичом. На дорожке стояли лужи.
Раньше никаких луж не было. Садовник Юра «разгонял» их длинной шваброй, и лужи весело сливались в водостоки, и листья подметали, и плитку чистили, чтобы не было «запустенья», которого Разлогов терпеть не мог.
Дом вдруг выступил из деревьев, будто шагнул навстречу Волошину – двери закрыты, в окнах темно, балюстрада парадного входа засыпана листьями.
Может, и впрямь никого нет!.. Впрочем, Волошин точно знал, что есть.
Он поднялся по широким ступеням, позвонил – дом даже не дрогнул, ничто не отозвалось за стенами из серого камня. Архитектор Данилов построил крепость в прямом смысле этого слова!
Ну что ж, попробуем с другой стороны.
Волошин пошел в обход – собственно, в разлоговский дом почти никто и никогда не заходил с парадного входа, и этот путь к двери, открывающейся в сад, был привычен и хорошо знаком.
Вон гамак между соснами. Вон проглядывает беседка, а рядом с ней площадка с островерхой печью. Здесь летом жарили мясо, пили вино и жгли костер – любимое разлоговское место. Вон на идеально ухоженном газоне навалены камни, а между камней натыканы какие-то невразумительные цветы. Разлогов утверждал, что эти цветы – вереск, а камни – альпийская горка.
Волошин вдруг улыбнулся и наступил в лужу.
Конечно, Разлогов был мужик тяжелый и неприятный, что говорить!.. Но вот горку свою любил. И костер, и горячее мясо, и собак любил тоже. По всей видимости, больше никого и ничего он не любил, но и этого вполне достаточно, чтобы оставаться… человеком.
Волошин обогнул кованую решетку, окружавшую несколько ступенек в цокольный этаж, повернул за угол и…
Вдова Разлогова лежала на нижней ступеньке широкого пологого крыльца. Обе створки стрельчатых двойных дверей за ее запрокинутой головой были распахнуты настежь. Мобильный телефон, видимо отлетевший в сторону, когда она упала, вдруг зазвонил, и Волошин первым делом поднял его и сунул себе в карман.
– Глафира Сергеевна! Але! Але! Вы живы?
Ничего глупее этого самого «але» придумать было нельзя, но Волошин не знал, как именно следует обращаться… к трупу.
…Или она пока не труп?
Он потянул ее за руку, бледную, совсем не загорелую, с голубыми прожилками вен. Рука была холодной и влажной, и Волошина чуть не стошнило от отвращения.
Неврастеник, твою мать! Слюнтяй и неврастеник!..
Но что делать, если Волошин никогда не служил в спецназе, не работал в МЧС, не ездил на «Скорой» в морг, и вообще ничего героически-показательного или показательно-героического никогда не совершал. Полжизни он учился математике, а вторую половину жизни просидел перед компьютером, и что нужно делать с человеком, который уже умер или только собирается умереть, Волошин не знал!
Пульс. Кажется, нужно щупать пульс. Для этого снова придется взяться за влажную, безжизненную руку в голубых прожилках вен.
Чужой телефон у него в кармане трезвонил, выводил незнакомую мелодию не переставая. Волошин зачем-то вынул его, посмотрел и опять сунул в карман.
– Глафира Сергеевна, вашу мать…
И взялся за ее руку, как за нечто отвратительное, змею или лягушку. И наклонился к ее лицу – дышит или не дышит?..
Вдруг на этом лице, таком же бледном и неприятном, как и рука, распахнулись глаза, мутные и страшные. Волошин отшатнулся и руку бросил. Она гулко ударилась о деревянную ступеньку.
– Вы… живы? Але!
По ее шее прошла судорога, поднялись и опали ключицы, и Глафира резко села. И в ту же секунду стала заваливаться назад и повалилась бы, если б Волошин ее не подхватил.
Он подхватил и посадил ее прямо.
– Глафира Сергеевна, что с вами?! Вам плохо?
– Хорошо.
– Что?!
Она опять гулко, с судорогой сглотнула и повторила отчетливо:
– Мне хорошо.
Придерживая за плечи, Волошин пытался держать ее прямо, но она все заваливалась.
– Вы что? Упали?
– Меня ударили.
– Кто?!
Она открыла глаза, уже не такие мутные, но все же достаточно бессмысленные.
– Кто вас ударил, Глафира?!
Словно из последних сил, она пожала плечами.
– Вы вышли из дома, и вас ударили?!
Она кивнула.
Волошин неловко, под мышки, подтащил ее к балюстраде и кое-как прислонил.
– Я посмотрю. Вы можете сидеть?
Не отвечая, она снова закрыла глаза. Он обошел ее и осторожно вошел в дом.
В огромном – на самом деле огромном! – зале на первом этаже было тепло и пусто. Волошин стремительно огляделся.
Плед на диване, забытая кофейная чашка, трубка городского телефона на полу. Волошин аккуратно поднял трубку и нажал кнопку. Трубка не отозвалась, то ли разрядилась, то ли телефон был выключен. Зато телевизор работал! По бескрайней телевизионной глади скакал Михаил Пореченков в роли агента национальной безопасности Лехи Николаева. Он бодро скакал, раскидывая врагов разящими взмахами рук и ног. Кажется, в зубах он еще держал пистолет и разил неприятеля из пистолета тоже. Спецназ ему помогал. Волошин ему позавидовал. В его распоряжении не было ни пистолета, ни спецназа.
В камине осталась гора остывшей золы, видимо, разлоговская вдова его не чистила, а дверь в кабинет была закрыта.
На стойке, отделявшей так называемую кухню от просторов средневековой залы, залежи грязной посуды, остатки какой-то еды, начатые и брошенные пачки кофе, просыпанное печенье, крошки, бумажки!..
Волошин терпеть не мог неаккуратность, особенно… женскую. Особенно такую… нарочитую, похожую на специальную октябрьскую демонстрацию для окружающих – я горюю, я страдаю, вот же и посуда не мыта, и камин не чищен!..
И, конечно, нигде никого.
Волошин взбежал по лестнице и для проформы с площадки осмотрел второй этаж, хотя что он мог увидеть?! Не обходить же все комнаты, а также третий и цокольный этажи!
Волошин вернулся на первый этаж, на ходу покосился в сторону распахнутых двустворчатых дверей, за которыми маячило нечто неопределенное – разлоговская вдова, сидевшая на ступени, – вошел в небольшую комнату рядом с кабинетом.
Здесь был «мозговой центр» замка Владимира Разлогова. Негромко гудел сервер, темнели мониторы на стене, прикрытые железной дверцей, тянулись ряды электрических пробок, сюда же сходились кабели от камер видеонаблюдения.
Неизвестно зачем Волошин пробормотал:
– Простите! – и включил ближайший монитор.
Потом следующий. Потом третий.
Затем зачем-то открыл железную дверцу, посмотрел на ряды пробок, потом распахнул длинный офисный шкафчик. На каждой полке шкафчика, один над другим, стояли системные блоки, абсолютно мертвые.
Вдова выключила сложную систему видеонаблюдения.
…Интересно, зачем ей это понадобилось? Что именно могли запечатлеть камеры, чего никто и никогда не должен узнать?
Волошин подумал немного и вышел к Глафире.
Она сидела на верхней ступеньке, сильно наклонившись вбок и опершись на локоть, голова опущена низко-низко. Волошин решил, что ей опять плохо, но оказалось, что лучше, чем было. Почти лежа щекой на широких и гладких досках, вытянув губы дудочкой, она пила из лужи.
– Глафира Сергеевна, что вы делаете?!
Она попыталась выпрямиться, не смогла, и Волошин помог ей, не без отвращения. Ну ничего он не мог с собой поделать!..
– Вы что, пить хотите?!
Она кивнула и облизала растрескавшиеся губы.
– Я принесу воды. Сидите спокойно. Или, может, вам… врача?
– Там посуда немытая, – зачем-то сказала Глафира ему в спину. – Принесите бутылку из холодильника.
Волошин принес.
Она отпила немного, а потом с заметным усилием приложила холодную бутылку к голове, видимо, к тому месту, которое ушибла, когда упала.
– Как вы упали? Поскользнулись?
Она разлепила глаза и посмотрела на него. Волошину на секунду стало стыдно за то, что он ее так… ненавидит.
– Я не упала. Меня ударили.
Волошин пожал плечами.
– В доме пусто. И на участке тоже никого нет. Я с той стороны шел, никого не видел.
– Меня ударили, – монотонно выговорила она. – Я вышла на улицу. Дверь, конечно, оставила открытой.
– Зачем вы вышли?
– Подышать. Какое-то время я просто гуляла, а потом…
– Вы гуляли?!
Она кивнула, сморщилась и передвинула бутылку, которую все прижимала к голове.
– В чем вы гуляли? В этом?!
Она проследила за его рукой. Он показывал на ее «леопардовые» шлепанцы, из которых торчали намазанные лаком ноготки.
…Они с Разлоговым собирались в отпуск, на море. Она приготовилась, купила шлепанцы и сарафан, ногти накрасила, но никакое море не состоялось.
Тут Глафира вдруг осознала, что идиотские шлепанцы у нее на ногах – оба!..
Но этого просто не может быть! Один она потеряла где-то поблизости, а второй зашвырнула в заросли на бегу. И ударили ее не здесь, а возле решетки цокольного этажа!..
– Подождите, – сказала она Волошину и поднялась, цепляясь за балюстраду. Он слегка ее поддержал, помог и отстранился.
– Подождите, – повторила Глафира, как будто он ей мешал. – Я была в саду, когда бабахнула дверь. Потом оказалось, что она захлопнулась.
– Дверь открыта, – заметил Волошин, решив быть чутким.
– Я попробовала ее открыть, – не слушая его, продолжала Глафира, – но она не открывалась. Да, точно. И я побежала на ту сторону, к тому крыльцу. И тапку я потеряла! Я пару раз поскользнулась, и она свалилась.
– Свалилась, – повторил Волошин.
Глафира отняла от головы бутылку и попила из нее. Струйка полилась изо рта, потекла по шее, залилась за воротник.
Волошин отвернулся.
– Те двери тоже были закрыты. Они всегда закрыты, понимаете, Марк! Но я посмотрела в окно. И в доме кто-то был! Я ничего не смогла разглядеть, но там совершенно точно кто-то ходил!
– Откуда вы это взяли, если ничего не могли разглядеть?
– Я знаю! – Она почти кричала. – И я побежала к двери в цоколь! Ну да! Я побежала, а вторая тапка мне все время мешала, и я ее куда-то зашвырнула. Не помню, в кусты! Я почти добежала, и тут меня… ударили. И я упала.
– А что вы хотели сделать с дверью в цоколь? Взорвать? Взломать?
Тут она как будто сообразила. Посмотрела на него, ладошкой вытерла мокрую шею и спросила с удивлением:
– Вы мне не верите, Марк?
Он посмотрел на сосны. Они качались торжественно и красиво. Сосны всегда напоминали ему органный зал.
– Вы вчера алкоголем не злоупотребляли, Глафира Сергеевна?
– С чего вы взяли?
– Вы лежали на крыльце, и двери в дом были открыты. Ни в доме, ни на участке никого нет. Ваша… – он поискал слово, – обувь на месте. Должно быть, вы выпили, потеряли равновесие, упали, ударились затылком…
– Телефон, – завопила Глафира. – У меня был телефон! Я его уронила, когда двери бабахнули! Точно! Я разговаривала и от неожиданности уронила, от звука, понимаете?!
– Где уронили? – уточнил Волошин.
Она махнула рукой в сторону сосен – органного зала.
– Там. Я же говорю вам, что вышла подышать! Звонил Дремов, и он мне очень надоел. Это я уже на улице была! А потом телефон опять позвонил, и я его уронила…
Волошин вынул из кармана трубку:
– Этот телефон вы уронили?
Глафира посмотрела:
– Ну… да. А где вы его нашли?
– Он был у вас в руке, – сказал Волошин сухо. – Ну почти в руке. Я его поднял, потому что он звонил.
– В руке? – оторопело переспросила вдова Разлогова.
Глафира как во сне взяла у него телефон, словно не знала, что это за предмет и для чего может быть ей нужен.
– Вы его держали, – повторил Волошин, проводив мобильник глазами. – А потом уронили. Когда упали.
Он весь подобрался от накатившей брезгливости и сказал громко:
– Да и в этих… с позволения сказать, туфельках вряд ли можно гулять, Глафира Сергеевна! А камеры вы зачем все повыключали?
– Какие камеры?
Если играет, значит, играет виртуозно. Инна Чурикова в роли Жанны д’Арк!
– Видеонаблюдения.
– Я не выключала.
Волошин вдохнул и выдохнул.
– Ну, кроме вас, некому, Глафира Сергеевна.
– Я не выключала!
– Но они выключены. Вам, наверное, хотелось… побыть одной, чтобы вас никто не видел и не слышал, да? Так сказать, погоревать в одиночестве. Вы и выключили. И забыли.
Это прозвучало так фальшиво, что он сам смутился.
– Я не забывала и не выключала, Марк!
– Кто звонил вам из Иркутска?
Тут что-то случилось. Превосходная актриса Инна Чурикова куда-то делась, и на ее месте оказалась перепугавшаяся до смерти, не слишком искушенная во вранье, совершенно не умеющая притворяться девчонка.
– Мне?! – ненатуральным голосом воскликнула Глафира с ненатуральным же удивлением. – Из какого Иркутска?!
– Который на Ангаре, – сказал Волошин, соображая, что бы такое могли значить подобные превращения.
– Мне никто не звонил ни из какого Иркутска! У меня там никого не осталось после того, как Разлогов… умер. И вообще, с чего вы взяли, что кто-то звонил именно из Иркутска?!
– Ваш телефон…
Она вдруг прижала трубку к своему боку.
– Зачем вы его трогали, Марк?! А тот, кто звонил из Иркутска, просто ошибся номером!
– Кого он спрашивал?
– Какое ваше дело?! Какую-то Люду, по-моему! А я сказала, что никакой Люды не знаю.
– И что?
– И я отключилась.
– Понятно, – сказал Волошин.
То он все отводил глаза, не смотрел на нее, а тут вдруг глянул быстро и остро. И она выдержала его взгляд. Посмотрела в ответ недоуменно, но твердо.
Воцарилась тишина, только сосны шумели, и тяжелые осенние капли со стуком падали на широкие половицы крыльца. И гамак покачивался между двумя соснами, поскрипывал.
– Почему гамак не сняли? – вдруг спросил Волошин.
– Так.
И они опять взглянули друг на друга, быстро и странно.
…Чего ты от меня хочешь? Что тебе нужно?.. Зачем ты приехал?..
…Зачем ты врешь? Твое вранье уже убило человека, и ты продолжаешь врать?!
– Отвезите меня в Москву, – вдруг попросила Глафира и наклонила голову, чтобы не видеть его лица. – Мне невмоготу здесь что-то…
Волошин не ожидал такого поворота и растерялся.
– Да ради бога, – пробормотал он таким тоном, как если бы бормотал «отвяжитесь от меня».
– Тогда я… соберусь, – и Глафира мило улыбнулась в сторону. – Я умею собираться быстро.
– Да ради бога, – глупо повторил Волошин.
Глафира пошла было к готическим двустворчатым дверям, но остановилась на полдороге.
– Кофе не предлагаю, – сообщила она. – У меня и чашек-то чистых не осталось.
– Спасибо, я недавно пил.
Это было чистой воды вранье, но ему не хотелось, чтобы она его угощала. Это было бы… уступкой, а уступать он не собирался.
Глафира еще постояла, словно что-то хотела сказать, повернулась, чуть не упала, схватилась бледной, отдающей в зелень рукой за полированные широкие перила, и Волошин вытаращил глаза.
Завитки светлых, почти белых волос пониже макушки у нее были красными, все в свежей крови. Волошин, кажется, даже ахнул тихо, не по-мужски.
– Что? – тревожно спросила Глафира Сергеевна и оглянулась по сторонам, не понимая, что он такого увидел. – Что случилось, Марк?!
– У вас… вон там… на голове…
– У меня на голове? Что? Рога? – Она пощупала волосы, отняла руку и взглянула на свои пальцы. – Кровь, – сказала она с некоторым удивлением и потерла подушечки, растирая красное и липкое. – Это, наверное, когда меня стукнули! А что вы так побледнели, Марк? Или вы вида крови не выносите?
– Вы… выношу, – выдавил Волошин, старательно отводя глаза. – Может, все-таки врача вызвать? Раз у вас там… рана?
– Марк, вы прекрасно знаете, что вызывать врача нельзя! Или вы хотите, чтоб завтра во всех газетах написали что-то вроде: «Приехавшая «Скорая» застала вдову Владимира Разлогова с травмой головы, а его заместителя в обмороке»?
– Я не в обмороке, – возразил Волошин сухо.
Она была права. Какого сейчас вызывать врача, когда новость «номер один» – внезапная кончина главы «Эксимера», – еще не остыла, не отступила на второй план, не перестала будоражить умы и сердца журналистов?!
Умы куриные. Сердца холодные. Ну уж какие есть!
Глафира опять повернулась, чтобы идти, и опять от вида ее волос на Волошина накатила дурнота. И сердце забилось как-то странно, с перерывами. Стукнет и молчит. Стукнет и опять молчит.
– Перевязку все равно нужно сделать, – сказал он, преодолевая дурноту. – Заедем в офис, у нас есть медпункт…
Глафира ничего не ответила.
– Вам в Москве куда? – спросил Волошин сухо. – На квартиру?
– Что за ефрейторский вопрос, Марк? – удивилась Глафира. – Какая вам разница?
– Никакой, вы правы.
– Мне нужно заехать к… Марине Олеговне и непременно сегодня. Вы меня к ней завезете.
Волошин ничего не понял.
Ей нужно к Марине?! Бывшей разлоговской жене?! И непременно сегодня, с разбитой головой?!
– Как скажете.
Она вошла в дом и, кажется, стала подниматься по лестнице, когда у нее зазвонил телефон. Волошин, услыхав заливистые трели, бросился следом, бесшумно вошел и встал так, чтобы его точно не было видно с лестницы.
После некоторого молчания вдова сказала быстро и приглушенно:
– На этот номер больше не звони. Я сама с тобой свяжусь, когда смогу.
Телефон пискнул, разъединяясь, и больше ничего Волошин не слышал.
– Маринушка, там опять в телефон звонют!..
– Ну так ответьте, Вера Васильна!
– Дак чего отвечать-то?!
Марина пожала плечами, словно старуха могла ее видеть.
– Ах ты, господи помилуй!..
Шаркающие шаги, удалявшиеся от двери, какое-то шевеление, и Верин недовольный голос откуда-то из глубины квартиры:
– Ал-ле! Ал-ле!
Марина улыбнулась и снова уткнулась в книжку.
Сегодня ей особенно не хотелось никакой… ерунды. Какие-то звонки, телефоны, разговоры, да еще Вера вот-вот начнет приставать с обедом! Уехать бы отсюда, забраться подальше, поглуше, чтоб за окнами было ненастье, чтоб ветер рвал с деревьев беззащитные дрожащие листья, чтоб дождь барабанил в жестяной подоконник и старая береза бы все скрипела и скрипела…
А в доме тепло, на вымытых полах домотканые половички, рыжий кот ступает неслышно, усаживается на приступку и длинно зевает, а потом начинает дремать. И так уютно на душе от его дремы и от ненастья за окнами, и весь мир сосредоточен вокруг теплого бока голландской печки, где стоит продавленный ковровый диванчик и лежит страницами вниз брошенная книжка…
– Ах, какая вы, матушка, нынче странная! – сама себе сказала Марина и засмеялась, услышав собственный голос.
Пожалуй, говорить это следовало не так, поглубже, погуще, не столько с удивлением, сколько с легкой завистью к другому, недоступному миру сложных чувств.
Марина повторила, и со второго раза ей все понравилось.
Ах какая вы, матушка, нынче странная!..
Следовало читать, но читать больше не хотелось.
Ну почему, почему она не может сейчас оказаться в деревне, в ненастье, на ковровом диване и с котом?! Никто бы не мешал, и мысли бы не скакали, как непоседливые белки!
Впрочем, мыслями своими Марина сегодня была вполне довольна.
Сегодня они были правильные, ровные, спокойные и строгие, маршировали все в ногу, как солдаты на параде.
Фу, какое ужасное сравнение!
Покосившись на книжку, Марина встала с дивана и, волоча плед, пошла в эркер. Кипенно-белые, топорщившиеся от крахмала шторы ей мешали… Она досадливо затолкала тюль за батарею и с ногами забралась в кресло.
Перед ней лежал город, огромный, серый, залитый дождем. Река, всклокоченная ветром, плескала свинцовую воду на гранитные ступени набережной.
В новой пьесе Марине предстояло играть старуху, такую же злобную и всклокоченную, с серыми немытыми космами – как эта река.
Нужно что-то придумать такое особенное, характерное. Может быть, старуха должна хватать всех за руки, как река выплескивается на гранитные ступени? Хватать, а потом отступать так же внезапно? И чтобы всем остальным героям были неприятны прикосновения старухи!
Марина подумала немного, порассматривала реку, потом зевнула.
Она была превосходной актрисой, номер один, и то, что она сейчас делала, называлось «готовиться к роли». Марина готовилась всегда одинаково – читала, мечтала, валялась, смотрела на реку, немного капризничала, немного шалила.
Эту роль – актрисы, готовящей новую роль! – она особенно любила.
Никто не смел ее беспокоить, когда она «готовила», домочадцы ходили на цыпочках, домработница не приставала с глупостями вроде обеда и денег на покупки, даже телефон звонил приглушенно.
Марину оставляли в покое в ее комнате – самой лучшей комнате в квартире! – наедине с книжками, пледом и любимым диваном.
– Дождь-то, дождь, – сказала Марина, опять прислушиваясь к собственному голосу, – ишь, как разошелся!
Нет, не годится. Равнодушнее, холоднее, более отстраненно – ей, старухе, по большому счету нет никакого дела до дождя. Ей ни до чего нет дела. И выговор, выговор простонародней!
– Вот ить как, – выговорила Марина. – Дошшь, видать, до самых Петровок зарядил!..
Вот так лучше, гораздо лучше!
Машины на той стороне набережной стояли мертво, фары мутно желтели в дождевой мгле, словно огромная змея в горящей желтым чешуе извивалась вдоль реки.
А сравненьице-то банальное! Змея в чешуе, подумаешь! Может, лучше лента? Пестрая лента из какой-то дурацкой детективной истории! Или лучше ожерелье? Ожерелье из желтых топазов, обнимающее морщинистую шею старухи-реки!
Впрочем, она же не писатель, а актриса! И для актрисы она придумывает совсем неплохо!
Жаль, что нельзя «работать над ролью» постоянно! Рано или поздно роль будет сыграна, и сыграна, как всегда, блестяще. На премьеру соберутся сильные мира – политики, богачи, знаменитости, их жены и девки. Пресса напишет об очередном триумфе – и неудивительно, ведь в главной роли сама Марина Нескорова! Все, к чему прикасается Марина, обращается… нет, не в золото. В триумф, в успех!
А лучше бы в золото, конечно.
Хотя кто знает!.. Золото не вечно, как и успех, и только идиоты уверены, что слава проходит, а богатство остается.
Ничего не остается. Ничего. И даже свобода, хитрая бестия, исчезает, стоит только сделать один ее глоток!
Глоток свободы – кажется, так называлась какая-то книжка.
Марине сразу представились баррикады, костры на улицах Парижа, перевернутые повозки, разобранные булыжные мостовые, горячие лошади, оборванцы – лихорадочные пылающие глаза!..
Глоток, всего один, но от него оживает душа – засохшая, сморщенная, обескровленная.
Марина дорого заплатила за свой глоток свободы, и он того стоил!
Но почему, почему один?!
Марина выпрямилась в кресле. Руки похолодели.
Неужели никогда не настанет время, когда можно будет захлебываться этой свободой, упиваться, купаться в ней?!
– Настанет, – твердо и тихо сказала себе Марина, – оно уже настало. И не смей думать по-другому!..
В дверь тихонько поскреблись, и она оглянулась – гневная, пылающая. Кто посмел?!
Разумеется, никто не вошел, и Марина не произносила ни звука, только тяжело дышала.
Это было почти невероятно, но тихое поскребывание повторилось! Домработница еще туда-сюда, она совсем выжила из ума, но скреблась явно не домработница!
– Кто там?! – Она подумала и добавила тоном Марии-Антуанетты, возводимой на эшафот: – Ради всего святого!
– Марина, не сердись.
Ах, как она была хороша – обернувшаяся в кресле, румяная от гнева, на фоне залитой дождем серости огромного города!
Ах, как она была хороша, как правдива, как бесконечно более высока, чем весь этот серый, залитый дождем мир!
– Ей-богу, я не хотел тебе мешать.
– Костенька, – сказала Марина растерянно, и губы у нее дрогнули и медленно сложились в милую усталую улыбку.
Улыбка – усталая и милая – была чистейшей импровизацией и необходима для того, чтобы муж почувствовал себя скотиной.
– Костенька, – повторила она, как бы приходя в себя, – заходи, дорогой!
По его лицу и по тому, как он вошел, было ясно, что он чувствует себя правильно – скотиной. С Разлоговым такие штуки невозможно было проделывать никогда. Он не верил.
Ах какое счастье, что Разлогов – это прошлое! Да еще такое, как будто его не было вовсе. Хорошо, что он умер и отпустил ее на свободу!
Всего глоток, но как хорошо…
– Костенька, – повторила Марина, думая о Разлогове, выпростала из пледа горячую руку и протянула ее мужу. – Что ты? Соскучился один?
Он подошел, взял руку, припал в поцелуе. Поверх его округлой спины Марина посмотрела на часы-башенку в углу огромной комнаты. Маятник взблескивал латунью, отражал время.
Скоро шесть, может, и обедать пора?..
– Знаю, знаю, – выговорил муж глухо, ибо был все еще наклонен «к ручке», – и занята, и в мыслях, и устала, и я не вовремя!
Марина молчала. Нужно дать ему время пооправдываться. Сейчас он скажет про «вторжение» и еще что-нибудь про собственное ничтожество.
– Прости, что вторгаюсь, – словно по заказу сказал муж, разогнулся и шагнул к низенькой скамеечке. Он всегда сидел у ее ног. – Да и повод, собственно, ничтожный, но я уверен, что тебе это покажется… забавным.
Смеясь глазами – она это умела! – Марина отвернулась к окну, за которым вечерело по-настоящему.
Впрямь обедать пора!.. Не кликнуть ли Веру?
– А что такое? – вслух спросила она у мужа. – У тебя все в порядке, милый? Ты здоров?
Он развел руками. В одной – правой – почему-то был зажат журнал. Сейчас скажет – твоими молитвами!..
– Здоров и счастлив! Твоими молитвами, Мариночка.
Выискал какую-нибудь рецензию, решила Марина про журнал. Пишут, что я новая Фаина Раневская, но с обаянием Мэрил Стрип и красотой Мишель Пфайффер. Пишут, что Ларс фон Триер предлагал мне роль, а я отказалась. Потому что считаю, что Достоевского нельзя играть в Голливуде – только на русской почве, только у наших, кондовых, посконных режиссеров, истинных русаков.
Бедному Косте все это очень нравится, сейчас он станет зачитывать, и обеда теперь не дождешься.
Прасковья, отнеси индейку и стерлядей на ледник, а лафит я сама в буфет запру!..
– Дождь зарядил, – сказала Марина, потянулась и погладила его по густым, прекрасно сохранившимся волосам, – теперь уж до самого Покрова!..
Кажется, в прошлой реплике дождь зарядил «до самых Петровок», впрочем, какая разница!..
– Да-с, – поддержал муж. – Неприятно.
– А я люблю осень. – Марина перебирала его волосы – прекрасно сохранились, удивительно даже! Говорят, тестостерона маловато, что ли! У мужа совершенно точно маловато. Вот у Разлогова этого самого тестостерона было с избытком.
Глоток свободы, всего один, ах как мало!..
…Но обедать-то подадут сегодня?
Зная, что муж может так просидеть и час, и два, Марина нагнулась, легко поцеловала его в дивные, вкусно пахнущие волосы и спросила нежно:
– Ну что, Костенька?
– Ах да, Марина! Вот же! – Он взмахнул журналом. – Я хотел, чтобы ты взглянула…
Он торопливо пролистал туда, потом обратно, не нашел, взглянул виновато и опять пролистал.
Марина ждала – все с той же нежной улыбкой.
Как хорошо, что все сложилось именно так. Как хорошо, что Разлогов умер…
– Вот! – радостно сказал Костя и сунул распахнутый журнал ей к лицу. – Вот, полюбуйся!..
Марина видела плоховато – не девочка все-таки, да и сумерки клубились в комнате, мешали читать!
– Что там, Костенька? – спросила с неудовольствием. Она не любила, когда ей напоминали о возрасте, даже случайно. – Ты же знаешь, я не читаю журналов!..
Она была совершенно уверена, что там рецензия, в которой написано, что она Фаина Раневская и Мишель Пфайффер в одном лице, и к тому, что последовало, готова не была.
Муж вдруг поднялся со скамеечки у ее ног и зажег в эркере свет. Марина зажмурилась. Окно в серый город разом потемнело и как будто провалилось.
– Костенька!..
Но он уже сунул ей под нос журнал.
Марина ничего не поняла.
Ну журнал. Ну какая-то деваха из молодых, неинтересная, как все нынче, – волосы завитками, белые, ноги палками, длинные, зубы жемчугом, вставные, груди полусферами, наливные, сапоги до бедер, ботфортами.
Все стандартно, неинтересно. Марина рассердилась. Она всегда сердилась, когда чего-нибудь не понимала.
– Костенька? Зачем, милый, ты принес мне эту… чепуху?! Я занята, над ролью работаю, у меня сейчас момент такой сложный…
– Да вот! – Муж перевернул страницу и хохотнул совершенно по-мужицки. – Посмотри, Марина! Это ж твой Разлогов! Ну хорошо, хорошо, не сердись, душенька, не твой! Но ты посмотри только! Ты только посмотри! Его уж похоронили, а журналы все… печатают!
Он запнулся и заключил торжественно:
– Гадость какая!
И такая радость была в его голосе, такое превосходство – живого над мертвым, правого над неправым, – что Марине стало противно по-настоящему.
Юлии Павловне Тугиной было так же противно при виде Вадима Дульчина в четвертом акте «Последней жертвы»!
…Или в третьем ей было противно?..
– Ты посмотри, посмотри, Марина!
Она взяла журнал с осторожной брезгливостью и посмотрела.
На фотографии была все та же, ногастая-грудастая-губастая, вся загореленькая, лоснящаяся, в нужных местах присыпанная белым пляжным песочком, а на заднем плане… Марина поднесла журнал к глазам.
Ну да, да. На заднем плане Разлогов, отчетливо видный, раздраженный до крайности, губы поджаты, черные, прямые, густые до странности ресницы почти сошлись – так прищурился.
– Ты только представь себе, – горячо говорил муж над ухом, – большой человек, бизнесмен, да еще женатый!.. И покойный, он же… умер, а тут такие вещи…
Марина все смотрела на Разлогова – теперь покойного.
Ах как она знала эту привычку щуриться от раздражения! Как она знала… все, руки, плечи, ноги, массивные, тяжелые от тренированных мышц. И щеки, заросшие жесткой щетиной… Знала их запах, прикосновение к разгоряченной коже, знала, как часто он дышит, когда хочет ее, Марину!
Куда там Вадиму Дульчину в четвертом акте «Последней жертвы»! Или это был третий?..
Марина коротко и глубоко вздохнула, еще раз посмотрела на живого Разлогова, подняла подбородок и сказала нараспев:
– Бедная, бедная… Господи, бедная девочка…
– Ка… какая девочка?
Марина на него взглянула – он нацепил очочки-половинки и тоже рассматривал картинки. С упоением.
– Кто девочка, Марина?
– Его жена, конечно. То есть вдова.
– Вдо-ова!.. – удивился муж.
Не буду больше смотреть на живого Разлогова, решила Марина и опять посмотрела…
На его двери в общежитском коридоре висел «График дежурств». Она подходила и читала по слогам «Раз-ло-гов» и думала, как она будет Марина Разлогова.
…А фамилию, кстати сказать, она так и не поменяла!..
Костя опять забубнил что-то, но она вся уже была там, в этом общежитском коридоре, пропахшем щами, плесенью и табаком, у заветной двери с «Графиком дежурств», и сердце у нее замирало, как тогда, когда она стучала и изо всех сил ждала, когда Разлогов появится на пороге и скажет громко и радостно:
– Как?! Опять приперлась?!
А потом за шею втянет ее внутрь, целуя безостановочно и жарко, словно в последний раз, и она всем телом, от макушки до пяток, будет чувствовать его, такого сильного, такого безрассудного, храброго от желания!..
Такого юного.
Такого живого.
Такого любимого.
Такого отвратительного. Такого чужого. Ненавистного.
– Костенька, – сказала Марина почти своим голосом, и выпрямилась в кресле, и отшвырнула журнал. Журнал полетел в угол, муж проводил его глазами. – Костенька, не пора ли обедать?
В дверь вдруг опять постучали – что за наказанье! Или сегодня все забыли, что она «работает над ролью»?!
– Что, что такое?!
– Мариночка, – Вера остановилась у порога и постно сложила сухие руки, и глаза вперила в пол, – там пришли до вас и спрашивают.
– Вера, вы с ума сошли, – скороговоркой выпалил Костенька, косясь на Марину из-за половинчатых очочков. – Кто еще пришел?!
– Пришли Марк Анатольевич Волошин, – выговорила бабка отчетливым экзаменационным голосом. – И с ним новая вашего бывшего, ныне покойного. Вас спрашивают.
Муж ничего не понял, а Марина все поняла, конечно.
– Что-то случилось! – Она вскочила. – Неужели опять беда?..
Это уже не Островский, это, пожалуй, Бертольт Брехт.
– Да кто приехал-то, Вера?! – продолжал недоумевать муж. – Марина, что ты всполошилась?
Но она уже летела мимо него, мимо посторонившейся в дверях Веры, и тревога была у нее в глазах – почти настоящая.
Только Разлогов умел отличить настоящее от ненастоящего, когда она предлагала ему на выбор, но Разлогов умер.
Слава богу!..
– Глафира?! Что случилось, почему вы здесь? Марк, что такое?
– Здравствуйте, Марина Олеговна, – Волошин старался на нее не смотреть.
Марина знала совершенно точно, что бывшую жену Разлогова Волошин обожает, а настоящую терпеть не может, и это доставляло ей скромную женскую радость.
– Марк, что случилось?! Почему так неожиданно, без звонка?!
Волошин пожал плечами. Марине нравились его плечи – прямые и какие-то определенные под тонкой кожаной курткой. И вся его манера – суховатая, отстраненная – нравилась тоже. Марина даже слегка на него засмотрелась, позабыв, что она… «в роли».
– Марин, вы меня простите, – хрипло сказала Глафира, – это я попросила Марка заехать к вам. А позвонить не догадалась…
– Но ничего ужасного не случилось?
– Нет-нет!
– Да что же мы стоим?! – вдруг как будто спохватилась Марина. – Костенька, приглашай гостей! Вера Васильна, проводите! Может быть, обедать?..
Волошин моментально и категорически отказался, а та словно ничего не слышала.
Сопровождаемая суровой Верой, Глафира шла по коридору в сторону гостиной, и Марина проводила ее глазами.
– Марк, в самом деле ничего не случилось? – спросила она с беспокойством, когда Глафира скрылась. – Это так неожиданно!
– Я заехал на дачу, – сказал Волошин, – и Глафира Сергеевна попросила меня завезти ее к вам. О причинах она не сообщала, и я, признаться, не спрашивал.
– Но с ней все в порядке?..
– Кажется, она упала, – морщась, сообщил Волошин, – я ничего не понял, но она была без сознания, когда я приехал. Потом пришла в себя и попросилась к вам.
– Мне всегда казалось, что она не в себе, – вступил Маринин муж, – странная девушка, ей-богу!
– Упала? – задумчиво переспросила Марина. – Молодая, здоровая, с чего бы ей…
Глафира Разлогова в гостиной разматывала с шеи шарф. Старуха-домработница караулила каждое ее движение, а ей так хотелось послушать, о чем там они говорят негромкими, встревоженными голосами.
Ей необходимо было послушать!
Глафира стянула с плеч куртчонку и вместе с шарфом сунула старухе в руки, в надежде, что та уйдет, но она, приняв вещи, продолжала стоять.
Сфинкс в египетской пустыне. Только очень недовольный сфинкс!..
Ну ладно.
Глафира огляделась, подошла к камину, в котором весело пылали березовые поленья, и протянула руки.
Она терпеть не могла эту квартиру, просто ненавидела. Разлогов отлично об этом знал и привозил ее сюда за всю совместную жизнь всего пару раз – когда-то очень давно, и вот, совсем недавно, можно сказать, на днях! Впрочем, их совместная жизнь была не слишком длинной – шесть лет, чего там! Квартиру купил, ясное дело, Разлогов, и она в точности соответствовала положению его бывшей жены.
Великая русская актриса.
Натура тонкая и противоречивая. Гениальная и страстная. Глубоко русская внутри – Чехов, Достоевский, Гоголь, а также Шишкин, Нестеров и Левитан, конечно же, конечно!.. Чуть призападненная снаружи – ровно настолько, насколько нужно, чтобы нравиться концептуальным иностранным театралам.
От каминного тепла у Глафиры заломило затылок – все-таки ее стукнули довольно сильно! Ранка небольшая, только кожа содрана – Глафира старательно изучила свою голову в большом зеркале с помощью второго зеркальца, – а все равно больно.
Старуха-сфинкс переступила с ноги на ногу и опять замерла недовольно.
Глафира стала рассматривать сначала штучки на камине, потом фигурки на комоде, потом перешла к картинам.
Вся обстановка здесь напоминала старый фильм или спектакль «из прошлой жизни». Бронзовые зеркала, подсвечники, бисквитный фарфор за стеклом горки. Портьеры с бомбошками, шахматный столик с наборной крышкой, пейзажи старой Венеции, но видно, что писаны русским живописцем. Набор курительных трубок в отдельной витрине – дань англоманству нынешнего Марининого мужа. Круглый стол, огромный, на слоновьих ногах, но в этой комнате вполне уместен. На столе, конечно, самовар с начищенными медными ручками, самодовольно и сыто сияет даже хмурым осенним вечером.
Попав первый раз в эту квартиру, Глафира долго прикидывала, спросить или не спросить, а потом все же спросила.
– Скажи мне, Разлогов, – сказала она, когда они сели в машину, – ты вправду там жил?!
– Почти нет, – ответил Разлогов, выворачивая на набережную. Легко ответил, без раздумий. – Когда я понял, что здесь предполагаются… инсталляции на тему русской дворянской жизни, мне уже было все равно.
– Инсталляции? – задумчиво переспросила Глафира. – По-моему, это как-то по-другому называется!..
– Какая, на хрен, разница, как это называется! – огрызнулся Разлогов вяло. – Ко мне это не имеет никакого отношения. Я на работу ходил, понимаешь? И там работал, на работе-то! Понимаешь?
Тогда она ничего не поняла, но сейчас, пожалуй, уже понимает.
Это не имеет ко мне отношения, и точка. В этом весь Владимир Разлогов! Как только он понимал, что человек, или событие, или что угодно «не имеет к нему отношения», его невозможно было ни остановить, ни удержать. Он делался равнодушен и скучен, и казалось, проще умереть, чем вернуть его интерес и внимание.
Только вперед, всегда вперед, а события, вещи, люди – просто отработанный материал. Было и прошло.
– Очень чаю хочется, – пробормотала Глафира и глянула в сторону старухи-сфинкса. Старуха пожевала губами и ничего не ответила.
Глафира вздохнула.
Интересно, как Разлогов жил – с ними обеими, со старухой и актрисой? Как он тут ел, спал, просыпался, курил? Где лежали его вещи и спала его собака?
У Разлогова всегда были собаки. Бразильский мастиф Димка, названный так в честь поэта и писателя Дмитрия Горина, с которым Разлогов дружил, пропал из дома, когда хозяина не стало.
Глафира была твердо убеждена, что мастифа убили.
Живой мастиф никогда и никого не подпустил бы к живому Разлогову, и в этом состояла одна из самых трудных загадок, которые Глафире предстоит разгадать!..
– Принесите мне чаю! – громко сказала она старухе. Сейчас нельзя думать о Димке и о Разлогове, никак нельзя! – Слышите?..
Старуха посмотрела сначала на Глафиру, а потом на ее вещички, которые держала в руках.
– Вот Марина Олеговна распорядится…
Двустворчатые двери с льняными занавесками на латунных растяжках – ничего общего с дверьми в разлоговском доме! – распахнулись, и на пороге показалась Марина. Щеки пылали лихорадочным румянцем, аристократическая рука придерживала у горла белую пуховую шаль. В другой руке она почему-то держала журнал.
– Простите, Глафира, – Марина кинула журнал на стол, подошла, бесшумно и стремительно, и коснулась ее плеча. – Вы… присели бы. Марк сказал, что вам… нехорошо.
– Они чаю просили, – буркнула старуха. – Подавать?
– Может, обедать?
– Нет-нет, – перепугалась Глафира.
Обед был бы очень кстати, ей многое нужно выяснить у бывшей разлоговской жены, но после удара по голове многочасового сидения за столом в обществе великой русской актрисы она бы не вынесла. В обморок хлопнуться еще не хватает.
– Марина, можно я скажу вам два слова… наедине? – серьезно попросила Глафира. – И поеду! Мне правда нехорошо.
Старуха моментально канула за дверь, и они остались вдвоем среди фарфора, штучек и итальянских пейзажей, писанных русским живописцем.
Марина постояла, а потом прошла мимо Глафиры и устроилась в полосатом широком кресле на гнутых ножках.
И кресло, и шаль, и серая река за окнами, и живопись, и желтый размытый свет – все удивительно шло к ней. И куталась в шаль она удивительно уютно, и серые глаза смотрели правдиво и ласково.
Чертов Разлогов!.. Его нет, и теперь Глафира должна сделать то, что должна!
Впрочем, это не она должна. Это Разлогов ее заставляет!
– Вы не волнуйтесь так, – сказала Марина тихо. – Ну что вы?..
Глафира думала, что все знает про женщину в кресле. Глафира думала, что у нее получится, она даже специально готовилась!
Но у нее ничего не получалось, а Марина улыбалась ей печальной, усталой и нежной улыбкой.
Чертов Разлогов!..
– Марин, вы не подумайте… Вы извините меня… Я…
Шея и уши у Глафиры запылали, в затылке застучало.
– Да что же вы так волнуетесь! – негромко воскликнула Марина, рассматривая ее. – Я тоже сейчас начну волноваться!
Это, кажется, из какого-то французского драматурга. Там самоуверенная глупая кошечка делилась своими бедами со стремительной, умной и грозной хищницей. Только кошечка была уверена, что хищница годится ей в подруги!..
– Ну-ну, – подбодрила Марина, – может, правда чаю подать? Горячего, с вишневым вареньем!
– Нет-нет, спасибо, – забормотала кошечка. Подошла и неловко пристроилась в соседнее кресло, на самый краешек. И руки сложила на коленях.
…Интересно, что было у Разлогова в голове, когда он женился на… этой?
– Марина, вы встречались с Володей в тот день, когда он… умер?
Этого великая русская актриса никак не ожидала, и не готова была, и собраться с мыслями не успела, а потому спросила оторопело:
– С чего вы взяли-то?!
Глафира смотрела на нее почти в упор.
– Я просто спрашиваю, – сказала она наконец. Голос был слегка удивленный. – Встречались?
– Да нет, конечно! – Чтобы ее не рассматривали столь бесцеремонно, Марина поднялась и поворошила поленья в камине. – Зачем?.. Господи, какие глупости!
Она смотрела в огонь и лихорадочно думала – знает или не знает? Если не знает, почему спрашивает? Зачем она приехала и почему именно сегодня?..
Нельзя, нельзя паниковать! Еще не хватает!
– Что такое, милочка? – шутливым тоном спросила Марина, не поворачиваясь от камина. – Вы решили закатить мне сцену ревности, так сказать, посмертно?..
Нет, не годится! Можно подумать, что Марина воспринимает ее как соперницу, а это немыслимо!
Где ты и где я? Кто ты и кто я?! Опомнись, девочка!
– Нет, ну при чем тут ревность! – сказала принявшая все за чистую монету Глафира. – Я просто хотела узнать, как Володя прожил последний день. Свой последний день.
– Зачем вам это?
Глафира пожала плечами.
– Нет, я его не видела, – задумчиво проговорила Марина. Вот так-то лучше! – Я… Понимаете, он совсем меня не интересовал. Может, и нехорошо так говорить о близком человеке, – «близкого человека» она упомянула специально и похвалила себя за это, – но после того, как мы расстались, его для меня не стало.
Не стало раньше, намного раньше, задолго до того, как он умер по-настоящему.
Глафира смотрела на нее очень внимательно, и в этой сдержанной, недоверчивой внимательности Марина вдруг увидела Разлогова, которого никогда нельзя было обмануть.
Он не верил.
– Он перестал меня интересовать задолго до того, как мы расстались! Володя… как бы вам это доходчиво объяснить… Есть люди плоские – ну вот как пятиалтынный! Он вроде и блестит, и всем нравится, а сам весь плоский. И через три года уже знаешь все наперед – что он сделает, что скажет. А есть люди с глубиной, как… как озеро Байкал! Там и впадины, и разломы, и шпили, и никогда не угадаешь, куда попадешь, на вершину или во впадину! Так вот, Володя был пятиалтынный. Со всех сторон плоский.
Она врет, подумала Глафира. И то, что не встречалась в последний день с Разлоговым, и про пятиалтынный, и про Байкал. Зачем?..
– Как только я это поняла, – очень быстро! – я перестала с ним общаться. Совсем, навсегда. Неинтересно стало.
– Но вы жили на его деньги, – выпалила Глафира.
Марина засмеялась – громко, от души.
– Кто вам это сказал?
…Знает точно или зачем-то проверяет? Если проверяет, то для чего? Если знает, то от кого? Неужто от Разлогова, плоского, как пятиалтынный?!
Ах как в этот момент Марина его ненавидела!.. Мертвого ненавидела!
– Марина, – начала Глафира, пожалуй, с сочувствием, – я знаю, что он давал вам деньги. И знаю, сколько давал! За что он платил вам так много, Марина?
– Не твое дело!..
Это было совсем некстати, но она на самом деле вышла из себя. Как смеет это ничтожество говорить с ней о деньгах?! Это никого не касается, никого!
– Вы явились сюда, чтобы оскорбить меня? – ясными, чистыми, яростными глазами Марина уставилась Глафире в середину лба. – Если так, я позову мужа, и вам придется уйти!
– Я хотела узнать, виделись ли вы с Володей в день его смерти, – повторила Глафира упрямо. Почему-то Марининого гнева она совсем не испугалась, нисколечко. – Простите, если я вас обидела!
– Вы не можете меня обидеть! – Марина подумала и всплеснула руками. – Ни он, ни вы, ни его цыпочки! – Она вдруг схватила со стола и кинула Глафире на колени журнал, раскрытый на каких-то фотографиях. Глафира машинально взяла. – После того, как мы расстались, я встречалась с ним очень редко, всего пару раз и всегда по его настоянию! Он приводил вас на смотрины, помните? И я тогда сказала ему, что вы показались мне симпатичной. Недалекой, но вполне… приемлемой.
– Спасибо.
Марина на нее даже не взглянула.
– Он приезжал еще, по-моему, опять с вами…
– Со мной.
– Просто ему было невыносимо скучно в том мире, который он себе создал, – заключила Марина почти в изнеможении. – Скучно на работе, скучно с вами, скучно с цыпочками! Недаром он заезжал совсем недавно, хотя столько лет прошло с тех пор, как мы расстались! Я говорю это не для того, чтобы вас позлить, а просто потому, что это правда. Впрочем, вы наверняка и сами знаете! Его тянуло ко мне, но я не хотела его видеть. Он меня не интересовал. А за что он мне платил – не ваше дело…
Глафира поднялась с журналом в руке.
– Мне сегодня звонил Дремов, – сказала она невыразительно. – Это наш юрист. То есть юрист Разлогова.
Марина после проведенной трудной сцены почти не слушала глупую кошечку и не смотрела на нее, а тут вдруг насторожилась.
И Глафира увидела, что она насторожилась.
– У Дремова ко мне какие-то срочные вопросы, – продолжала Глафира, – но дело не в этом. Просто в связи с Дремовым я вспомнила, что Разлогов всегда переводил вам деньги именно десятого числа.
Великая русская актриса вдруг взялась двумя руками за горло.
– Я не знаю его завещания, и распоряжений никаких он, естественно, не оставил! Доступа к его счетам у меня, разумеется, нет, – продолжала Глафира.
Марина задышала свободней. Так вот в чем дело! Кошечка хлопочет о своих денежках, только и всего. Боится конкуренции!..
– Я переведу вам деньги с моего собственного счета, – твердо заключила Глафира, – пока я не знаю, что и кому завещал Разлогов, все будет так, как при нем.
– Мне не нужны ваши деньги!
– Это его деньги, Марина, – успокоила Глафира. – Откуда у меня свои?.. Простите, если я вас… расстроила.
Она пошла было к высоким двустворчатым дверям, перетянутым льняными занавесочками, но остановилась.
– Я никак не могу прийти в себя, – как будто пожаловалась она. – Так что извините меня.
– Не врите, что вы его любили, – посоветовала Марина, – не поверю.
Глафира помолчала.
– Но ведь мы с вами обе верим, что его убили, – вдруг сказала она. – Мы же это точно знаем!
И она ушла, а Марина осталась.
В машине Глафира перевела дух и попросила у Волошина сигарету.
– Куда вас отвезти, Глафира Сергеевна?
Глафира затянулась, выдохнула дым и сказала бесстрашно:
– Отвезите меня к Андрею Прохорову, в Варсонофьевский переулок. Вы знаете?..
Волошин кивнул угрюмо.
Машина вырулила на набережную и покатилась вдоль взъерошенной осенней реки.
– Поразительная женщина, – сказала Глафира задумчиво. – Как Разлогов мог быть на ней женат? Да еще много лет!
– Он ее любил, – мстительно сообщил Волошин. – Так бывает, вы никогда не слышали?
Глафира кивнула, и было непонятно, слышала она или не слышала.
– Только зачем она врет?
– Кто?!
– Марина.
– Бросьте, Глафира Сергеевна. Что за ерунда?
– Марк, – вдруг сказала Глафира, затолкала в пепельницу окурок и, не спрашивая, вытащила у него из пачки еще одну сигарету, – вот скажите, вам нравился Разлогов?
– Нет. То есть я хотел сказать, что…
– Да ладно, Марк! Он никому не нравился. А можно о нем сказать, что он был человек… блестящий?
Волошин молчал.
– Марк?
– Что вы все выдумываете, Глафира Сергеевна! – выговорил он с досадой. – Может, к врачу все-таки, а? Разлогов – блестящий человек!
– Вот именно, – Глафира задумчиво кивнула. – А когда бывшая жена, с которой он много лет прожил, так о нем говорит, значит, она или дура, или врет. Она не дура, значит, врет. Зачем?..
Волошин сбоку посмотрел на нее.
Ты-то врешь все время, говорил его взгляд. Ты врешь, и врала всегда! А Марина… Марина тебе не чета, она человек талантливый и сложный, и Разлогов ее на самом деле любил!.. А любил ли тебя – неизвестно.
Глафира Разлогова, рассматривавшая какие-то журнальные фотографии в свете встречных фар, вдруг вскрикнула так, что машина Волошина вильнула, и сзади сердито загудели.
– Вы что?! С ума сошли?!
– Это же… Разлогов!
– Где?!
– Да вот же!
Трясущейся рукой Глафира зажгла лампочку над лобовым стеклом и стала совать журнал Волошину.
Он отпихивал журнал.
– Но этого не может быть, – она все совала ему журнал. – Этого просто быть не может!
– Глафира Сергеевна, мы сейчас в речку улетим!
Тут она вдруг почти закричала – истеричка чертова.
– Я ничего не понимаю, Марк! – кричала она. – Совсем ничего!
Волошин кое-как приткнул машину возле ворот какого-то банка, включил аварийную сигнализацию и вытащил у нее из рук журнал.
Олесю Светозарову он узнал сразу. Ну и что? Ну Олеся! Мало, что ли, их было на разлоговском мужском веку?..
– Да не тряситесь вы, – велел он вдове сердито.
Конечно, он сочувствовал ей, но не слишком. Подумаешь, какая цаца! Ну увидела разлоговскую барышню в журнале, ну и что? Можно подумать, до этого она никаких таких барышень не видела и не знала об их существовании!
– Я спрошу у Вари, нашей секретарши, что это за материал и откуда он взялся, – продолжал Волошин. Тут он сообразил, перегнул страницы и посмотрел на обложку.
И скривился.
– Впрочем, у Вари можно ни о чем не спрашивать, как я понимаю. Это ваш… почти что личный журнал, если можно так выразиться…
Но вдова все тряслась и показывала на одну из фотографий, где за полуголой девицей угадывался раздраженный Разлогов.
Волошин посмотрел внимательней и ничего не увидел.
– Ну и что?
– Этого не может быть, – выговорила Глафира с усилием и прикрыла глаза. – Этого просто не может быть!
– Чего не может быть, Глафира Сергеевна? – Волошин кинул журнал на щиток, включил «поворотник» и уставился в боковое зеркало.
Лампочка «поворотника» мигала, и физиономия разлоговского заместителя то появлялась, то пропадала. В зеленом мигании он походил на вампира, выискивающего в темноте и холоде очередную жертву.
Подумав про вампира, Глафира вдруг вспомнила, что так и не спросила его о самом главном.
– А зачем вы сегодня приехали ко мне на дачу, Марк?
Он обернулся, лампочка полыхнула, и Глафира подумала совершенно отчетливо: сейчас он меня убьет.
…Варя все еще продолжала усердно печатать, когда в дверь приемной сунулся Вадим. И очень удивился – или сделал вид, что удивился.
– Ты все сидишь?!
Она подняла глаза и улыбнулась – или сделала вид, что улыбнулась.
Он вошел, прикрыл за собой дверь и покрутил головой в разные стороны, выражая изумление.
Варя печатала.
– А что так поздно-то?
Не взглянув, она пожала плечами.
– Не, ну чего сидеть-то?
Она подняла глаза:
– У меня работа срочная. Я ее доделываю.
– Блеск! – оценил Вадим. – Срочная работа у нее, когда шеф все равно кони кинул!
Варя опустила очки на кончик носа и наконец посмотрела на него как на одушевленный предмет – удостоила, рублем подарила.
– А что такое? – спросил он, не собираясь сдаваться, и с размаху опустил себя в кресло для посетителей. – Кинул же, да? А ты все на него ломаешься! Или уже на другого?..
– Вадим, – отчетливым учительским тоном начала Варя, – во-первых, я терпеть не могу таких выражений, ты знаешь! Кони кинул!.. Во-вторых, у меня срочная работа.
– Подумаешь, какое выражение… – протянул Вадим и осмотрелся.
Сидеть в приемной ему нравилось. Здесь было красиво, богато и удобно. Вадим называл это «кучеряво».
Кучеряво жил покойный шеф, ничего не скажешь!.. Тут тебе и ковры, и диваны кожаные, и стены белые, и камин натуральный, и компьютеры разнообразные, и потолок стеклянный, и секретарша красотка, хоть и в очках!
Кофе пахнет днем и ночью – сутками они его пьют, что ли?.. Духами тянет, сигаретным дымком, приятно – Варька, что ли, пошаливает, пока нет никого?..
– А это что? Пальму новую приволокли, что ли? Вроде не было ее!..
– Что?..
– Говорю, дерево у вас новое!
Она опять глянула и опять мельком – занятость свою показывала.
– А это… Разлогов хотел зимний сад на крыше устроить. Пальму просто так привезли, прикинуть.
– На крыше?! – поразился Вадим. – Обалдеть! Во делать нечего, сады на крыше разводить!
– Вадим, ты мне мешаешь.
– Я тебе не мешаю.
Некоторое время она печатала, а он смотрел, как она печатает, и дивился – надо же такому быть, пальцами перебирает, будто на фортепьяно играет, даже не глядит, куда нажимает!
– Варь, а, Варь?..
– М-м?..
– А откуда ты знаешь, куда пальцами тыкнуть?
– М-м?
– Ну ты же не видишь, куда тычешь! А, Варь?
– Вадим, ты мне мешаешь.
Он еще посидел, порассматривал картины на стенах, потом задрал голову и порассматривал стеклянный потолок. Красиво!..
– А вот чего ты мне кофе не предлагаешь? – опять завел он, когда надоело рассматривать. – Вот ты всем всегда предлагаешь, а мне никогда!
– Если хочешь кофе, возьми сам.
Но он не хотел никакого кофе! Он точно знал, что она на месте, и пришел, чтоб за ней «ухаживать».
Ну ухаживать! И что?..
С тех пор как Разлогов перекинулся, Вадим жил очень скучно. У заместителей были свои водители, и Вадима гоняли по мелким поручениям – стой там, иди сюда, подай птичьего молока. Вадим не любил такую работу. Он ее «перерос». Он был «личник» – личный водитель при «теле», то есть при шефе. Тела больше нету, возить нечего, вот его и гоняют, Вадима! По-хорошему, надо место искать, а где его сейчас найдешь, когда сокращения кругом! И все начальники, как один, притихли, словно суслики возле своих норок. Было дело, по три водителя держали, да охраны штат, чтоб круглосуточно дежурили, чтоб в сортир сопровождали, и в баню, и к любимой, а нынче…
Нынче что ж? Не тот стал размах, измельчали все как будто, пылью подернулись!..
Поду-умаешь, какой шик – пальмы на крыше развести, деревьев наставить и стеклянные полы настелить! Мелочовка! У прежнего шефа – он Японией очень увлекался и тамошние японские примочки очень ценил, – в багажнике был люк вырезан, а под этим люком целый сад в миниатюре, ей-богу! И самый настоящий! Садовник специальный за ним ухаживал, за садом-то, отдельно нанимали садовника, из Японии выписывали! Как куда приезжали, багажник нараспашку, и все садом любуются, удивляются, ахают!
Так и ездил с садом в жопе, прежний шеф-то! Потом, правда, в его «Майбах» какой-то перец на «Хаммере» въехал, и сад пришлось ликвидировать вместе с «Майбахом», потому что перец не слабо въехал, но зато какой в багажнике был размах! И красота!
Вадим зевнул, не разжимая челюстей, и посмотрел на Варю. Хорошенькая, деловая, очки на носу – как из кино!
– Варь, а Варь!
– М-м?..
– Давай я тебя домой отвезу. Поздно уж. Что ты сидишь шарашишь? Все разошлись давно!
– Меня Волошин попросил.
– А он тебе сверхурочные платит, твой Волошин?..
– Вадим, ты мне мешаешь. – Тут она вдруг оторвалась от клавиш и спросила с тревогой: – А правда, сколько времени?
Вадим вскинул руку с часами. Часы подарил когда-то Разлогов, кинул с барского плеча. Они были не просто дорогими, а баснословно дорогими, и Вадиму нравилось вскидывать руку.
– Да пол-одиннадцатого уже!
– О господи, – прошептала Варя, будто вдруг поняла, что на город надвигается цунами. – Господи!
Она проворно, как белка, выбралась из-за компьютера и пролетела мимо Вадима в соседнюю комнату – он подобрал длинные ноги, чтобы она не споткнулась. За ней осталась полоска тонких и слабых духов, и он с удовольствием потянул носом.
Хорошая девушка! Подходящая.
Хорошая девушка выскочила из-за двери. В руках у нее был мобильный телефон.
– Восемнадцать неотвеченных вызовов, – бормотала она будто в лихорадке, – как же я забыла!
Держа телефон возле уха, она нагнулась над столом, выдвинула и задвинула ящик, пощелкала «мышью» и сунула в гнездо сверкнувший в свете настольной лампы диск.
– Мамочка? Слушай, у меня телефон был в другой комнате, я его на зарядку поставила. И не слышала! Ну у нас здание очень старое, стены толстые, не слышно ничего! – Она говорила быстро, и ласково, и виновато. – Мамочка, прости меня! Да, выхожу. Ты не волнуйся, меня Вадим подвезет. Да уже скоро, скоро! Ты, главное, не волнуйся!
Она кинула телефон на бумаги, продолжая смотреть в монитор и щелкать «мышью». Синий свет отражался в ее очках.
– Переживает мамаша? – проявил сочувствие Вадим. Он был доволен, что Варя сказала мамаше – мол, Вадим привезет! Как нечто само собой разумеющееся сказала! Оно ведь неплохо, а?
Кое-как Вадим выковырнул себя из кресла – он называл их «утопическими», потому что в них можно было утонуть, – подтянул брюки и похлопал по карманам, проверяя ключи.
Все на месте. Можно и ехать, помолясь!
Варя собрала со стола бумаги в огромную растрепанную кучу, компьютер выплюнул диск, она выхватила его, защелкнула в коробку, пристроила сверху на свою кучу и попросила нетерпеливо:
– Открой мне!
– Что?..
– Вадим, дверь в кабинет открой, пожалуйста!
Вадим потянул тяжеленную дверь, за которой раньше сидел Разлогов. Там, за дверью, было темно и тихо.
Странная штука – жизнь человеческая, подумал Вадим и вздохнул. А смерть еще страннее! Вот жил человек по имени Разлогов, жил-поживал, добра наживал – и много нажил! Ел, пил, спал – и не с какими-нибудь завалящими, с самыми лучшими спал! Деньги ковал, карьеру делал – и сковал, и сделал!.. И тут вдруг – бац! И нету его. И ничего нету.
Кому нужна теперь его карьера? С кем будут спать те самые, что спали с ним? Куда денется нажитое добро?
…И в кабинете темно и пусто, и в приемной никого, только секретарша от нечего делать молотит по клавишам, и водителю некуда себя приткнуть!..
Тут, словно отвечая на его мысли, разлоговский кабинет изнутри залился светом, и Варя пробежала в глубине, от стола к стенному шкафу, и пропала из глаз.
Вадим подумал-подумал и тоже зашел. Варя, распахнув двери шкафа, что-то возилась с сейфом, спрятанным в глубине, и мельком на него взглянула.
Вадим подошел к столу и вздохнул еще горше:
Вот ведь странная штука жизнь!..
Громадный разлоговский стол, всегда неряшливо и как попало заваленный бумагами, был чист и пуст, будто тундра в день первого снегопада. Ни пылинки, ни соринки, ни бумажки. Ни следа Разлогова, который, бывало, нагромождал вокруг себя кофейные чашки, пепельницы, ручки, записные книжки, початые и брошенные пачки сигарет, пластмассовые зажигалки, золотые зажигалки и коробки спичек.
Вадим, во всем любивший порядок и опрятность, всегда косился на начальничий стол с неудовольствием – надо же, как люди не умеют за собой смотреть! На собственном столе такой бардак развел! Клавиатура у Разлогова всегда валялась отдельно от монитора, и, чтобы напечатать что-нибудь, он долго и бестолково ее искал, зато уж печатал, как из пулемета по врагам строчил, куда там секретарше Варе!
Телефоны он терял и забывал где ни попадя, и сколько раз Вадиму приходилось с полдороги возвращаться на работу, везти оставленный в машине телефон!
Ручки покупал дорогие, но не брезговал и пластмассовыми, с дурацкими школьными колпачками, и они потом глупо торчали из кармашка его пиджака, чем причиняли Вадиму невыносимые страдания. Он любил, чтобы все было безупречно.
К машинам Разлогов всегда был равнодушен, но тут Вадим маленько подозревал его в неискренности. Вроде бы и равнодушен, а никогда и ничего дешевле представительского «Мерседеса» себе не брал. В выходные ездил на тяжелом и мощном английском джипе, в багажнике возил свою псину – господи, прости, исчадие ада, а не собака! Морда квадратная, уши висят, слюни текут, хвост палка палкой, но толщиной в мужскую руку. А воняет!.. А линяет!.. Вдвоем с собакой за выходные они так уделывали джип, что Вадим брезговал в него садиться, хоть газетку подстилай.
Газетку он не подстилал, конечно, но прежде чем гнать джип на мойку, долго и всерьез демонстрировал скучающим и незанятым дружбанам-водителям разлоговские безобразия – нет, вы гляньте только, до чего шеф свою машину довел!
И где теперь Разлогов? И что будет с его джипом? Продадут ведь, верняк, продадут!
– Странно, – вдруг встревоженно сказала Варя, про которую Вадим и позабыл совсем. – Очень странно.
Она все возилась в книжном шкафу, гремела ключами.
– Чего странно-то?
– Да не открывается!
– Чего там у тебя не открывается?..
Вот ведь бабы, а?.. Двери у них никогда не открываются, ключи застревают, каблуки подворачиваются, вместо тормоза как-то само собой на газ нажимается, и туда же – эмансипация у них!..
Вадим подошел и стал у Вари за спиной. Она бестолково тыкала ключиком в замочную скважину, а ключик не входил.
– Дай я!..
– Да он не подходит!
– Варь, отойди, дай я открою!
Она посторонилась и протянула ему ключ, теплый от ее ладошки. Странное дело, ключ и вправду решительно отказывался лезть в замок, хотя Вадим очень старался.
Да нет, ну что за фигня?! У него-то должно открыться, он же не баба, в конце-то концов!..
Не открывается.
Вадим изучил ключ. Потом изучил сейф.
Ну да, все правильно! Немецкая фирма «Крупп», название написано и на сейфе, и на ключе! Только не лезет, зараза!..
– Варь, фонарик есть?
– Какой фонарик?
– Такой! Светить. Есть?
Она растерянно пожала плечами и оглянулась, как бы в поисках фонарика.
– Да нет у нас, откуда?
– Тогда я в машину схожу, принесу.
– Зачем?!
– Посветить, – объяснил Вадим резонно. – Вдруг там чего застряло. А мы не видим.
– Где застряло?
– В замке, где, где!..
– Да ну тебя, Вадим, – сказала Варя с умеренной досадой, – что там могло застрять?! К этому сейфу не подходил никто, кроме Владимира Андреевича! Ну и я изредка, когда он просил убрать или достать что-нибудь! И ключ он всегда у себя держал.
– А это тот ключ-то?
Варя уставилась на ключ.
– Ну… тот, конечно! Да он у нас один. Разлогов все боялся его потерять. Говорил, если потеряю, придется сейф взрывать, его ни один медвежатник не откроет.
– Чего это он так плохо про медвежатников-то… – пробормотал Вадим задумчиво, рассматривая равнодушный и неприступный сейф.
Варя взяла у него ключ и снова стала тыкать.
– Да без толку! Он туда вообще не лезет.
– Я вижу, – огрызнулась Варя и взглянула на часы. – Я только не понимаю, что теперь делать!
– Домой ехать, чего еще! Завтра утречком доложишь Волошину, а он уже решит…
– А до утра я бумаги с собой буду носить?
– Секретные, что ль, они?
Варя вдруг в ужасе на него уставилась, как будто ненароком выболтала государственную тайну.
– Я не знаю, – пролепетала она испуганно. – Я… понятия не имею! Мне Волошин велел их в сейф положить…
– Ну утром и положишь! Все равно сейчас он не открывается! Поедем, а, Варь?
Она подумала немного, потом аккуратно прикрыла дверцы шкафа, слегка потеснив Вадима плечом. Он подвинулся.
Варя взяла с края разлоговского стола растрепанную кипу бумаг, сунула ключик в карман пиджака и пошла к двери. Вадим еще постоял и не спеша двинул за ней.
– Марк Анатольевич? Извините, что так поздно!
Вот дура, а?! Все-таки она ему звонит! Ведь ясно, чем дело кончится, – Волошин сейчас скажет, что бумаги сверхважные и просто так их бросить никак нельзя. Посадит ее бумаги стеречь. Сам приедет в два часа ночи из какого-нибудь клубешника или от крали, из теплой кралиной постельки. Заберет бумаги, пожмет секретарше руку и отбудет. А после окажется, что секретные бумаги – контракт на производство резиновых калош!..
Вадим вышел в приемную. Варя говорила в мобильный телефон, сильно наклонившись к столу – как поклон отвешивала тому, с кем говорила!..
– …не смогла открыть! Такое впечатление, что ключ не подходит. Нет, я несколько раз попробовала! Марк Анатольевич, что мне делать с бумагами?..
Ну теперь точно пиши пропало! Зря он, Вадим, столько времени убил, дожидаясь! Лучше б уехал давно. Сходил бы с задушевным другом Саней пивка попить, давно ведь собирались!
– Хорошо. Хорошо, – сказала между тем Варя после короткой паузы, нерешительно. – А, может быть, вы все-таки подъедете, Марк Анатольевич? Я могла бы вас дождаться…
Как будто об одолжении его просила! Вадим громко засопел, чтобы она обратила на него внимание, загримасничал и даже рукой махнул – не надо, мол, дожидаться, поедем лучше, да и мамаша там на нервах. Ты что, забыла?
– Хорошо, Марк Анатольевич, – тихо и обреченно сказала Варя, – до завтра.
– Ты что?! Хочешь, чтоб он тебя до утра засадил эти бумаги чертовы караулить?! «Подъезжайте, Марк Анатольевич! Я вас подожду, Марк Анатольевич!» Тебе домой не надо, что ли?!
– Надо, – не глядя на него, сказала Варя.
– Вот и поехали, раз надо! Чего он тебе велел с бумажками сделать?
– Убрать в мой сейф, – отчеканила Варя. – Который здесь, в приемной.
– Ну и убирай с богом, и пошли!
Она заперла бумаги в крохотный белый металлический ящик, погасила везде свет. И они вышли на улицу, к машине.
Разлоговский «Мерседес» в одиночестве дремал под фонарем – полированный, громадный и устрашающий, как подводная лодка.
– Стоишь? – спросил у «Мерседеса» Вадим, и горло у него внезапно перехватило. – Ну стой, стой…
Он мимоходом похлопал автомобиль по холодному и влажному капоту и, обогнув его, двинул к своей машине.
– Вадим, не переживай.
– Да ладно!
– Всем тяжело. Мы стараемся об этом не говорить, но…
– Да ладно!
– А я тоже все время смотрю, знаешь?.. Смотрю и вспоминаю. Только ты на машину, а я на бумаги, на ежедневники, где он дела записывал. Смешно: его нет, а дела остались…
– Да ладно! Полезай давай!
Вадим распахнул перед ней дверь, и Варя, вздохнув, полезла в холодное темное автомобильное нутро. Он плюхнулся на водительское сиденье и повернул в зажигании ключ. Мотор бодро зафыркал, «дворники» прошлись по стеклу, смахивая дождь. Варя смотрела в сторону, на спящий разлоговский «Мерседес».
Спящий, а не мертвый. Как странно.
Шлагбаум поднял полосатую руку, выпуская их на пустую узкую улочку, залитую дождем и размытым светом фонарей.
Поздно, поздно… Уже совсем поздно. Ничего изменить и поправить нельзя.
Далеко они не уехали.
Машина вдруг вильнула, присела, Вадим выкрутил руль, включил «аварийку» и медленно съехал вправо. Варя вопросительно на него посмотрела.
– Щас гляну, – буркнул он и выскочил из машины.
«Дворники» тихо и усыпляющее постукивали. Варя сдержанно зевнула и оглянулась. Вадим вынырнул откуда-то сбоку, нажал на капот, так что машина присела еще больше, посмотрел, смешно вытягивая шею, а потом полез в багажник и стал там шуровать. Варя, уже все поняв, опустила стекло.
– Ну что?
– Колесо, – пыхтя, крикнул Вадим из багажника. – Ты не журись, в два счета поменяем!
– Мне выйти?
– Можешь сидеть, только тихо!
– В каком смысле… тихо?
– Ну не прыгай.
– Да я и не прыгаю, – под нос себе пробормотала Варя.
Дождь все моросил, заливал в открытое окно, капли сыпались на Варино светлое пальто. Мама очень сердилась, когда Варя его купила. Говорила, что это не пальто, а «выброшенные деньги». Разве можно в нашем климате и в нашей экологии… в светлом? Серенькое, коричневое еще туда-сюда, но светлое-то куда?! И вообще лучше не выделяться, быть как все. А Варе так хотелось именно… выделяться! Чтоб не как все, а как те мужчины и женщины, которых она видит каждый день, – как Разлогов, Волошин, их жены и любовницы!..
Бедная мама! Она всю жизнь проработала в НИИ, где десятки одинаковых женщин и мужчин – в основном женщины, конечно! – сидели за одинаковыми столами, разговаривали одинаковые разговоры, получали одинаковую зарплату и одинаково ничего не делали!..
Папа называл НИИ, в котором работала мама, «богадельней».
Маленькую Варю мама брала с собой на работу, когда ее не с кем было оставить. Варя тогда сидела на стуле, таращила шоколадные мышиные глаза и непрерывно ела конфеты, которыми ее угощали одинаковые мамины сослуживицы. Варя была щекастая, крепенькая, в туго повязанных бантах, в свитере и ватном комбинезоне – мама была уверена, что девочка у нее «ослабленная» и часто болеет, хотя Варя болела совершенно обыкновенно, как все московские дети, которых в семь утра, в дождь и слякоть, в холод и в жару, в ведро и в ненастье, тащат в детский сад, а в группе еще двадцать таких же страдальцев, и если у одного сопли, то остальные уж точно заразятся, с гарантией!
Мамины подруги и коллеги были совершенно такими же, как мама, – в ботах, ворсистых, плохо сидящих брюках и трикотажных кофтах, сереньких, коричневых, в общем, подходящих. Только у одной красотки были ярко-алые лаковые босоножки, обутые на теплые шерстяные носки, и легкомысленная прозрачная блузка с бантом на шее. Сверху для тепла – мохнатый жилет. Впоследствии выяснилось, что красотка – «звезда и смерть», увела мужа у кого-то из соседнего отдела, и вообще считалась опасной штучкой.
Варя сидела на стуле – велено было сидеть тихо, – поедала конфеты и болтала ногой в надежде, что с ноги свалится теплый сапог. Во-первых, жарко было невыносимо, во-вторых, когда сапог сваливался, подбегала мама и начинала его натягивать. Какое-никакое, а все развлечение!
«Подруги» называли друг друга исключительно Олечка, Леночка или Ирочка, а тех, кто постарше, по имени-отчеству – Наталья Леонидовна, Мария Ивановна. И разговаривали все время об одном и том же – станет Валера начальником сектора после того, как Юрий Павлович уйдет на повышение, или не станет, и кто займет Леночкино место у окна, потому что Леночке вот-вот в декрет.
Варя качала ногой и думала, что такое «декрет». Декрет-секрет, смешно!..
Еще говорили про квартальную премию, про назначение нового генерального – кто его знает, каким он будет! Говорят, он где-то в Газпроме проштрафился, так его к нам, чтобы отсиделся! А эти, которые из Газпрома, лихие ребята! Сдаст он все площади под склад или общежития для гастарбайтеров, и прощай тогда научный институт!..
Говорили, что картошку вот-вот должны привезти. Завхоз Брыкалов договорился с каким-то тамбовским фермером, и каждую осень в захламленный и неухоженный двор НИИ заезжал, бодро гудя, грузовик с тамбовской картошкой. Из кузова прыгали дядьки в ватниках и с папиросами в зубах, откидывали борт, сгружали на растрескавшийся институтский асфальт железные весы и толстопузые мешки с чистой, желтой, крупной картошкой, и институт оживал, становилось весело, и у всех как будто появлялось интересное и важное дело. После серой скуки будней приезд картошки казался праздником. Все потихонечку спускались вниз к грузовику, с сумочками и пакетами, спрашивали друг у друга, кто сколько берет, толковали про тамбовскую дешевизну, про то, что надо бы мешок взять, да негде хранить, и что в прошлом году в магазинах вся картошка была перепорченная, а эта долежала до весны!..
Варя стояла с мамой в очереди, крутила головой в сползающей шапке, выглядывала, волновалась, что «не достанется», хотя всегда всем доставалось.
Эти же мамины подруги от нечего делать научили Варю печатать – когда она уже постарше была. Теперь приходы на мамину работу приобрели особый, радостный смысл – Варя залезала на стул, стаскивала чехол с древней пишущей машинки, сопя, заправляла в валик бумагу, двигала каретку и начинала щелкать клавишами – поначалу медленно-медленно, а потом, когда подучилась, быстро-быстро, и это было так увлекательно! Поначалу ее к компьютеру близко не подпускали, все работают, компьютеры заняты – пасьянсами да «саперами», Варя, бродившая между столами, считала, сколько пасьянсов, и сколько «саперов». Пасьянсов выходило всегда больше. А потом, когда она научилась печатать, ее не только пускали – усаживали, и она с упоением набирала длиннющие тексты непонятных техзаданий, а мамины подруги в курилке переживали, станет ли Валерка начальником отдела после того, как Юрия Павловича проводят на пенсию, и кто займет Леночкино место у окна, потому что Леночке вот-вот в декрет, уж третий по счету!..
Окончив институт, вполне приличный, вполне технический и открывающий двери в светлое будущее, то есть в тот же самый НИИ, Варя пошла работать секретаршей.
Дома разразился скандал.
– Ты же инженер! – гремел отец. Он метался по кухне, смешной и трогательный, в тренировочных штанах и застиранной майке, и негодовал страшно. – Ты человек с образованием! А что это за работа – секретарша?! Чай будешь подавать?! Бутерброды резать?
– И буду, – упрямо говорила Варя, стараясь не смотреть на отца. Ей было его жалко.
– А еще какие услуги будет оказывать моя дочь?! Моя дочь, человек с высшим образованием!
– Папа, ты пойми, я никому не нужна с этим образованием! В НИИ не пойду, я там умру. Ты сам всю жизнь говорил про богадельню!
– Это лучше, чем… чем, – ее интеллигентный бедолага-отец вдруг пятнами покраснел, подтянул тренировочные штаны, собрался с духом и выпалил: – Лучше, чем бордель!
Они долго препирались, и Варя вышла на работу с некоторой опаской. Вдруг от нее и впрямь потребуют оказания… интимных услуг? Вдруг папа прав?! Готовая немедленно дать решительный отпор кому угодно – сначала дать отпор, а потом немедленно убежать и спрятаться, – Варя пришла на собеседование к Разлогову.
– Смотрины?! – гремел отец, когда она собиралась. – Товар лицом показывать будешь?!
Она нервничала, боялась, уже почти соглашалась с отцом и поэтому выглядела плохо – юбка и пиджак казались вытащенными из маминого гардероба, туфли на низком каблуке смотрелись калошами, и колготки плотные-плотные, больше похожие на рейтузы, а на улице жара!
Она вошла, и Разлогов, сидящий за громадным, заваленным бумагами столом, поднял на нее серые глаза в угольно-черных прямых ресницах.
Погибель, а не глаза!..
Напротив него, ближе к Варе, сидел Волошин, который учтиво и быстро поднялся, когда она вошла. В эту секунду все и решилось, так сказать, определилось раз и навсегда. Не то чтобы они не стали к ней приставать. Не то чтобы они не рассматривали ее сальными взглядами и не отпускали двусмысленных шуток. Не то чтобы они не задавали двусмысленных вопросов!..
Они ее не заметили. То есть вообще. То есть совсем. Нет, они поняли, должно быть, что это существо у дверей – новая разлоговская секретарша, и только.
Разлогов быстро сказал что-то про отдел кадров. Отдел кадров считает Варю вполне подходящей для этой должности, и он, Разлогов, нисколько не возражает. Раз уж отдел кадров так считает, займите свое рабочее место.
Волошин не сказал ни слова, смотрел в окно, пережидал, когда закончится никому не нужная аудиенция.
Варя заняла рабочее место, тихо радуясь тому, что не пришлось спасать свою честь, и слегка недоумевая, почему эти люди не обратили на нее никакого внимания. То есть вообще. Ну совсем.
В два счета она «сделала карьеру» и через три месяца была уже разлоговским помощником. В отделе кадров ее должность называлась «ассистент».
Разлогов не замечал ее, когда она была секретаршей, и, когда стала помощником, не замечал тоже.
Волошин был холодно-любезен и, обращаясь к ней, каждый раз немного медлил, как будто вспоминал, как ее зовут. Два других зама работали в «новом офисе» – так называлось только что отстроенное шикарное здание «Эксимера» где-то за МКАДом, и Варя их почти не знала.
Папа потихонечку угомонился, мама переживала, что ездить далеко, а Варя купила себе светлое пальто. Вызов собственной жизни, маминому НИИ, папиным тренировочным штанам и подъезду в многоэтажке на улице Тухачевского, в котором она прожила всю жизнь!
Все не так. Все совсем не так, как представлялось с улицы Тухачевского. «Жизнь наверху» оттуда, с Тухачевского, виделась сияющей и блестящей, беззаботной и легкой и, самое главное, очень красивой. Дорогие машины, деловые костюмы, горные лыжи, экономический форум в Давосе, прием в «Мариотте», каникулы в Ницце. При этом никто ничего особенного не делает, все озабочены, как бы повеселее провести время и произвести на окружающих подобающее впечатление.
Принцы женятся на золушках. Министры на секретаршах, миллионщики на манекенщицах, бизнесмены на королевах красоты и молоденьких певичках.
Принцам быстро надоедают золушки, певички и королевы красоты, и, измученные скукой и непониманием, принцы берутся за ум и принимаются искать «хороших девушек» – воспитанных, порядочных, добрых и умных, – чтобы осчастливить их, «создать семью» и завести очаровательных малышей и большую собаку. Семейный автомобиль, зеленую лужайку и дом с камином.
Варя, будучи девушкой здравомыслящей и как раз «из хорошей семьи», о женихах «высокого полета» вовсе не мечтала, конечно, но… присматривалась. Верила, что самое главное оказаться в нужное время в нужном месте, а там… посмотрим.
Угольно-черные ресницы Разлогова долго не давали ей покоя. Ей повезло – она работала вроде бы в офисе, а вроде бы и нет – на шестой «начальничий» этаж офисная мошкара залетала редко, почти никогда, только во время каких-нибудь совсем больших совещаний и торжественных заседаний под праздники. Варя всегда была с «большими» – начальниками и их ближайшим окружением, то есть как бы над болотом, в котором селились лягушки и роилась мошкара. Девушки, цокающие на шпильках с утра в будние дни, девушки, в хмурых осенних рассветных сумерках являвшиеся на работу в декольте и ярко-алой губной помаде, были ниже, населяли те самые пять этажей, куда Варя спускалась только «по делу».
Принцы, таким образом, были в ее полном распоряжении и безраздельном владении, по крайней мере в рабочее время.
И тут подвела ее улица Тухачевского и прочитанные на диване кипы глянцевых журналов!
Там, в журналах, ничего не говорилось о том, что принцам прежде всего нужно… работать. Что работа – главное в их жизни, альфа и омега, первое и последнее, что у них есть, а все остальное лишь приложение к ней.
Принцы куют деньги и проводят в кузнице куда больше времени, чем на курортах, в Давосе и на горных склонах.
Принцам скучно – как с певичками, так и с порядочными девушками «из хороших семей». Детьми они обзаводятся только для того, чтобы в далекой перспективе было кому оставить кузницу вместе с горнилом. Семейный автомобиль водит шофер. В дом с лужайкой и камином принцы наезжают крайне редко, предпочитая ночевать «в городе», в громадных московских квартирах, предназначенных «для одного» – и вовсе не за тем, чтобы предаваться там непременному и соблазнительному разврату, а для того чтобы выспаться и не стоять с утра в гигантских пробках. Ведь надо на работу!
Принцы оценивали людей – и мужчин, и женщин – исключительно с точки зрения их полезности для дела.
Варя была им полезна, и они относились к ней по-своему прекрасно.
И все. Все!..
В Женеве, куда ее взяли переводить в магазинах и ресторанах (в свое время она окончила курсы английского), она увидела Монблан. Идиллическая картинка, воспроизведенная на кружках, открытках, майках и просто сувенирной чепухе! Изумрудные лужайки, голубые ручьи, сахарная приветливая вершина в безоблачном, чистом, нерусском небе. Варя садилась на газон на набережной, откусывала от багета и любовалась, и фотографировала. А потом Разлогова зачем-то понесло в горы, и они заехали далеко и высоко, остановились возле какого-то шале, от которого можно было подниматься только пешком. Здесь было холодно, дул ледяной и острый ветер, скалы нависали угрожающе, и вершина, мерещившаяся снизу такой соблазнительно сверкающей, вовсе не сверкала, была припорошена песком и гранитной крошкой и оказалась мрачной и недостижимой.
– Так всегда бывает, – сказал ей подошедший Разлогов. Он мерз и часто шмыгал носом. Варя искоса на него взглянула. – Заберешься на вершину, и ноги не держат, и сил больше нет, и стоять неудобно, и холодно, и одиноко, а впереди только следующая вершина. Но если долго не двигаться, голова закружится, и в пропасть сорвешься!
И постепенно за это их упорство, за умение не стоять на месте, за то, что в пропасть не сорвались, Варя стала их уважать.
Она стала их уважать и все простила – равнодушие, черствость, невозможность женить их на себе и хорошенько ими попользоваться!.. Она простила им их виски по пятницам на работе, иногда до поросячьего визга, их любовниц, их одержимую требовательность, несдержанность и швыряние в стену документов, если что-то вдруг не понравилось!
Швырял Разлогов, конечно, а Волошин никогда.
Она захотела… «соответствовать». Жесткое расписание на день, оценка собственной эффективности – да-да! – дорогие очки, белое пальто и только вперед!
Мама ничего этого не понимала. Маме не нравилось, что дочь день и ночь торчит на работе, и еще по выходным, а бывает, и по праздникам!
Тети, дядья и двоюродные во время семейных застолий смотрели на нее странно, а она хватала телефон после первого же звонка и мчалась на работу – только там ей было интересно, только там она чувствовала себя на месте.
А потом Разлогов умер. Просто взял и умер.
Варе вдруг стало нечем дышать, она зашарила рукой по обивке, нащупала ручку, дернула и почти вывалилась наружу.
– Ты куда?! Я тебе велел сидеть, не дергаться!
Про Вадима она совсем забыла.
– Что-то меня… тошнит.
– С голодухи тебя тошнит! Тут дождина льет! Лезь обратно, только тихо, видишь, она на домкрате у меня!
Варя помотала головой – не полезет она обратно!
– Лезь, говорю! Пальто изгваздаешь! Догадалась тоже в нашем климате такое пальто купить!
Он же не знал, что это не пальто, а вызов!..
Очки запорошило дождем, и узкая и пустая улочка «тихого центра» виделась смутно, как вдруг из-за поворота ударил свет фар, и Варя зажмурилась.
– Придурок, мать твою!
Вадим проворно, как заяц, метнулся за капот, и мимо них в облаке дождевой пыли пролетел черный автомобиль.
Они проводили его глазами.
Автомобиль затормозил перед шлагбаумом, стал как вкопанный, ткнулся рылом почти в полосатую шлагбаумную руку. Шлагбаум немного подумал и поднялся, пропуская машину на стоянку. Машина была знакомой. Собственно, они точно знали, чья она. Они посмотрели ей вслед, а потом друг на друга.
– Чего это его принесло среди ночи? Ты же ему вроде звонила, и он сказал – до завтра?
– Не знаю. – Варя сняла залитые дождем очки и сунула их в карман пальто.
Они помолчали и опять посмотрели друг на друга.
– Может, мне вернуться? – нерешительно спросила Варя сама у себя. – Или позвонить ему?..
– Да что ты придумываешь?! – взвился Вадим. – Тебе домой чего, совсем не надо?! Не наработалась за день?! Прямо рвение у тебя какое-то открылось!
– Зачем он приехал? – не слушая его, продолжала Варя задумчиво. – Ночь же! И мне он сказал, что с бумагами ничего не будет, да и бумаги-то, на самом деле…
– Чего ты там бормочешь?!
В кармане светлого Вариного пальто затрезвонил мобильный телефон, и, совершенно уверенная, что звонит измученная ожиданием мама, Варя выхватила трубку. Даже не взглянула.
– Да, мамочка! Я уже совсем, совсем скоро!
– Мне известно, что вы убили Владимира Разлогова, – сказал ей в ухо равнодушный голос. – Известно, за что и каким способом.
Варя молчала.
– Я позвоню вам еще раз и сообщу, что именно хочу за свое молчание.
Варя отняла трубку от уха и посмотрела в окошечко. Номер, ясное дело, совсем незнакомый.
– Чего там? – спросил Вадим и покатил снятое колесо к багажнику. – Мамаша на нервах? Вот е-мое, все мокрое, блин! Придется завтра…
Варя не слушала.
Она проворно прыгнула на переднее сиденье. Зажгла лампочку под потолком и нажала кнопку.
Если этот человек ей звонил, значит, и она может ему позвонить? Посмотрим, что из этого выйдет.
Не вышло ничего. Трубка отозвалась переливчатыми трелями и сообщением о том, что «аппарат абонента выключен»…
Варя подумала еще несколько секунд. Совершенно хладнокровно.
Вадим сел рядом, о чем-то спросил. Она не слышала.
Нужно позвонить. Очень страшно, но это нужно сделать! И она опять нажала кнопку вызова.
Долго не отвечали. Она считала гудки.
…Три. Четыре. Пять. Шесть.
– Да, – голос нетерпеливый, почти сердитый.
– Марк Анатольевич, извините, что так поздно, – выпалила Варя второй раз за этот бесконечный вечер. Вадим вытаращил глаза. Машина вильнула.
– Да, – повторил Волошин. В глубине, за его голосом в трубке, царила мертвая тишина, как будто он разговаривал из склепа.
Не из склепа. Всего лишь из ночного офиса!..
– Мне сейчас кто-то позвонил, – отчеканила Варя. – Этот человек не назвался, он сказал…
Тут она вдруг споткнулась. Выговорить это, оказывается, было непросто.
– Что? – раздраженно спросили в трубке.
– Марк, вы знали, что Разлогова убили?
– Что?!
– Так сказал этот человек, – объяснила Варя, глядя перед собой.
Дождь все лил. «Дворники» мотались по стеклу.
Сон был такой легкий и прекрасный, что она, кажется, даже засмеялась.
Как будто все на месте – и Разлогов, и его собака. И даже мясо собираются жарить на знаменитом разлоговском мангале. Хотя, шут его знает, наверное, это и не мангал вовсе!.. Целая печь, сложенная очень искусно – углубление для казана, если кому взбредет в голову плов готовить, специальные решетки для сковородок, если корюшку жарить, и отдельное место для мяса. Разлогов от печника не отходил, когда тот сооружал свой шедевр. Даже на работу не ездил, вот уж на него не похоже!.. Печник был непростой. Специально выписанный то ли из Магадана, то ли из Анадыря – Разлогов уверял, что нигде так не умеют класть печи, как на русском Севере! Удивительный печник, бородатый, веселый, руки лопатами, жил в доме на положении гостя. Работал по двенадцать часов – выкладывал печь, – а по вечерам покуривал трубочку, посиживал с Разлоговым у камина, вел долгие разговоры. Каждый вечер они пили водку, запивали ее пивом, утверждая, что «пиво без водки – деньги на ветер!», заедали строганиной. Печник выволакивал из морозильника твердую, как камень, замороженную рыбину, похожую на обрубок бревна, и здоровенным острым, как бритва, ножом состругивал тоненькие скручивающиеся полосочки. Эти полосочки потом макали в перец и соль и заедали ими пиво с водкой.
Утром пораньше вставали – и за дело, печь класть. Они и одеты были как близнецы – в брезентовые штаны, толстые свитера, тяжелые ботинки. Разлогов в этой одежде терял весь свой московский офисный лоск и становился похожим на старателя – не какими их показывают по НТВ в кинокартине «Золото-2», а какими их снимал Юрий Рост, знаменитый фотохудожник, знаток жизни и человеческих душ.
Ну вот, сон. И как будто костер горит в середине каменного круга – печник тогда соорудил еще и костровище, сказав что-то вроде: «Негоже в доме да без живого огня, дух огня обидится, не ровен час, а огню особое место потребно, почетное!»
И соорудил. Рядом с печью засыпали круглым речным камнем площадку, в центре выложили углубление, кругом поставили березовые лавки, и Разлогов теперь все время жег костер, подолгу смотрел в огонь. Что он там видел?..
Так вот, сон. И как будто гости приехали. Приятные, легкие. И день приятный и легкий – осенний, свежий, терпкий и солнечный. И как будто на подносе вносят какую-то красоту и радость, одно предвкушение которой доставляет удовольствие: толстодонные стаканы, виски в высокой бутылке, свежий хлеб толстыми ломтями, буженина, крепенькие, холодненькие соленые огурчики, розовое сало и – отдельно! – горка жгучего хрена. Все очень по-русски и называется – «закусить до мяса». И само мясо, гвоздь программы, маринованное в травах, лимоне и вине, такой красоты, что хоть сырым его ешь!..
И все гости в ярких горнолыжных куртках, джинсах и свитерах – любимый разлоговский вариант, – и никто не спешит, и всем весело смотреть в огонь, прихлебывать виски, нюхать дым, бесконечно осведомляясь, скоро ли будет готово.





