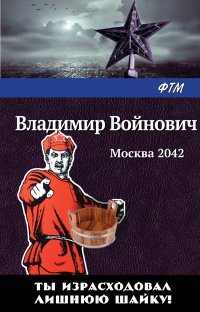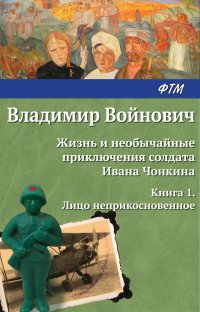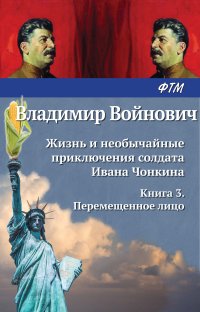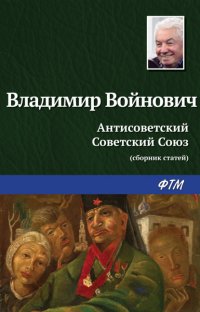Читать онлайн Малиновый пеликан бесплатно
- Все книги автора: Владимир Войнович
© Войнович В., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Клещ
Был в лесу. Собирал грибы. Вернулся домой, поел, поспал, посмотрел телевизор, вечером на животе справа что-то засвербило. Почесал, забыл, опять засвербило, напомнило. Около полуночи, отходя ко сну, решил поглядеть в зеркало. Батюшки! Круглое пятно сантиметров на пять в диаметре вроде трехцветной красно-оранжево-желтой мишени, и прямо «в десятке» – черная жирная точка. Пригляделся – точка-то живая, лапками шевелит. Клещ!
Будучи наслышан о неприятностях от встречи с этим паразитом, о вероятных фатальных последствиях с летальным исходом, я полез в Интернет и тут же обогатился многими устрашающими знаниями о клещевом энцефалите и болезни Лайма (она же боррелиоз – не путать с композитором Берлиозом и его булгаковским однофамильцем). Помимо этих двух, о которых слышали все, есть бабезиоз, риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и еще всякая дрянь. Но к себе я примерил, как самые страшные, первые две (напоминаю): энцефалит и боррелиоз. Ознакомился с симптомами: сильная головная боль, рвота, светобоязнь, температура до сорока, и это только начало. В другом случае на пути к летальному пределу могут наблюдаться лихорадка, гиперемия зева, склер, кожных покровов, диспепсические расстройства, парезы и параличи шеи, верхних конечностей, свисание головы на грудь. Я, признаюсь, человек мнительный. Когда слышу о возможности каких-то симптомов, немедленно их замечаю. Если кто-то говорит, что у меня необычно красное лицо и не признак ли это повышенного давления, оно, давление, немедленно у меня поднимается до предполагаемого уровня. Или опускается, если заподозрить, что оно пониженное. Попробуйте скажите при мне что-нибудь про эпидемию гриппа, и мой организм сразу откликнется кашлем, чихом и подскоком температуры. Сейчас, если я не обнаружил у себя признаков гиперемии зева и склер и диспепсического расстройства, то только потому, что не понял, что это значит. Если бы понял, они были бы тут как тут. А вот света, мне показалось, в доме слишком много, и свисание головы на грудь – это со мной сразу случилось. Едва я эту гадость увидел, так она, голова то есть, сразу и свисла. Углубляться дальше в симптомы я не стал, перешел к инструкции, как от незваного гостя избавиться. Способ вроде простой. Приложить ватку с постным маслом, подержать минут пятнадцать, паразит начнет задыхаться и полезет наружу. Я приложил. Через пятнадцать минут он не вылез. И через тридцать и через сорок оставался, где был. Выносливый оказался. Может быть, даже чемпион среди клещей по выносливости, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннесса.
Между прочим, чтоб вы представляли себе, хотя бы в общих чертах, хронологию, уточню, что история эта с клещом завершилась на днях, а началась… Черт ее знает, когда она началась, тогда еще, когда все у нас было тихо-мирно, страна готовилась к грядущей Олимпиаде, мы медленно, с хрустом в суставах, разгибали колени, поддерживали добрые коммерческие отношения с соседними враждебными братскими странами и легко размещались на завоеванных ранее территориях. Если бы я мог предвидеть, что случится позднее, то, вероятно, писать про мелкого насекомого не стал бы, но время было еще мирное, без заметных событий и потому скучное, так что даже замыслы сколько-нибудь острые в голову никому не приходили и вся литература чахла ввиду практического отсутствия сюжетов. Скажу больше, в описываемое время жизнь казалась настолько благополучной, что потребность в мало-мальски серьезной литературе совершенно отпала. Несчастны люди, которые всегда счастливы. И несчастливы писатели, которые живут среди счастливых людей. А сатирики тем более. Я допускаю, что если бы Салтыков-Щедрин воскрес и пожил немного среди нас, тогда еще относительно счастливых, то, осмотревшись и не найдя ничего интересного, он охотно вернулся бы в тот мир, в котором уже обвыкся. Я тоже в ту пору не видел вокруг себя никаких достойных тем и по этой причине сосредоточился на этом злосчастном клеще, имея то оправдание, что он хоть и маленький, но беспокойство причинил мне заметное. Тем более что само по себе событие внедрения его в мое тело стало для меня редким в последнее время физическим соприкосновением с реальной жизнью.
Дело в том, что, когда мне было лет намного меньше, чем сейчас, я вел подвижный образ жизни. Зимой жил в городе, летом в деревне, много ездил по России, бывал на заводах, в колхозах, бродил по тайге с геологической партией, наблюдал работу золотоискателей на Колыме, плавал в Охотском море на дырявом рыболовном сейнере, побывал в Антарктиде и вобще слыл одним из первых знатоков российской действительности. Но настал момент – от жизни, как говорят, оторвался.
Возраст, лень, болезни, угасание энергии, интереса к путешествиям, людям и географии, а также оскудение материального фактора привели к тому, что я стал домоседом.
Сижу на даче. В город выезжаю редко, в случаях крайней необходимости. Практически ни с кем не общаюсь, кроме жены, домработницы Шуры и совсем уж редко с кем-нибудь из соседей, когда выхожу прогулять собаку. Когда-то я думал, что запаса накопленных мною жизненных впечатлений мне для моих писаний на всю жизнь хватит, но запас оказался не столь объемным, как я ожидал, а жизнь получилась длиннее, чем я рассчитывал, и вдруг настал день, когда я, державший в голове сотни сюжетов, вдруг обнаружил, что просто не знаю, о чем писать. Потому что замкнулся дома, не хожу даже в магазин и не знаю, что почем. Сотни человеческих историй, которые знал, из памяти утекли, тысячи впечатлений потускнели, а новым взяться откуда? Из телевизора. Днем как-то работаю, а вечером сижу перед «ящиком», и все свежие знания у меня из него. Так же, как у моей высокообразованной жены и домработницы, не осилившей семилетку. Все мы знаем всё про Галкина, Пугачеву, Киркорова, Малахова, Безрукова, Хабенского и прочих телеведущих, певцов, сериальных актеров, олигархов, их жен и любовниц. Кто с кем женился, развелся, купил дом на Лазурном Берегу или арестован за кражу в особо крупном размере. И не только я не знаю теперешней реальной жизни. Ее не знает никто. Раньше неизменной приметой городского пейзажа были бабушки, которые сидели на лавочках перед домом, замечали всех входивших и выходивших и обсуждали соседей, кто что купил, в чем одет, кто пьет, бьет жену, чью жену, когда муж в командировке, посещает любовник. Теперь такое ощущение, что ни у кого в стране собственной жизни нет, все сидят перед «ящиком», следят за судьбами героев мыльных опер, завидуют их удачам, сочувствуют неудачам и переживают за них больше, чем за себя. Вот и я, как и большинство моих сограждан, сижу вечерами, тупо уставившись в ящик, живу в нем, жил бы и дальше, если бы не этот проклятый клещ.
В половине второго ночи я разбудил и позвал на помощь Варвару, жену. Говорю: давай, помогай, вытаскивай. Она ничего подобного в жизни не делала, и по телевизору в медицинской передаче доктора Голышевой ей не показывали. Взяла пинцет, надела очки, руки дрожат, как будто ей предстоит не удаление мелкого насекомого, а полостная операция. При том что она не только медицинского образования не имеет, но от капли крови, взятой на анализ из пальца, падает в обморок. Так вот она тыкала, тыкала в эту тварь пинцетом, потом я сам в нее тыкал, а она как была там, так и осталась, хотя, надеюсь, мы ей какие-то неудобства все-таки причинили. Вроде тех мужиков из анекдота, которые по просьбе соседки пытались зарезать свинью и в конце концов зарезать не зарезали, но отлупили от души.
Подняли с постели Шуру, но она и вовсе. Как глянула, так руки воздела:
– Не-не-не.
Я спрашиваю;
– Что не-не-не?
– Я его боюся.
– Кого его?
– Да этого. – Она, не опуская рук, глазами мне на него указывает.
Я говорю ей:
– Да чего ж ты его боишься? Ты ж в деревне жила, курам небось головы рубила?
– Курам, – соглашается, – рубила. А это ж не курица, это же это…
А что «это» – сформулировать не может, но ясно, что-то ужасное.
После Шуры проснулся спавший в прихожей на коврике Федор и вошел в комнату, широко зевая и покачивая лохматой головой. Внимательно нас всех оглядел, не понимая, чем вызван столь поздний переполох, ничего не понял, вспрыгнул на диван, вытянулся во всю длину, положил морду на передние лапы и стал ожидать, что будет дальше. Федор – это наш эрдельтерьер, недавно отметивший свое шестилетие.
Отстранив женщин от дела, я сам взялся за пинцет, но опять действовал неловко и ничего не добился, разве что вмял насекомое в себя еще глубже, чем оно сидело до этого. Пока я трудился, Варвара набралась смелости и разбудила по телефону знакомого доктора. Тот, зевая в трубку, сказал, что раз мы этого клеща сразу не вытащили, дальнейшее можно доверить только специалистам. Потому что если неспециалист оставит во мне хотя бы мелкую часть этой пакости, от нее можно ожидать самых печальных последствий, вплоть до упомянутых выше. А дело происходит в ночь с субботы на воскресенье. Это у нас с Варварой всегда такое везенье: все неприятности случаются именно в ночь с субботы на воскресенье, когда никто нигде не работает, а знакомые врачи выключают свои мобильные телефоны и пьют: терапевты – принесенный с работы спирт, а хирурги – подаренный пациентами французский коньяк. Варвара говорит, надо вызывать «Скорую». Я попробовал возразить, но потом согласился условно, предполагая, что «Скорая» из-за клеща не поедет, но может дать полезный совет. Обычно, сколько я слышал, эта самая «Скорая», прежде чем выедет, задаст вам сто вопросов по делу и бессмысленных, что болит, где и как, холодеют ли ноги, синеют ли руки и сколько больному лет, в том смысле, что, может, пожил и хватит, стоит ли ради него зря жечь бензин, да и на пенсии государство уже перетратилось.
Немного о себе и не только
Если вы ничего не знаете обо мне, я вам кое-что расскажу. Меня зовут Петр Ильич Смородин, это мой псевдоним, а настоящую мою фамилию Прокопович знают немногие. Среди них наша почтальонша Заира, которая в начале каждого месяца приносит мне пенсию, и кассирша «Аэрофлота» Людмила Сергеевна, у которой я раньше покупал билеты в Берлин, куда летал к своем сыну Даниле. Много лет я пользовался ее услугами, расплачиваясь дополнительно своими книжками и набором конфет, а теперь покупаю билеты онлайн. К моему возрасту люди обычно тупеют и новыми технологиями овладевают с трудом, но я себя считаю пользователем компьютера, как говорится, продвинутым. Лет тридцать с лишним тому назад в Америке я купил свой первый Макинтош, он назывался Мак-плюс (экран размером с сигаретную пачку), и с тех пор силюсь идти в ногу со временем, чем вызываю презрение моего соседа по даче, одного из последних ископаемых деревенщиков моего поколения Тимофея Семигудилова, фамилию которого его же соратники слегка переиначивают, заменяя букву «г»» другой, с которой начинается слово «мама». Тимоха считает, что настоящий писатель должен писать только «перышком», имея в виду шариковую ручку. Своей дремучестью он весьма гордится и уверен, что только пишущий от руки может считать себя хоть в какой-то мере принадлежащим к настоящей русской литературе. Достижения Пушкина и Тургенева объясняет тем, что они писали гусиным пером, а на компьютере ни «Евгения Онегина», ни «Бежин луг», по его разумению, не напишешь. Ко всем этим рассуждениям добавляет, что через компьютер идут флюиды (почему флюиды?) от дьявола, а у пишущего «перышком» есть прямой контакт с Богом, хотя у него самого, я подозреваю, если был контакт с чем-то далеким, то через коммутатор, установленный на Лубянке. Что же до компьютера, то я думаю, что и Пушкин, и Тургенев охотно бы им овладели, но в любом случае техническая тупость еще не признак литературного таланта, что опыт нашего деревенщика как раз и подтверждает. Он пишет тяжело, неуклюжим языком. Прошел большой путь. Был когда-то образцовым советским писателем. Писал о преуспевающих колхозах и считался средней руки очеркистом. Тридцать лет был членом КПСС и половину этого времени секретарем партийной организации. Всегда демонстрировал бесконечную преданность советской власти, за которую, как говорил, готов отдать свою жизнь и задушить любого, кто был о ней не очень хорошего мнения. Будучи еще, как и я, студентом Литинститута, принял участие в травле Пастернака. И тем обратил на себя внимание власти. В семидесятые годы выискивал среди собратьев по перу инакомыслящих, охотно участвовал в гонениях на них и был весьма кровожаден. В восьмидесятых, почувствовав, куда ветер дует, переквалифицировался в деревенщики, стал писать повести о коллективизации и разорении большевиками русской деревни, тогда советская власть подобное вольнодумство уже допускала. Большевики у него были сплошь с фамилиями, намекавшими на их еврейское происхождение. Писал по-прежнему неуклюже, но, как тогда многим казалось, остро, чем снискал временную репутацию правдолюбца и даже скрытого антисоветчика. Но когда советская власть зашаталась, очень рьяно ее защищал, показав тем самым, что ему, как говорил Бенедикт Сарнов, в литературе без поддержки армии, флота и КГБ делать нечего. В девяностые, которые он называет лихими, ненадолго притих, съежился, где-то кому-то шепотом объяснял, что всегда втайне был либералом, и в доказательство где-то что-то цитировал из своих антиколхозных опусов, но при передаче управления страной (вместе с ядерным чемоданчиком) нашему сегодняшнему Перлигосу (Первому лицу государства) воспрянул духом, объявил себя православным патриотом и теперь яростно клеймит американцев и либералов, восхищается достоинствами Держателя чемоданчика и, по всем признакам, помешался на мечте о православно-державном величии. И в его больной голове каким-то образом сочетаются представления о том, что страна, стараниями заокеанских политиков и наших либералов, лежит в руинах, но и одновременно поднимается с колен, возрождается из пепла и еще покажет всему миру кузькину мать.
Когда-то Твардовский, с которым я был в молодости знаком, говорил, что человеку называть себя самого писателем нескромно, потому что звание «писатель» предполагает наличие в человеке специфических незаурядных способностей, которые в совокупности называются талантом. И в самом деле, в прежние времена тот круг людей, которых называют читающей публикой, так и воспринимали писателя, как существо, наделенное необыкновенным и даже сверхъестественным даром проникать в душу человека, понимать его стремления, переживания, страдания, тайные побуждения и все такое. Но теперь это все ушло в прошлое и писателем называют чуть ли ни каждого, кто пишет дешевые детективы, душещипательные простенькие истории и даже какие-нибудь брошюрки, конспекты политических речей, рекламные тексты. Все они писатели. Поэтому теперь я, прикладывая к себе это звание, ни малейшего смущения не испытываю. Да и как представлять мне себя, написавшего двенадцать романов, шесть сценариев, четыре пьесы и сотни мелких литературных текстов? Я член Союза писателей, член Пен-клуба, член еще каких-то жюри, комитетов, редсоветов и редколлегий, где чаще всего просто числюсь в качестве свадебного генерала без всяких обязанностей и вознаграждений. Кроме того, состою в двух иностранных академиях, являюсь почетным доктором трех университетов и лауреатом десятка премий. Теперь меня почитают, называют иногда даже классиком, и романы мои в книжных магазинах стоят в разделе «Классическая литература». Но было время, когда я считался диссидентом, отщепенцем, врагом народа, меня преследовали люди, имен которых давно никто не помнит, говорили, что я пишу книги по заданию ЦРУ и Пентагона (а теперь бы сказали Госдепа), что книжонки мои ничего не стоят и сгниют вместе со мной или даже раньше меня на свалке истории. На меня нападали могущественные силы, грозили всякими карами, иногда даже и смертью, и все это я пережил и выжил, а для чего? Не для того ли, чтобы стать жертвой этого маленького ничтожного членистоногого насекомого?
Федор и Александра
Чтобы дорисовать картину о себе и своей семье, к вышесказанному добавлю вот что. Мои дети от первого брака, сын Данила и дочь Людмила, выросли и разъехались в разные стороны. Он в Берлине сменил журналистику на бизнес, владеет большой автотранспортной конторой, гоняет фуры в Россию, Белоруссию, Украину и Казахстан и очень неплохо зарабатывает, а дочь вышла замуж за успешного американского адвоката, или, как она говорит, лойера, и живет в городе Лексингтон, штат Кентукки, или, опять же, как они говорят, Кентакки. Теперешняя моя семья – это я, жена Варвара, домработница Шура и, разумеется, Федор. Семигудилов считает, что пса я так назвал из русофобских соображений, потому что, как ему кажется, только человек, который ненавидит русских или презирает, может давать собакам русские человеческие имена. Хотя это глупость несусветная, потому, во-первых, что имя Федор, а также Теодор, греческого происхождения и означает «Божий дар», и потому, во-вторых, что никакие не русофобы, а самые что ни на есть русские люди издавна называли котов Васьками, коз Машками, а кабанов Борьками. А пес получил такое имя, потому что он, как мне кажется, похож на моего двоюродного брата Федьку, который так же толст, добр и курчав и на существование четвероногого тезки не обижается. Федор (не брат, а пес) обладает сверхчутьем на мое приближение. Когда я возвращаюсь из города, он чует это заранее, проявляет заметное беспокойство, если удается, убегает со двора и несется к шлагбауму у въезда в поселок, чтобы встретить меня. Каким-то образом отличает мою машину от других и семенит за ней, виляя куцым хвостом.
– Как он узнает вашу машину? – удивляется Шура.
– По номеру, – отвечаю.
– Да ну! – восклицает она, но, будучи об интеллектуальных способностях Федора высокого мнения, склоняется к тому, чтобы поверить.
Шура оказалась у нас, когда сбежала из тамбовской деревни, где ее всю жизнь били. Сначала за любую провинность и просто для острастки порол ремнем пьяный отец, потом за то, что оказалась бесплодной, кулаками воспитывал муж, тоже пьяный. Время от времени он «зашивался» и не пил, но тогда становился злее и бил еще больше. Шура все терпела, не представляя себе даже, что может просто уйти, но ей повезло: однажды муж ее, пьяный, попал под автобус. Но к этому времени подрос и тоже стал ее поколачивать зачатый по пьянке сынок Валентин, от которого она и сбежала, оставив ему все, что у нее было, включая дом и корову. О сыне она говорить не любит, но мужа вспоминает с ненавистью и благодарит шофера того автобуса, который его задавил.
Появившись у нас, она поначалу вела себя очень робко, боялась задать лишний вопрос и показать, что чего-то не знает. Первым ее заданием было приготовить нам с женой завтрак. Накануне вечером Варвара велела ей сварить два яйца в мешочек. Утром мы встали, завтрака нет, нас встречает Шура, растерянная, и сообщает, что всю кухню обшарила, но мешочков нигде не нашла.
В конце концов она у нас прижилась, отмякла, но от старых страхов долго не могла избавиться. Бывало, я просто позову ее: «Шура!» – она вздрагивает, смотрит на меня, и я вижу в глазах ее страх, Боится, что что-то сделала не так и сейчас будет физически наказана. Иногда, впрочем, боится не зря. Однажды, войдя к себе в кабинет, я застал ее за тем, что она, встав на стул, мокрой половой тряпкой пыталась протереть висевшую над моим столом картину Поленова «Заросший пруд», не оригинал, конечно, но очень хорошую.
– Ты что делаешь?! – закричал я.
Она медленно сползла на пол, бледная, глядела на меня обреченно, и губы ее тряслись.
Годы спустя, уже больше ко мне привыкнув, она призналась, что думала, что я ее буду бить.
Шура живет у нас уже больше шести лет. Мы ей выделили комнатку на втором этаже с отдельным туалетом и душем. Там она поставила себе тумбочку с настольной лампой. На тумбочке у нее иконка, на стене литография – какой-то замок и пруд с лебедями. Мы отдали ей старый телевизор, она смотрит его в свободное время. Ее любимые передачи прежде были «Модный приговор» и «Давай поженимся», но с недавнего времени она стала проявлять интерес и к политическим ток-шоу, которые смотрит, но отношения к ним как будто не выражает. Вообще она тиха, неразговорчива, аккуратна. Личной жизни у нее, кажется, никакой нет. Ходит гулять с Федором. С некоторых пор стала посещать церковь. Ее отец был, как выяснилось, членом КПСС и даже секретарем совхозного парткома, но тайком сам крестился и крестил детей, что не мешало ему по-прежнему много пить и истязать своих близких.
Я с Шурой борюсь, потому что она всегда пытается навести у меня свой порядок, переставляет мои вещи, в мое отсутствие складывает мои бумаги так, что потом я не могу разобраться, где что, и отучить ее от этого нет никакой возможности.
Прежняя наша домработница Антонина постоянно вмешивалась в наши с женой разговоры. О чем бы мы ни говорили – о жизни, политике, экономике, литературе, обо всем она имела свое мнение, которое, впрочем, всегда совпадало с моим. Эта же никогда не вмешивается, только слушает, как мы обсуждаем какую-нибудь книгу, фильм, театральную постановку, телевизионную передачу, перемываем косточки знакомым, ругаем власть или ругаемся сами. Слушает, иногда усмехается какой-то своей мысли, но в разговор не вступает.
Я вообще думал, что она ни о чем своего мнения не имеет, но однажды, заглянув в ее коморку, увидел у нее на тумбочке рядом с иконкой, изображающей Божью матерь с младенцем, стоит такого же размера фотопортрет Перлигоса. Естественно, я не удержался, спросил, откуда, мол, и зачем.
– А что, нельзя? – спросила она.
– Да пожалуйста, но зачем он тебе?
– Но он же хороший.
– А чем он хорош?
– За Россию болеет.
В другой раз я увидел у нее на тумбочке книжку Гарольда Евсеева, известного нашего «патриота», «Истоки российского жидо-масонства». Когда я спросил, кто дал ей эту дрянь, она сказала: Семигудилов.
А я-то сомневался, что она умеет читать.
Мне это не понравилось, и я сказал Варваре, что домработницу пора поменять.
Но Варвара стала решительно на защиту Шуры, убеждая меня, что она просто дура, но честная дура. Антонина у нас слегка подворовывала, а эта пока ни в чем таком не замечена. Свои обязанности выполняет, в доме всегда чисто, окна вымыты, белье выстирано, обед приготовлен, а ее взгляды не имеют никакого значения, тем более что на самом деле никаких взглядов у нее нет.
Тоцк не берет
Если, как утверждает статистика, средняя продолжительность жизни в нашей стране 64 года, то несправедливо кому бы то ни было слишком превышать этот предел. Да, конечно, я работал, что-то делал полезное или вредное (это как посмотреть), но сколько же государству можно со мной расплачиваться?! Так что, если предположить, что «Скорая помощь» соблюдает государственный интерес, ей лучше не торопиться. Однако и молодость не причина, чтоб поспешать. К моему соседу, тридцатилетнему бизнесмену Кольке Федякину, когда у него случился инсульт, не ехали, потому что он взывал о помощи заплетавшимся языком, и фельдшер, принимавший звонок, посоветовал не хулиганить, проспаться, а утречком выпить рассолу. А он утречком советом не воспользовался, потому что мертвые рассол не пьют. А дяде Федякина Борису Евсеевичу, когда он лежал с сердечным приступом, предлагали: прежде, чем зря беспокоить занятых людей, принять валидол или нитроглицерин, положить на грудь грелку, наклеить горчичники, попарить ноги. А тут Варвара набрала 03, и там, к моему удивлению, лишних вопросов задавать не стали и возражать не потрудились. Не прошло и получаса, как машина с крестами на влажных боках, огласив окрестности завыванием сирены и осветив их синими всполохами, влетела во двор. Сам факт, что она так скоро прикатила, убедил меня в том, что те, кто послал машину, считают дело заслуживающим ее посылания. На пороге появилась молодая белокурая женщина в голубой куртке с надписью на спине «скорая помощь» и молодой человек, высокий, с короткой стрижкой и бессмысленно-иронической улыбкой на плоском лице.
– Ой, – сказала женщина, – какой у вас красавец! – и потрепала по холке доверчиво подошедшего к ней Федора. – Нечего сказать, хорош. И сразу готов дружить. Чует, что от меня собакой пахнет?
И прежде, чем поинтересоваться причиной вызова, рассказала, что у нее тоже есть собака пудель, беспородная кошка, муж Ваня и двое детей младшего школьного возраста. Сообщила, что имя-отчество ее Зинаида Васильевна, но муж, свекор и все остальные зовут ее просто Зинуля. Наконец вспомнила, зачем она тут:
– Так у кого здесь что случилось?
Мы наперебой стали объяснять. Несмотря на суммарную сбивчивость, она все поняла. Осмотрела мой живот, потрогала – мизинцем с ногтем, наманикюренным и остро заточенным, как будто специально подготовленным для вытаскивания клещей. Я подумал, что она сейчас же этот природный инструмент и употребит в дело. Но она пальчик отвела, а клещом восхитилась, как до того собакой:
– Ой, какой аферист! Супер! И как же ты туда, паразит, залез? И вылезать, наверное, не хочешь. А зачем? Тепло тебе там, уютно, сытно. Ну, ничего, – пообещала, – у нас не засидишься.
И говорит уже не клещу, а мне:
– Ну что ж, собирайтесь, поедем в больничку.
– Зачем? – удивился я.
– Ну а как же. Вы же не хотите умереть от энцефалита.
– Не хочу.
– Значит, надо ехать.
– Но почему ехать? Разве вы не можете сделать что-то на месте?
– А что именно?
– Ясно что. Вынуть клеща. Это что, такое сложное дело? У вас же, наверное, есть для этого медицинское образование, опыт.
– Все у меня есть, я фельдшер со стажем. Не врач, но тоже кое на что способна. Но вот стерильных инструментов у меня нет. А без стерильных инструментов такие вещи не делаются. Вы со мной согласны?
Я был согласен, но посмел выразить недоумение.
– А что, стерильные инструменты – разве это проблема?
– Ну конечно, проблема, вы же не хотите умереть от заражения крови. Мне кажется, даже и в вашем возрасте это не очень приятно. Вы со мной согласны?
Я опять согласился, что и от заражения крови умереть не хочу. Если правду сказать, я вообще-то ни от чего не хочу, хотя понимаю, что отчего-то все же придется. Но желательно в другой раз. Хотя в другой раз желательно тоже не будет.
– Но все-таки, – попробовал я рассуждать логично, – если у вас с собой нет никакого стерильного инструмента, давайте обойдемся домашними возможностями. Возьмем простую иголку, прокипятим, вот вам и стерильный инструмент.
– Ну это правильно. Иголку вы прокипятите. А полы, стены и потолки тоже прокипятите? Стерильную обстановку создать сумеете?
– То есть чтобы вокруг чистота была? Так у нас вроде бы и не грязно.
– Чистота – это еще не стерильность. Попробуйте пальцем по полу проведите, суньте его под микроскоп, и там такое увидите, что в обморок упадете.
Я предположил, что с микроскопом везде что-нибудь найдешь.
Она согласилась: везде, но не то и не в такой пропорции. Если в настоящей операционной…
– Да при чем тут операционная, – сказал я, теряя терпение. – Мне же не операцию, а всего-навсего вынуть клеща.
Но и она стала раздражаться.
– Это вам кажется, всего-навсего клещ. Микроб в тысячу раз меньше, а попадет в ранку – и заражение крови. И что после этого? После этого вы на кладбище, я в тюрьме, а мои дети где? В детдоме. Они ж у меня от первого мужа, а этот с ними возиться не станет. Нет, не то чтобы это… Он их любит, пока со мной. Но встретит другую женщину – и сразу вспомнит, что детишки-то не его. Вот и отдаст в детдом. А там их американцам продадут на расчленение. Закон запрещает, а им все равно продают. Нелегально. Через Белоруссию перевозят. Вы думаете, они так, что ли, охотятся за нашими детями? Потому что такие добрые? Ага, добрые. У них сейчас, слышали? Продолжительность жизни выросла почти до ста лет. А за счет чего? Три вещи (стала загибать пальцы): сбалансированное питание, стволовые клетки и трансплантация. Американцы, они люди рационально мыслящие. Вы со мной согласны? Для них здоровый русский ребенок – это комплект запчастей. Это как автомобиль, понимаете? Умелые люди крадут, разбирают и потом по частям продают. Кому тормозные колодки, кому карбюратор, шины, свечи или что еще. Так мы едем или ждем симптомов энцефалита? У вас головка не кружится? В глазах не двоится?
Естественно, мне сразу показалось, что кружится и двоится.
– Значит, и обсуждать нечего, – заключила она и, достав из сумки специальный мобильный телефон величиной с мужской ботинок, стала звонить в какую-то инстанцию и объяснять негромко:
– Да клещ! Есть покраснение и припухлость. Больной жалуется на ощущение зуда, головокружение, двойное зрение и тошноту.
Про тошноту это она от себя прибавила, но как только прибавила, так мне сразу показалось, что меня и подташнивает.
Я анализировал свои ощущения, а она отошла в угол и еще в свой мобильник шептала, прикрывая его пухлой ладошкой, что-то, очевидно, такое, что не для моих ушей. Это меня насторожило, но все-таки я еще ожидаю, что ей скажут, мол, чепуха, не морочьте голову, сделайте то-то и то-то и примите новый вызов. Ей ничего такого, видимо, не говорят, значит, к тому, что она нашептала, отнеслись с должным вниманием. Закончив разговор с инстанцией, фельдшерица сообщила, что меня готовы принять в «Склифе», то есть в больнице имени профессора Склифосовского, куда везут людей с ножевыми и огнестрельными ранами, самоубийц, отравившихся грибами, обварившихся кипятком, обгоревших в пожаре, свалившихся с крыш, смятых в автокатастрофах, вырезаемых из железа и собираемых по кусочкам. И меня с какой-то букашкой в животе туда же? С одной стороны, неудобно с такой чепухой, а с другой стороны, если везут, значит, не чепуха. Но, представляя, что от меня до Склифосовского не меньше сорока километров, я поинтересовался, а нельзя ли куда поближе. Например, в Тоцк, вот он рядом, а в нем есть замечательная больница.
– Ой, какой же вы капризный! – вздохнула она и стала опять звонить. – Але, але, они в «Склиф» не хотят, они хотят в Тоцк. – Мне: – Сейчас наш диспетчер звонит в Тоцк. – Диспетчеру: – Але, але. Что, нет? – Мне: – Тоцк вас не берет. У них больница академическая. Берут только академиков, профессоров, докторов наук. Но вас могут принять в Запольске.
Водитель за все это время не сдвинулся с места. Стоял у двери все с той же ничего не выражающей глупой ухмылкой и крутил на пальце связку ключей.
В поисках стерильности
Я, конечно, оскорбился, что Тоцк меня не берет. Я, по их мнению, не академик. Я ничего доказывать не захотел. Хотя в некоторой степени я все-таки академик. В двух, как сказано выше, иностранных академиях состою и в одной нашей в качестве почетного члена. Но что доказывать? Тоже мне академическая больница! Я понимаю, когда есть клиники онкологические, педиатрические, психиатрические, ветеринарные по видам болезней или животных. А тут настроили всяких лекарен, отдельных для академиков, для министров, для космонавтов, для судей, для прокуроров или еще кого. Как будто эти, которым для, не из таких же частей, как мы, состоят или болезни у них особенные, академические, министерские, прокурорские. Единственное у них профессиональное заболевание – геморрой. У нас государство, каким было советское, таким и это осталось, – сословно-иерархическое. Одним все, другим поменьше, третьим шиш. Конечно, за Тоцк я мог бы еще побороться, куда-нибудь позвонить, написать жалобу, выложить в Интернет, но пока буду этим заниматься, энцефалит разовьется… Так что там еще? Запольск? А он не академический. И разве он не дальше, чем «Склиф»? Фельдшерица охотно согласилась:
– Ну и правильно, в Запольск ехать не стоит, тем более что стерильности они тоже не обеспечат. Какая там стерильность? Там вот такие тараканы по стенам бегают. А в «Склифе» стерильность. И еще специально обученный персонал, нужное оборудование и лаборатория. Они вашего клещика аккуратненько извлекут и сразу в лабораторию на анализ, а вам сделают инъекцию. И, бог даст, живым останетесь. Если даже и будет небольшое повреждение мозга, это не страшно, у нас вся страна с поврежденными мозгами живет. Вы со мной согласны?
Когда такие перспективы, мне что остается делать?
Ладно, говорю, поехали. Зинуля обрадовалась, как будто я к ней на именины наладился. Я потом подумал, что это ей для чего-то было надо именно в тот район попасть, вот она меня этим направлением и соблазняла. А соблазнивши, обрадовалась.
– Паша, – говорит шоферу, – давай!
Федор, пользуясь общим замешательством, первым вскочил в машину, но, будучи изгнан, обиделся и вернулся в дом не обернувшись. Шурочка, провожая нас, всплакнула и перекрестила меня, что усугубило мои дурные предчувствия. В машине оказались узкий лежак и четыре кресла – три спереди, одно сзади.
– Как вы, сидя или лежа поедете?
Я сказал, что, конечно, сидя. Тем более, что перечисленные выше симптомы как будто прошли и лежачего больного изображать из себя не хотелось. Расселись по креслам, пристегнулись, поехали. Куда? Зачем? Нужно ли? Я прожил уже, как сказал бы ученый человек, основной корпус жизни, и стоит ли так уж цепляться за то, что осталось, если даже в нужности всего нашего существования у некоторых людей есть сомнения.
О смысле жизни
«Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» – спрашивал Пушкин.
Всякий думающий человек рано или поздно задавался этим вопросом. При этом кто-то, естественно, надеялся, что дар, может быть, не совсем случайный и совсем не напрасный, а дан ему с каким-нибудь смыслом, может быть, даже со смыслом особенным. Ну, допустим, что жизнь Пушкина имела особый смысл, потому что… Ну, не буду объяснять почему. Хорошо, давайте начнем с Пушкина и составим список сделавших что-то особенное в литературе, искусстве, науке и оставивших, как говорится, свой след. Но ведь большинство людей никакого отдельного следа ни в чем не оставили. Крестьянин выращивал хлеб, мы его съели, переварили, осталось то, что осталось. Дворник смел во дворе листья, они опять нападали, он опять смел, чистил двор от снега, наступила весна, от его работы ничего не осталось. Значит, его жизнь вообще прошла бесследно? А жизнь животного, насекомого, оно что же – создано природой без всякого смысла? Может быть, даже и так. Все со смыслом или все без смысла. Если второе, то и Пушкин без смысла, потому что большинству людей и он не нужен. Большинство живет, не задумываясь о смысле, и правильно делает, потому что попытка найти его приводит только к напрасным мучениям, а иногда и похуже. Мой друг Костя Плотников был блестящим ученым-физиком, автором нескольких открытий, включая элемент, пополнивший таблицу Менделеева. В обыденной жизни он был легким, общительным и безалаберным человеком. Но иногда задумывался о смысле жизни, додумывался до того, что его нет, впадал в депрессию и приходил к мысли, что раз нет смысла жизни, то нет смысла жить. И тогда попадал в больницу. Врачи вникали в причину его депрессий, выясняли подробности его жизни, но все как будто было в порядке. И наследственность (папа химик, мама пианистка) неплохая, и в детстве ничем, кроме кори и свинки, не болел, учился отлично, в делах успешен, жена прекрасная и дети хорошо устроены. С сексом есть проблемы, но дело не в этом. А в том, что не видит смысла в жизни. Тогда возникали мысли о самоубийстве. Однажды его вынули из петли и привезли в больницу. Два дня он лежал лицом к стене, ни с кем не разговаривая, но безропотно подчинялся медсестрам, приходившим сделать укол, измерить давление, температуру и взять кровь на анализ. Вечером третьего дня его посетил заведующий отделением Геннадий Еремеевич Цымбалюк, мужчина лет пятидесяти с коротко подстриженными седыми усиками на жизнерадостном загорелом лице, любитель женщин, рыболов и охотник. Он только что вернулся из Болгарии, где охотился на косуль, был результатом вполне доволен, что положительным образом отразилось на его настроении.
– Рад снова вас видеть, – сказал он, войдя в палату. – Предпочел бы встретить вас не здесь, но здесь вам тоже будет неплохо. Весь персонал относится к вам с большим почтением и необычайной нежностью. Как себя чувствуете?
– Зачем меня сюда привезли? – в ответ спросил Костя.
Вопросу доктор не удивился.
– Мы всего лишь исполняем наши обязанности.
– В чем они состоят?
– В частности, в том, чтобы удерживать людей от необратимых поступков.
– А почему вы должны меня удерживать? Почему я, взрослый человек, не могу распорядиться собственной жизнью?
– Потому что решение распорядиться таким образом чаще всего возникает под воздействием сиюминутных эмоций, и человек, удержанный от самоубийства, потом бывает благодарен удержавшим. То есть мы предполагаем, что если вас не удержать, вы бы об этом потом пожалели бы, если б смогли.
– Это не мой случай, – сказал Плотников. – Потому что у меня не эмоции, а четкое осознание того, что моя жизнь никакого смысла не имеет. Но вы вряд ли можете меня понять.
– Почему же? – возразил доктор. – Мысль не так уж оригинальна, как вам кажется. Процентов сорок наших пациентов охотно с вами согласятся. Но если вы продлите ваши размышления в эту сторону, то придете к выводу, что если нет смысла в жизни, то в смерти его тем более нет.
– И что из этого следует? – спросил больной, хотя не очень интересовался ответом.
– А из этого следует то, что если нет смысла ни в том, ни в другом, то и вовсе нет смысла в том, чтобы добровольно менять одну бессмыслицу на другую. Причиняя страдания своим близким.
– Я им живой причиняю больше страданий.
По своему образованию и личному опыту доктор знал, что убеждать больного, находящегося в глубокой депрессии, словами в чем бы то ни было, а тем более в том, что смысл жизни есть, бесполезно, что помочь ему могут только лекарства. Тем не менее он втянулся в разговор и, забыв, что он врач, пытался подействовать на больного логикой, тем более что тот постепенно тоже разговорился.
– И вообще, что такое смысл жизни? – говорил доктор мягким задумчивым голосом, как будто впервые обсуждал эту тему и теперь размышлял вслух. – Представление о нем зависит от мировоззрения или даже от настроения. Смысл жизни можно не видеть ни в чем или видеть во всем. Кавказские люди считают, что человек выполнил свое предназначение, если построил дом, родил сына (дочь не в счет) и посадил дерево.
– Дом со временем разрушится, – парировал Костя, – сын и дерево умрут.
– Мы все умрем. Но сын построит другой дом и родит своего сына, а дерево родит другое дерево. Одно умирает, другое рождается, но в целом природа и все ее составные не умирают, а обновляются и продолжаются в следующих поколениях. Так неужели вы думаете, что во все это не внесено никакого смысла?
– Кем он внесен? Богом?
– Да, я забыл, что вы, кажется, атеист. Ну допустим, вы не верите в Бога, но если мы даже возникли просто из пыли, то почему бы не предположить, что и этот процесс состоялся со смыслом. Ведь не может же быть, что наш мир, такой разнообразный, многозвучный и многоцветный, создан и существует без всякого смысла.
– А остальные миры?
– То есть?
– Все мироздание. Весь этот космос – звезды, планеты, безжизненные, пустые, холодные, серые, в их существовании тоже какой-то смысл?
– Безусловно. Вы как физик лучше меня знаете, что вращение в пространстве небесных тел, их расположение относительно друг друга и взаимная привязанность подчинены строгим законам, которые вы, ученые люди, с изумлением открываете. Вы их только открываете, но созданы-то они не вами. Но их создание было же подчинено какому-то смыслу.
– Я в этом сомневаюсь.
– Ну и сомневайтесь сколько угодно, но зачем же руки на себя накладывать? Почему вам просто не поверить своим ощущениям? Тому, что жизнь бывает всякой: скучной, холодной, серой, дождливой и слякотной, но бывают другие периоды, когда солнечно и светло, когда вы открыли что-то невероятное, когда вы любите и любимы, когда вы лежите в засаде и на вас идет олень, красавец вот с такими рогами… Господи, неужели в такие минуты стоит думать о смысле жизни, когда сама жизнь является смыслом жизни?
Спор затянулся. Время от времени в палату заглядывала дежурная медсестра Галя с предложением сделать укольчик. Доктор делал ей знак, она исчезала. Доктор приводил аргументы, больной их отвергал и приводил свои. Оба спорщика были люди умные, образованные. Доводы каждого были убедительны, но и контрдоводы были такими же. В конце концов оба утомились, а тем временем забрезжил рассвет. Доктор спохватился, что прошла целая ночь, а ему утром опять на работу, простился с собеседником и пообещал, что встретятся утром во время обхода. Доктор ушел, больной заснул и спал долго. Проснулся от солнечного света и свежего воздуха. Это санитарка Наталья открыла окно, чтобы проветрить палату. За створками окна была решетка из толстых металлических прутьев, и тень от нее лежала на полу, который мокрой шваброй протирала Наталья. Потом влажной тряпкой она протерла столик в углу, стул и спинку кровати, на которой лежал Костя. Затем встала на стул, чтобы закрыть окно.
– Не надо, – сказал ей Костя.
– Что не надо?
– Не надо закрывать окно.
– Хорошо, – сказала Наталья и вышла.
Костя лежал на кровати, жмурился от слепящего солнца и вдруг понял, что это очень и очень хорошо – ощущать тепло солнечных лучей и вдыхать свежий весенний утренний воздух и слушать заоконные шумы городского движения, чьи-то голоса, стук каблуков, шелест листвы и карканье ворон. Он вспомнил о своей попытке самоубийства и представил себе, что сейчас он был бы не здесь, а в морге, голый и синий на цинковом ложе, и проникший сквозь форточку солнечный луч лежал бы на его безжизненном белом лице. И, на секунду представив себе эту картину, он содрогнулся от ужаса. И подумал, что неужели и правда пришло ему в голову самому добровольно отказаться от жизни, которая так прекрасна во всех своих проявлениях. Он вспомнил ночной разговор с Геннадием Еремеевичем Цымбалюком. Все, что говорил ему доктор, сейчас казалось Косте необычайно мудрым и убедительным. А его собственные возражения глупыми и бессмысленным. Теперь он точно понимал, что смысл жизни неизвестен, но он есть, а если его и нет, то и не нужно. Не надо никакого смысла, надо просто жить, наслаждаясь солнцем, воздухом, природой, цветами, музыкой, любовью, работой, выпивкой, едой и чтением умных книг. Все это он немедленно хотел рассказать Геннадию Еремеевичу и с нетерпением ждал девяти часов утра, когда тот явится с утренним обходом. Но в девять доктор не появился, а около десяти пришла лечащий врач Оксана Габриэлевна. Глаза у нее были заплаканы, и это очень не понравилось пациенту. Ему казалось, что в такое прекрасное утро все должны радоваться жизни и ничего омрачающего радость ни у кого не должно быть. Она смерила давление и спросила, как дела.
Больной сказал:
– Хорошо.
Она, похоже, удивилась и переспросила:
– Хорошо? В каком смысле?
– В том смысле, что я хорошо себя чувствую.
Видимо, его ответ не совпадал с ее ожиданиями, и она решила уточнить:
– А как настроение?
– Приподнятое, – сказал он. – А у вас что-то случилось?
Так он спросил и напрягся, очень не хотелось услышать что-нибудь огорчительное.
Она не ответила и задала свой вопрос:
– Я слышала, вы чуть ли не всю ночь говорили с Геннадием Еремеевичем?
– Да, – охотно поделился больной, – говорили.
– И как он вам показался?
– Не знаю. Может быть, он владеет гипнозом или еще что-то такое. Я никогда не думал, что на меня кто-то может так сильно подействовать словами. А он меня убедил в том, что жизнь чего-то все-таки стоит.
– Кажется, вы убедили его в обратном, – сказала она и пошла к выходу. Уже взявшись за ручку двери, обернулась, встретила вопрошающий Костин взгляд и медленно, отделяя слово от слова, голосом диктора, читающего последние известия, сообщила:
– Геннадий Еремеевич Цымбалюк сегодня утром застрелился в своем кабинете.
Жизнь напрокат
Так что же все-таки наша жизнь? Дар напрасный, дар случайный, или что? Впрочем, это даже не дар, а лизинг, что ли, или даже просто аренда. То, что дается на время. Кому-то на продолжительный срок, а кому-то поменьше. Разумеется, меня как всякого человека занимает неизбежная мысль: а что же будет после, когда Арендатор возьмет свой товар обратно? Некоторые шли дальше. Набоков думал не только о том, что будет, когда его не будет, но и о том, что было, когда его не было. Если я его правильно понял и запомнил, он воспринимал прошлое как смерть до жизни и ставил знак равенства между ней и смертью после. До рождения его не было и после смерти его не стало. Но мне это рассуждение кажется не совсем корректным, потому что между временем до и после есть большая разница. О том, что было до нас, мы с большей или меньшей достоверностью представляем себе, пользуясь археологическими, письменными, а теперь и видеосвидетельствами наших предков. Это дарованная нам память о прошлой жизни. Как вставная флешка в компьютер. А память, это и есть жизнь. Чем больше в ней запомненных событий, тем она кажется нам длиннее.
Можно сказать, что прошлое человечества – это было наше преддетство, в котором мы тоже как будто жили. А после жизни жить не будем никак. Вот в чем разница! Со мной не согласятся те, кто верит в загробное существование, но я-то в него не верю и не сомневаюсь в том, что после жизни наступит ничто. Пустота. Вакуум. Я допускаю, что Бог в каком-то виде или совсем невидимый и неосязаемый есть, но не могу представить себе, чтобы он специально заботился о моем сохранении вне телесной оболочки. Для чего, скажите, она была нужна, если мы можем обходиться без нее?