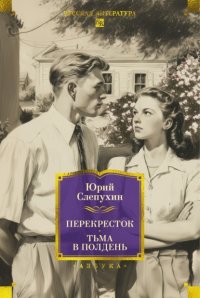Читать онлайн Перекресток бесплатно
- Все книги автора: Юрий Слепухин
Пролог
Уже пятый час без остановки, подхлестываемые стремительными взмахами шатунов, бешено крутились высокие – в полтора человеческих роста – колеса мощного коломенского паровоза. Открытые семафоры проносились мимо; путь был свободен – он летел под колеса километр за километром, холодно и безучастно отсвечивая синеватым блеском металла. Над полотном железной дороги, над желтыми от суглинка полями и поросшими бурьяном оврагами висел густой осенний туман.
Южный экспресс вышел из Москвы на рассвете. Позади остались редкие группы провожающих на перроне, лачуги и новостройки предместий, дымные корпуса, трубы, штабеля угля, мокрые дощатые платформы пригородных станций, дачки с резными мезонинами и стальные мачты высоковольтных линий. Экспресс торопился; его длинное членистое тело, составленное из десяти темно-синих пульманов, содрогалось от нетерпения и мускулисто выгибалось на поворотах пути, чтобы – снова распрямившись стрелой – дальше и дальше со всего размаха вонзаться в туман, оставляя за собой быстро глохнущий грохот и разорванные клочья дыма, медленно оседающие на полотно.
Шел тридцать шестой год, и была осень – холодное октябрьское утро тысяча девятьсот тридцать шестого года.
В длинном лакированном коридоре было тихо. Ритмично покачивались занавески, ровно блестел ряд начищенных дверных ручек; не нарушая тишины, делая ее лишь более ощутимой, из одного купе доносились негромкие голоса да под ковровым настилом пола глухо и безостановочно рокотали колеса.
Военный с двумя шпалами на черных петлицах, вышедший в коридор покурить, стоял у окна, пошатываясь в такт работе рессор и время от времени точным жестом поднося к губам папиросу. За толстым стеклом, затуманенным осевшей влагой, с утомительным однообразием взлетали и медленно опадали телеграфные провода, мелькали столбы, косо перечеркнутые поперечинами с аккуратными рядками зеленых стеклянных изоляторов. Подальше – на самой границе тумана, белесой стеной подступившего к полотну, – реже и медленнее пробегали потемневшие от непогоды шалашики, составленные из решетчатых щитов снегозадержания.
Когда-то они с братом каждый год в конце лета тоже строили себе шалаш – оперативную базу для глубоких рейдов по окрестным садам. Помешанный на индейцах, Виктор называл это вигвамом. Странно, что даже сейчас – почти тридцать лет спустя – он отлично помнит еще запах "вигвама": сенокосный аромат вянущей травы, наваленной на каркас из жердей, и прохладный – награбленной антоновки…
Да, почти тридцать лет. А теперь от брата осталось только это непонятное существо, сидящее там, в купе, да обведенная черным заметка: "Народный комиссариат тяжелого машиностроения с прискорбием извещает о кончине Виктора Семеновича Николаева, главного инженера Востсибмашстроя, погибшего при исполнении служебных обязанностей 29 сентября 1936 года".
В последний раз они виделись четыре – или три? – нет, четыре года назад. Виктор заехал к нему на одну ночь, возвращаясь из очередной поездки в Америку, и привез подарки – хитро устроенную американскую трубку с прозрачным мундштуком и бутылку хорошего французского коньяка. Трубка была потеряна очень скоро, на осенних тактических занятиях, а коньяк они тогда выпили вдвоем, пока Виктор рассказывал свои впечатления об американских заводах. Утром, уже на вокзале, он спросил Виктора о наследнице. "Растет, – ответил тот, – не по дням, а по часам. Приедешь в Москву раз в год, и смотришь – Татьяна это или не Татьяна. Нянька жалуется – озорница, говорит, такая, что просто беда. А в общем, жаль девочку. Матери нет, отец превратился в отвлеченное понятие…"
Затянувшись в последний раз, майор взялся за ручку окна. Рама плавно и тяжело скользнула вниз, в покойное тепло коридора ворвался вместе с ураганным грохотом колес холодный ветер, насыщенный сыростью и сернистым запахом паровозного дыма.
Жаль, что Анна Сысоевна не смогла поехать вместе со своей воспитанницей. Конечно, в ее возрасте это уже сложно. А теперь он, сорокалетний холостяк, давно получивший от подчиненных лестное прозвище "костяной ноги", должен – что? Бегать по городу и искать няню? Или самому браться за воспитание племянницы? Экое ведь нелепое положение, будь оно неладно. С парнишкой было бы уж куда проще, что и говорить. И то трудно! Но девочка…
– Ну ладно, нечего разводить панику, – вслух пробормотал майор, закрывая окно. – Не отдавать же родную племянницу в детдом!
Щелчком сбив пушинку с рукава кителя, майор отодвинул дверь купе. Племянница – худенькое круглолицее существо в пионерском галстуке – сидела с поджатыми ногами в уголку дивана. Майор с сожалением заметил, что купленные в Москве журналы так и лежат на столике нетронутой стопкой. Их было много: не зная в точности, что обычно читают в тринадцать лет, он взял на всякий случай все, что было в вокзальном киоске, – "Огонек", "Костер", "Мурзилку", "Крокодил" и "Пионер". Очевидно, нужно было взять что-то другое, экая история…
– Ну вот, Татьяна, – неопределенно сказал он, усевшись на диванчик напротив, – можно сказать, путешествуем?
В сотый раз, но с тем же чувством недоумения, что и впервые, смотрел он на племянницу – собственно говоря, теперь уже дочку. С одной стороны (насколько он понимал), все было как полагается – круглые, совершенно невероятных размеров глаза, нос пуговкой, еще лоснящийся от утреннего умывания, косички с черными бантами. Банты эти, как и снежная белизна блузочки и отлично отутюженная плиссированная юбка с перекрещенными сзади бретелями, хранили еще прощальную заботу Анны Сысоевны, обряжавшей вчера свою воспитанницу в дальний путь. Что ж – девочка как девочка. Но, с другой стороны, разве это не загадка – посложнее всех тех, с которыми ему приходилось до сих пор иметь дело? Перед его отъездом из Энска директор той школы, куда он ходил договариваться насчет Татьяны, посочувствовал его положению и отчасти успокоил его, сказав, что на девочку будет обращено в школе особое внимание; что же касается воспитания внешкольного, директор посоветовал ему почитать некоего Макаренко – или Макарченко? – по его словам, это был большой специалист по таким делам. В Москве майору удалось после долгих поисков купить "Книгу для родителей"; заглавие его немного ободрило, и на эту книгу он возлагал сейчас единственные свои надежды.
Задав племяннице нелепый вопрос, он тотчас же устыдился, вспомнив слышанное от кого-то мнение, что дети отлично разбираются – когда с ними говорят всерьез и когда просто так, чтобы что-то сказать. И действительно, племянница в ответ промолчала – как ему показалось, укоризненно.
– Когда мы приедем, дядя Саша? – в свою очередь спросила она через минуту, сильно картавя и произнося два последних слова совсем слитно, так что получилось "п'иедем" и "Дядясаша".
– Ну, не так уж скоро, Татьяна! – оживился майор. – Не раньше полуночи, я думаю. Это если без опоздания, поезда сейчас ходят черт знает как. Что, брат, надоело?
– Я немножко устала, Дядясаша, – пожаловалась девочка, – все сидишь и сидишь… и потом жалко, что туман – ничего не видно…
– Да, туман – это несколько э-э-э… непредвиденное обстоятельство, – отозвался майор, мучительно думая, о чем бы еще поговорить.
Нужно было тщательно избегать упоминания об Анне Сысоевне. Прощаясь с ней на вокзале, Татьяна рыдала истерически, и понадобилось очень много неумелых усилий с его стороны, чтобы кое-как успокоить племянницу, убедив ее в том, что расстается она с няней всего на несколько месяцев, а летом уедет к ней в Звенигород на все каникулы, до осени. Нельзя было говорить и о Викторе, хотя – как это ни печально – смерть отца Татьяна восприняла едва ли не легче, чем разлуку с няней. Впрочем, можно ли винить за это девочку, если отец появлялся дома раз в год, а то и реже?
Анна Сысоевна рассказывала ему об этих посещениях. Виктор обычно прилетал в Москву на какую-нибудь неделю, из которой семь дней проводил в трестах и главках, а домой забегал лишь для того, чтобы взглянуть на спящую дочку, оставить возле ее кроватки кучу конфет и игрушек и самому соснуть несколько часов в своем пропахшем пылью и старыми бумагами кабинете, среди развешанных по стенам фотографий строящихся цехов. А впрочем, может быть, все это оказалось сейчас и к лучшему – для Татьяны. По крайней мере, она не слишком травмирована случившимся…
Майор перевел дыхание, почти физически ощутив вдруг тяжесть газетной вырезки, спрятанной в бумажнике в нагрудном кармане. Эх, Витя, Витя, так и не удалось им за все эти годы выкроить хотя бы неделю совпадающих отпусков, чтобы поехать порыбачить в родных местах под Воронежем…
Да, как-то очень по-разному сложились их судьбы, с самого начала. Насколько буднично и просто шло все у него самого – один курс Политехнического, потом школа прапорщиков, Февраль, Октябрь, гражданская война, академия и служба по сей день, – настолько яркой казалась ему всегда жизнь Виктора. Тот успел окончить институт в семнадцатом и сразу же после демобилизации в двадцать втором начал работать по специальности. Через год женился – очень счастливо, по любви, – и вообще, казалось, не было ничего, в чем бы ему не везло в те годы. Майор – он тогда еще им не был и готовился в академию – часто бывал у брата в реквизированном особняке на Неглинной, где тот занимал половину роскошного зала с фанерной перегородкой и расковырянным на топливо паркетом. Ни раньше, ни после того ему ни разу не приходилось больше видеть таких счастливых людей, какими были тогда Наташа и Виктор…
Потом Наташа умерла от воспаления легких, простудившись во время лыжной прогулки в Сокольниках; Виктор к тому времени стал уже довольно известным специалистом и работал с Бардиным на Магнитострое. Возможно, именно работа помогла ему перенести удар. Потом его имя стало все чаще мелькать в газетах. Фотографии инженера Николаева в окружении очень высокопоставленных лиц, ордена, командировки в Америку. В свои сорок два года он был назначен главным инженером строительства Восточно-Сибирского завода тяжелого машиностроения. И наконец срочный вызов в Москву и эта нелепая авария над тайгой…
– Дядясаша… а почему люди умирают? – задумчиво глядя в окно, спросила вдруг племянница, и майора почти испугало такое необыкновенное совпадение их мыслей.
– Ну, как то есть почему… – смешался он. – От разных причин, Татьяна…
– Нет, я не про то, Дядясаша, – терпеливо, как говорят с маленьким, возразила Таня, – а вообще, почему это нужно, чтобы умирали?
Майор озадаченно пожал плечами.
– Это, Татьяна… ну как бы тебе сказать… это уж такой закон существования…
Племянница долго молчала. Потом она отвернулась от окна, и майор увидел, что на ее ресницах блестят слезинки.
– Ну вот, – огорченно сказал он, – а мы договорились не плакать… что ж это ты, Татьяна? Нехорошо, нехорошо… а ну-ка, повернись ко мне…
Достав платок, майор осторожно и неумело отер ей слезы.
– Нехорошо быть плаксой, – сказал он назидательно, – это, брат, просто ни на что не похоже – плакать в тринадцать лет. Ты бы вот лучше подумала о том, как будешь учиться, какие у тебя будут новые подруги и тому подобное… сегодня у нас что – среда? Ну что ж, завтра ты будешь отдыхать, хорошо выспишься, а в пятницу можно будет сходить в школу – познакомлю тебя с директором, он тебе скажет, в каком классе будешь заниматься…
Племянница кивнула и вытерла кулачком глаза.
– А в какой школе я буду учиться, Дядясаша? – спросила она вздрагивающим еще голоском.
– В отличной школе, Татьяна, – весело ответил майор, принимая более непринужденную позу. – Такая, понимаешь ли, сорок шестая средняя школа, совсем недалеко от дома. Красивое новое здание, и директор произвел на меня хорошее впечатление… Кстати – у вас там какой был язык, из иностранных?
– У нас немецкий, Дядясаша… это в двести десятой был французский, а нас хотели перевести на английский, а потом так и оставили с немецким…
– Ну прекрасно, там тоже немецкий, видишь, как удачно. У тебя как с этим делом?
– Годовая была "хор", Дядясаша, потому что я списала контрольную и мне снизили в четверти…
– Вот так после этого и списывай, – сочувственно сказал майор. – Ну, ничего. А с украинским, я думаю, ты тоже справишься…
– С каким украинским, Дядясаша? – озабоченно спросила племянница.
Майор смутился, словно он сам был виноват в том, что девочке придется учить лишний язык.
– Энск ведь находится на Украине, Татьяна, ну и… там приходится изучать украинский язык…
– Ой, – испуганно пискнула племянница. – А это трудно?
– Нет, что ты. Это же почти как русский. Так, маленькая есть разница, а в общем похоже… Войдите!
Дверь откатилась, в купе заглянул бритоголовый толстяк в галифе и темно-синей гимнастерке.
– Товарищу майору с племянницей! – возгласил он сипловатым, чуть придушенным голосом. – Не побеспокоил?
– Приветствую вас, Петр Прокофьич. – Майор встал и жестом пригласил толстяка садиться. – Прошу!
Они были немного знакомы по Энску – встречались иногда на городских партконференциях; а сегодня ночью в Москве Петр Прокофьич появился у вагона как раз в тот момент, когда Таня прощалась с Анной Сысоевной, и сочувственно осведомился у майора о причине слез молодой гражданочки. Оказалось, что он возвращается из командировки и даже едет в этом же третьем вагоне.
Обменявшись рукопожатием с майором, толстяк повернулся к Тане и с неожиданным проворством подмигнул заплывшим глазком.
– Как самочувствие, девушка?
Таня очень удивилась про себя странному обращению, но не подала виду.
– Хорошо, спасибо, – вежливо ответила она. – А как ваше?
– Ну, мое всегда – на большой! А вы, значит, уже вошли в норму? Вот это правильно, это по-пионерски!
Подмигнув еще раз, толстяк достал из кармана завернутого в серебряную бумажку зайца.
– Премия за высокие показатели, – пояснил он, ставя зайца на столик.
– Ой какой симпати-и-ичный… – восхищенно протянула Таня. – Его просто жалко есть, правда! Спасибо…
– Кушайте на здоровье, девушка, только зубки берегите. Александр Семеныч, я, собственно, по вашу душу… – Петр Прокофьич заговорщицки понизил голос до сиплого шепота. – В моем купе, понимаете ли, составилась пулечка, и для полного кворума не хватает только вас. Как вы насчет того, чтобы провернуть это дело? Этак, знаете ли, без волокиты, большевистскими темпами, а?
Приглашение пришлось кстати, – честно говоря, майор уже не знал, о чем еще можно поговорить с Татьяной. Карты так карты, за неимением лучшего.
– Это можно, отчего же не провернуть. Татьяна, ты не возражаешь, если я тебя оставлю на часок в одиночестве? Наш разговор мы продолжим позже. Ты не боишься одна?
– Что ты, Дядясаша!
– Ну, отлично. Вот этой кнопкой вызовешь проводника, если тебе что-нибудь понадобится…
Несмотря на большевистские темпы, пулька в купе Петра Прокофьича продолжалась и после обеда, до самого вечера. За ужином в вагоне-ресторане Таня сидела совсем сонная, поминутно роняя вилку. Когда какой-то военный в высоком звании прошел мимо них, небрежно ответив на майорское приветствие, она почувствовала обиду за своего Дядюсашу и оживилась.
– Он главнее тебя, да? – спросила она, проводив обидчика укоризненным взглядом.
– Кто именно? – не понял майор.
– Ну, вот этот, что прошел…
– А, ну разумеется. Ты же видела, он носит в петлицах ромб, а я – две шпалы, следовательно, он старший по званию. Погоди-ка, у тебя с мясом ничего не получается, дай я тебе порежу на кусочки…
– Нож очень тупой, Дядясаша. А мне нельзя пива?
– Нет, девочки пива не пьют. Взять тебе ситро?
– Угу. А мальчишкам пиво можно?
– Несколько постарше… Девушка, будьте добры бутылочку ситро…
– Нету ситра, – равнодушно бросила официантка.
Майор обескураженно посмотрел на племянницу.
– Плохо дело, Татьяна. Очень хочется пить?
– Нет, Дядясаша. Мне очень спать хочется. Дядясаша, а почему тебе не дали ромба?
– Такой уж, брат, у меня характер.
– Плохой?
– Видно, плохой.
– Значит, ты пошел в меня, – подумав, сказала Таня. – Анна-Сойна говорит, что у меня характер шкодливый, правда.
Майор поперхнулся пивом, плечи его задрожали от смеха. Таня вздохнула и озабоченно сморщила нос.
– Дядясаша, я тебе еще не сказала… мне годовую по поведению чуть не снизили на "посредственно". Это потому, что мы с мальчишками стреляли на уроке такими бумажками, знаешь, такими сложенными, вот так. – Таня выставила рогаткой два пальца левой руки и правой натянула воображаемую резинку. – И я попала в учителя…
– Это, брат, нехорошо.
– Конечно, – опять вздохнула Таня.
Провожая племянницу обратно в купе, майор вел ее, обняв за плечи, – она уже совсем засыпала. Впрочем, в тускло освещенном тамбуре Таню отрезвили грохот и ледяной сквозняк из неплотно сомкнутых гармошек перехода. Прежде чем ступить на покрытые вафельной насечкой, с лязгом ворочающиеся под ногами железные плиты, она с беспокойством глянула на дядьку, снизу вверх, и прижалась к его руке.
– Смелее, Татьяна, – подбодрил майор, – держись за меня и не бойся… да ты, брат, трусиха, оказывается, изрядная…
Доверчивое движение девочки его растрогало. "Старый ты пень, – обругал он себя, вспомнив свои утренние сомнения, – костяная нога и есть, ничего другого про тебя не скажешь…"
– Хочешь спать? – спросил он, открывая дверь купе. – Впрочем, скоро мы приезжаем, пожалуй, уже нет смысла…
– Нет, у меня уже весь сон прошел, – бодрым голоском ответила племянница и зевнула. – Я лучше немножко посмотрю журналы…
– Ну отлично. Я пойду покурю пока.
Он выкурил подряд две папиросы, прошелся по коридору, поигрывая сцепленными за спиной пальцами. Потом выглянувший из купе Петр Прокофьич снова затащил его к себе, затеяв долгий разговор о событиях в Испании. Когда майор вернулся к племяннице, та уже мирно спала, свернувшись калачиком. Возле ее носа, на открытой странице журнала, лежал шоколадный заяц с откушенным хвостом.
Огибая аэродром, поезд описывал широкую дугу, и в залитом дождем окне плыла, ширясь, мерцающая россыпь огней Энска. Майор снял чемоданы с багажной полки, собрал журналы, аккуратно завернул в серебряную бумажку бесхвостого зайца. Покончив со сборами, он долго стоял над племянницей, глядя на ее порозовевшую от сна щеку, освещенную теплым светом лампочки.
– Татьяна, – позвал он негромко, тронув ее за плечо. – Татьяна, вставай-ка, брат, подъезжаем…
С трудом приведя Таню в состояние относительного бодрствования, он подал ей пальтишко, неумелыми движениями помог завязать шарф и оделся сам, рассовав журналы по карманам плаща.
Замедляя ход, экспресс ворвался в лабиринт подъездных путей энского вокзала. Вагон мотало на громыхающих стрелках, за окном – уже неторопливо – пробегали красные и зеленые огни, ряды вагонов, водокачка, проплыла темная туша отдыхающего на запасном пути паровоза, возле которого делал что-то человек с дымно-красным факелом.
– Ну, вот мы и дома, – бодро сказал майор, когда мимо окна замелькали лица встречающих на ярко освещенном перроне.
Несмотря на поздний час, на привокзальной площади было еще людно. Шел дождь. В мокром асфальте отражались высокие молочные фонари и красные фонарики пробегающих машин. Коренастый боец в черном бушлате танкиста откозырял майору, пожал ему руку и, подмигнув Тане, забрал у носильщика чемоданы.
– Сюда, товарищ майор, пришлось в сторонке стать – хотел ближе, так не дали… здесь постовой сегодня такой вредный, нет спасения, я его давно знаю – еще до призыва, я в Заготзерне на полуторке работал – так он одной крови сколько мне спортил, это просто неимоверно сказать…
– Милиция знает, кому кровь портить, – проворчал майор, – ты, брат, лихач известный.
Они подошли к защитного цвета газику с поднятым брезентовым верхом. Боец поставил чемоданы и открыл заднюю дверцу.
– На попа их, Нефедов, вот так… ну, Татьяна, полезай-ка. Не мешают?
Захлопнув за племянницей дверцу, майор подергал ее и, подбирая полы плаща, полез на переднее сиденье, – машина скрипнула и накренилась.
– Газуй теперь, Нефедов, – сказал он, устраиваясь поудобнее и закуривая.
Таня прижалась носом к холодному целлулоиду, по которому снаружи сбегали извилистые дождевые струйки. Витрины были уже погашены, и улицы казались темными. На одном из перекрестков впереди вспыхнул красный глаз светофора – газик остановился, нетерпеливо пофыркивая и содрогаясь. Дядясаша, закинув локоть за спинку сиденья, очень тихо разговаривал с водителем, на ветровом стекле маятником мотался рычажок "дворника", с каждым взмахом оставляя за собой широкий прозрачный полукруг, сразу же опять покрывавшийся сверкающим водяным бисером. Сонно шуршал дождь по брезентовой крыше. Вздохнув, Таня поплотнее вжалась в угол сиденья и закрыла глаза.
Когда ее разбудили, машина стояла уже в другом мосте. Таня вылезла, протирая кулачками глаза и зевая. Улица была широкой, налево поскрипывали от ветра голые черные деревья, направо высился большой кирпичный дом, немного похожий на ее, московский. Косая сетка мелкого осеннего дождя летела перед молочными шарами фонарей.
– Ну, Татьяна, – сказал майор, – на этот раз мы уже окончательно дома. Идем-ка, брат…
Следом за несшим чемоданы водителем они поднялись на четвертый этаж и остановились на площадке. Майор отпер дверь, протянул руку в темноту и щелкнул выключателем.
– А ну-ка, Татьяна… вот и наше жилище. Нравится?
Таня обвела глазами огромную комнату с тремя высокими, закругленными вверху окнами. Черный кожаный диван, канцелярский шкаф с книгами, письменный стол и пара кресел неуютно стояли вдоль стен, почти не занимая места. С лепного потолка свисала на длинном голом шнуре очень яркая лампочка, прикрытая прогоревшим с краю бумажным фунтиком.
– Ну, так как же? – повторил майор, внося в комнату чемоданы.
– Ничего, Дядясаша, – ответила Таня вежливо и не совсем искренне. – Окна совсем как во Дворце пионеров…
– Верно, – улыбнулся майор, – как во дворце. Я эту комнату так и называю – "тронный зал".
– А ты один здесь живешь?
– В принципе да. А что?
Таня пожала плечиками.
– Слишком пусто, и мебели совсем нет…
– А, это мы все устроим… я вот завтра с утра позвоню в КЭЧ, пусть-ка они нам что-нибудь сообразят насчет обстановки. Это уж я оставляю на твое усмотрение, теперь ты хозяйка. Ты пока раздевайся, а я взгляну, не спит ли наша мать-командирша.
Таня сняла пальто и галошки и принялась рассматривать развешанные по стенам карты и непонятные таблицы, потом забралась с ногами на диван и зябко поежилась. В большой неуютной комнате было холодно, пахло старыми газетами и застоявшимся табачным дымом, по стеклам ничем не занавешенных окон барабанил дождь. Откуда-то издалека доносилась негромкая печальная музыка. Диван был холодный, как большая черная лягушка; Тане вдруг очень захотелось плакать. В эту минуту за дверьми послышались шаги и голос Дядисаши, и он вошел в комнату, пропустив перед собой толстую старуху.
– Прошу, это вот и есть моя знаменитая московская племянница. Татьяна, познакомься с Зинаидой Васильевной, сейчас мы пойдем к ней что-нибудь перекусить, а то у меня здесь ничего нет…
– Так это вот и есть Татьяна! – басом закричала старуха. – Да взрослая-то ты какая, батюшки мои, вовсе уж девка! К нам, значит, на жительство? И верно, Татьяна, уж мы тут с тобою заживем на славу – я и сама все дочку хотела, так нет же – как на грех, один сын, другой сын, тьфу ты пропасть!
Старуха была толстой, доброй и веселой – напоминала даже Анну-Сойну. Таня почувствовала к ней доверие.
– А дядька-то твой, слышь, учудил! – продолжала та. – Найдите мне, говорит, нянюшку для племянницы! Да ты сдурел на старости лет, Семеныч, ей-право сдурел. Девке скоро замуж собираться, а он – нянюшку! Господь с тобой, Семеныч, и выдумал же! Коли что надо – я присмотрю, за это не бойся. Даром ты, что ли, моих сынов в армии воспитывал, а? Не бойся за девку, Семеныч, воспитаем и ее. Вот домработницу хорошую я тебе найду, приходящую, это нужно. Раз дите в доме завелось – нужно, спорить не стану. Сама-то небось хозяйновать не умеешь? Ну и верно, тебе это покамест и ни к чему, научишься еще, как время придет, намаешься. Ну, пошли, что ль. Чего поздно-то так, опять небось поезд опоздал? А я и спать не ложилась – что там, думаю, у Семеныча за племянница такая… глазком хотя поглядеть. Спать нынче у меня будешь, слышь, Татьяна? Дядька-то твой разве чего приготовит, да и что с него взять, с бобыля…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
То, что Сережка Дежнев остался досиживать второй год в девятом классе, было вызвано просто глупейшим стечением обстоятельств. И ведь до чего обидно – раньше, в седьмом, в восьмом, он вообще не учился, хулиганил, молоденькую преподавательницу литературы довел однажды до слез – и ничего, переползал-таки из класса в класс, с грехом пополам натягивая в годовой ведомости переходной минимум. Правда, в пятом он тоже сидел два года, но это было давно; позже ему как-то все сходило с рук. А теперь не сошло – именно теперь, когда учеба, бывшая до сих пор скучной повинностью, стала вдруг главным в жизни! И если вспомнить сейчас, как это получилось, – так просто плюнуть хочется, до чего глупо…
Все началось с экскурсии на завод оптических приборов, устроенной преподавателем физики Архимедом в самом начале первой четверти. Иногда бывает, что какая-то мелочь вдруг меняет всю жизнь, направляет ее по другому пути. И так случается не только в романах. Отстав от экскурсии и остановившись перед одним заинтересовавшим его станком, Сережка Дежнев не знал, что в этот момент его собственная судьба определилась на много лет вперед.
Собственно, это был не один станок, а целая их цепочка – слитых друг с другом, установленных на одном длинном фундаменте и, как он сразу догадался, работающих без участия человека. Человек за ними только присматривал: самый обычный рабочий, никакой не инженер или лаборант, похаживал вдоль линии станков в обычной замасленной спецовке и в сплюснутой блином кепке, поглядывая и прислушиваясь. Дойдя до замершего в восторге Сережки, он покосился на него и ничего не сказал. "Сейчас прогонит", – подумал тот, но не тронулся с места. Рабочий прошел дальше, вытирая руки тряпкой. Через несколько минут он вернулся, совершив свой обход.
– Ну как, малец, – спросил он у Сережки, – нравится? Ты что, со школой здесь?
Сережка не обиделся даже на "мальца" и только кивнул, отвечая сразу на оба вопроса.
– А как оно работает? – отважился он спросить в свою очередь сипловатым от волнения голосом.
– Как работает? Это, парень, так просто и не расскажешь, как оно работает… само работает, вот в чем гвоздь. Глянь сюда…
Он достал из кармана спецовки и протянул Сережке небольшую – она свободно уместилась в углублении его ладони – сложных очертаний деталь, сработанную из новенькой ярко-золотой бронзы.
– А ну-ка, глянь, – повторил рабочий, – сколько тут операций? Ну так, на глазок?
Сережка повертел в руках теплую весомую вещицу и смущенно пожал плечами, признавая свое невежество.
– И чему вас в тех школах учат, – проворчал рабочий себе в усы. – Ты гляди: здесь расточка с резьбой – так? Эти вот плоскостя отфрезованы, это тоже операция; теперь тут вот шлифовка – видишь? – этот паз выбран, а отверстия, глянь, под каким углом… короче – тут, парень, четырнадцать операций, в этой одной детали, и все автоматика делает. Ты прикинь, сколько тут рук надобно было, когда это вручную гнали…
Сережка хотел было спросить, советский ли это станок, но тут сам увидел отлитые на станине латинские буквы. Ему стало обидно.
– Это что же, не наше? – спросил он.
– Покамест не наше… – Рабочий прислушался к разнотонному гудению механизмов и кивнул Сережке. – Ну, мне недосуг, ступай. А это возьми, – прибавил он, увидев вдруг, с какой нежностью Сережкины пальцы гладят фрезерованную грань детали. – Бери на память, ладно уж, все одно это брак…
Сережка поблагодарил и удивился.
– А он что же, – он кивнул на станочную линию, – тоже запарывает?
– Тут не то, заготовка была такая. Глянь вон со споду – раковина там, литье подкачало. Ну, счастливо…
Сережка постоял бы здесь еще, любуясь шеренгой чудесных машин, но услышал свою фамилию, – экскурсия уходила из цеха, его хватились. Сжимая подарок в кармане пальто, он побрел к выходу, оглядываясь и спотыкаясь.
Бродя вместе с другими по производственным участкам, он уже не слушал объяснений руководителя, а только смотрел по сторонам – нет ли где еще одной "цепочки" автоматов. Но их не было; установленная в шестом цехе была, очевидно, единственной на заводе. Или, может быть, были еще в тех цехах, куда экскурсия не заходила. Сережке опять стало обидно – почему так мало таких машин на новом заводе. "Покамест не наши", – вспомнил он слова рабочего. Подумать только, сколько приходится переплачивать буржуям за такие станки… До каких же пор это "покамест"?
Старший его брат, Николай, работал на мотороремонтном, токарем. Сережка вспомнил вдруг, как часто Коля приходил домой серый от усталости, как он жаловался на изношенный станок, запарывающий деталь за деталью. А тут! Ходи только да посматривай… Его пальцы скользнули в карман и ощутили теплую, шелковистую на ощупь поверхность шлифованной бронзы, коснулись острой и точной грани, почувствовали шероховатость оставленных фрезой мельчайших рисок. Елки-палки, и это все делает сама машина! Если ее научили делать эти операции – почему же нельзя научить и другим? Чем эта вот деталь отличается от других? Ну, факт – одни попроще, другие посложнее… так ведь и автоматику эту самую тоже можно сделать еще хитрее. А потом автоматизировать сборку, и…
Покончив с осмотром завода, экскурсия – два параллельных класса, почти восемьдесят человек – с гомоном толпилась на автобусной остановке. Девчонки требовали, чтобы их пропустили в первую очередь – мальчишки, мол, могут ехать следующим автобусом, ничего им не сделается. Сережка не принимал в споре никакого участия. Отойдя в сторонку, он щурился на угрюмые бетонные коробки цехов. Ведь это еще новый завод… а посмотреть на мотороремонтный, так с тоски подохнешь… Сережка вспомнил Колин цех, куда он часто заглядывал. Тусклая стеклянная крыша, неровный, в выбоинах, пол, дымный воздух, исчерканный хлопающими ремнями трансмиссий. То ли дело – работа у этого, что обслуживает автоматы! Он еще в замасленной спецовке ходит – видно уж по привычке, просто привык, – а вообще-то так можно работать хоть при галстучке…
Оглянувшись на галдящих одноклассников, он вдруг махнул рукой и пошел прочь. Было не по-сентябрьски холодно, но скоро ему стало жарко – то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения. Какие заводы можно создать, используя эти машины! Он стащил с головы истрепанную кепчонку, подставив голову холодному ветру. Заводы-автоматы!
Целые заводы-автоматы, где не будет ни грязи, ни копоти, ни тяжелого труда, от которого потом дрожат от усталости руки и кусок не лезет в горло. Заводы-автоматы – прозрачные стеклянные дворцы, где мимо знающих свое дело машин будут ходить люди в чистом, поглядывать на приборы да нажимать кнопки. Разве не стоит жить для того, чтобы увидеть когда-нибудь такой завод, спроектированный тобой самим!
А для чего он жил до сих пор? Над этим вопросом Сережка Дежнев никогда не задумывался, так же как не задумывались и его сверстники – ребята двадцать первого года рождения. Жизнь была слишком интересной для того, чтобы ломать голову над ее смыслом.
Легкой она не была. Сережке исполнилось двенадцать, когда отменили хлебные карточки и он получил возможность, простояв несколько часов в очереди, совершенно свободно купить буханку вязкого ржаного хлеба с восхитительным кислым запахом. Ему было уже шестнадцать, и он еще ни разу не вздел выставленной в витрине пары ботинок или галош; а такие вещи, как ручные часы, велосипед или даже авторучка, оставались недоступной мечтой для него и для большинства его сверстников. Оно не было легким, детство поколения, зачатого в самый трудный год гражданской войны, – и в то же время оно было таким ярким и таким насыщенным, каким не было до них детство ни одного поколения на Земле.
Они сидели за партами в первых "группах", когда их старшие братья рыли котлованы под фундаменты первых заводов, забивали первые сваи на местах будущих плотин, в пику Чемберлену собирали деньги на воздушный флот, перепахивали "фордзонами" древние межи и снаряжали экспедиции в Арктику. И все это – колхозы и плотины, заводы и эскадрильи – все это росло вместе со сверстниками Сережки Дежнева, росло наперегонки с ними. Страна, взрытая и перекопанная из конца в конец, казалась в те годы исполинской строительной площадкой, на которой задумано было построить за несколько лет то, на что другим странам понадобились столетия; столько работы было кругом, такой непочатый край возможностей выбирать любое занятие и любую профессию, что до поры до времени об этом можно было не заботиться.
Сережке до сих сор просто не попадалось на глаза ни одно дело, которое сразу и определенно выделилось бы своей интересностью из тысячи других, о которых он ежедневно читал и слышал. Поэтому никаких твердых планов на этот счет у него не было, а были просто мальчишеские увлечения, менявшиеся каждое полугодие.
В пятом классе Сережка играл с приятелями в спасение челюскинцев и был твердо уверен, что быть полярником – единственное достойное мужчины занятие. Несколько месяцев спустя стратостат "Осоавиахим-1" поднялся на неслыханную высоту в двадцать два километра, и Сережка решил, что исследовать стратосферу куда интереснее и опаснее, чем сидеть где-то на льдине. Чтобы отучить себя от высотобоязни, он стал тренироваться в прыжках с крыши и сломал ногу. Увлечение высотами на этом и кончилось: пока он лежал в гипсе, его приятель Юлька Голынец принес интересную книжку – "По следам морских катастроф", – и после ее прочтения Сережка твердо решил поступить в ЭПРОН1.
Всю зиму он мастерил скафандр-колокол, предполагая испытать его летом на Архиерейских прудах, остался из-за этого на второй год и уже в качестве второгодника познакомился с Валькой Стрелиным – большим знатоком всего, имеющего отношение к морю. Валька убедил его, что с не выдержавшим испытаний скафандром возиться больше не стоит, а гораздо интереснее строить настоящую подводную лодку – из четырех бочек, которые можно было достать каким-то известным одному Вальке способом. Проект лодки был разработан, но летом, когда можно было приступить к ее постройке, Чкалов совершил перелет Москва – остров Удд, и Сережка заболел самолетоманией. Как человека невменяемого, его нельзя даже было осудить за измену Вальке Стрелину и его лодке из бочкотары. Понял это и сам Валька, через месяц помирившийся со своим непостоянным приятелем.
А после этого, вот уже два года, Сережка не испытывал больше никаких новых увлечений. От последнего остался коряво сделанный макет самолета АНТ-25 с красными крыльями, висевший на веревочке над его койкой, и ничего более серьезного. Он завел дружбу с пацанами из Замостной слободки, гонял с ними в футбол, дрался, освоил технику безбилетного хождения в кино и на стадион и жил как птица небесная. Дома было трудно, Коля зарабатывал не много (отец бросил семью еще в тридцатом, когда родилась Зинка), мать выбивалась из сил; жизнь на улице была куда веселее…
Завод оптических приборов был расположен на самой окраине, от него до центра автобус шел почти полчаса. Сережка отмахал весь этот путь пешком, сам не заметив как. У ограды парка он вдруг почувствовал, что устал. Чтобы не идти целый квартал до ворот, он привычно вскарабкался на решетку и спрыгнул в ворох сухих, терпко пахнущих листьев каштана. Место было глухое, скрытое от взглядов. Он с наслаждением растянулся на листьях, вытащил из кармана подаренную деталь и снова принялся разглядывать ее с замиранием сердца. "Покажу Коле, – подумал он, – интересно – догадается он, что это сделано машиной?.. Елки-палки, вот ведь здорово!.."
Да, теперь он чувствовал, что на этот раз нашел что-то серьезное. Вот настоящее дело, настоящее мужское занятие: стать инженером-электриком и создавать машины, могущие делать за человека всю трудную работу. Овладеть наукой, которая способна превратить машину в разумное существо! Кто знает – не он ли, Сергей Данилович Дежнев, станет создателем первого в мире завода-автомата…
Отсюда все и пошло. Скоро он вышел на первое место в классе по физике и математике. Архимед сразу понял, что с ним происходит, и стал постепенно спрашивать все строже и строже, что было первым признаком его веры в силы ученика. Математик же, личность бесцветная и не умеющая установить с классом хотя бы видимость какого-то взаимопонимания, посматривал на отпетого Дежнева с боязливым недоверием, подозревая его в обладании неизвестной системой шпаргалок. Однако придраться было не к чему.
Не так блестяще, но в общем вполне благополучно обстояли его дела с еще двумя предметами – химией и черчением. Остальные он попросту презирал. В самом деле – на кой шут инженеру названия каких-то заливов и проливов, или деепричастия прошедшего времени, или как размножаются жабы, или какой женский образ в классической русской литературе больше всего приближается к типу новой советской девушки. Да начхать ему на все это – на Татьян, на жаб, на деепричастия и на проливы; его интересуют в мире только две вещи – физика и математика.
Правда, много хлопот доставлял немецкий. К языкам он просто не чувствовал способностей, а жаль – уж что-что, а иностранные языки инженеру очень нужны. Поэтому он подзубривал немецкий на других уроках, заложив тетрадку с выписанными словами в развернутый для виду учебник истории или географии.
Немногие избранные предметы целиком заполняли все его время как в школе, так и дома. Замостные пацаны получили отставку; первое время они еще приходили к нему под окно, вызывая на всякие соблазнительные похождения, пока Сережка не пообещал накостылять каждому по шее, если они не отошьются раз и навсегда. В остающиеся от уроков часы он много и торопливо читал: популярно-техническую литературу, биографии знаменитых изобретателей в серии "Жизнь замечательных людей", журналы "Знание – сила", "Наука и жизнь", "Техника – молодежи". Только здоровое мужское чтение – никакой дряни, никаких там переживаний или поцелуйчиков…
Это был девятый класс: шестнадцать-семнадцать лет, первые прически у девочек, первые заглаженные на брюках складки и – горошком или в косую полоску – галстуки у немногих пока смельчаков; то неуверенное в себе щегольство, которое еще громко высмеивают вслух и которому уже втайне завидуют приятели, продолжающие щеголять нечищенными ботинками и показной грубостью с одноклассницами.
Возраст брал свое, и уже под партами путешествовали через весь класс многократно свернутые записочки: "Света! Б.С. хочет проводить тебя после уроков, только боится спросить, вот дурак. Я сказала, что спрошу сама, отвечай скорее"; и все чаще и чаще какой-нибудь вчерашний женоненавистник, развернув на парте толстую "Современную литературу", а на коленях – чей-то розовый альбомчик, торопливо катал в него излюбленный отрывок из Николая Островского или, полистав украшенные виньетками странички, где-нибудь рядом с гамсуновским определением любви вписывал, стараясь придать почерку мужественность: "Тамара! Всегда, каждым своим поступком, оправдывай слова Максима Горького: "Человек – это звучит гордо!"" – и, хмурясь от непривычного обращения по имени, подписывался со зверским росчерком.
Сережке Дежневу было уже семнадцать, но он никого не провожал после уроков и не писал никому в альбомы. Над его изголовьем висел написанный на тетрадном листке лозунг – "Главное в жизни – целеустремленность", и вся его жизнь была здоровой и на сто процентов целеустремленной. Это дало свои плоды уже к концу второй четверти. Получив перед Новым годом дневник, он раскрыл его с тревожным замиранием сердца и, мгновенно пробежав глазами четвертную ведомость, облегченно вздохнул. Алгебра – "отл", геометрия – "отл", физика – "отл", химия – "хор", черчение – "отл", немецкий – "хор"… Ого, знали бы они, как она ему досталась, эта отметка! Он даже не надеялся получить выше "посредственно". Дальше шла уже мелочь: русский язык – "пос", литература – "пл", история – "пл", география – "пос", ну и так далее, в том же духе. Ладно, это ему не нужно. К концу года натянет, чтобы перейти, и какого еще рожна…
Очень довольный достигнутым, Сережка решил даже пойти на школьный новогодний бал. К выходу в свет имелся и еще один важный повод – новый костюм. Дело в том, что Николаю удалось этой осенью перевестись на новую работу. Теперь он получал уже по шестому разряду, заработок его несколько увеличился, и в семье стало легче с деньгами. Зинке, в этом году пошедшей в первый класс, сшили пальтишко, а Сережке к Новому году даже купили серый костюм – первый в его жизни, так как до сих пор он всегда донашивал перешитое с брата.
Итак, он отправился на новогодний бал и даже, уступив матери, повязал сиреневый галстук Николая. Вначале он разочаровался и сильно жалел, что пришел. Проходя мимо большого зеркала в вестибюле, перед которым стайкой охорашивались девчонки, он увидел себя я огорчился: новый костюм – предмет его тайной гордости – выглядел здесь каким-то неуклюжим, мешковатым, рукава были явно длинны, воротник странно топорщился. В сочетании с сорочкой в мелкую серую клетку сиреневый галстук казался нелепым. "И как это мать сама не увидела", – с досадой подумал он.
Угрюмо, ни на кого не глядя, Сережка прошел через актовый зал, где уже кружились парами несколько девушек, и сел за сдвинутые в угол кадки с пальмами.
Он не заметил, что там уже сидел, наблюдая за танцующими, завуч Николай Николаевич. Когда тот окликнул его и предложил сесть поближе, Сережка окончательно решил, что вечер испорчен. Ничего он так не боялся, как долгих и нудных "задушевных" разговоров с преподавателями. Но делать было нечего, и он подсел к завучу.
Предчувствие его не обмануло – задушевный разговор действительно состоялся. Но долгим он не был. Очень скоро, за какие-нибудь десять минут, завуч сумел убедить его в том, что человеку, по своему усмотрению кромсающему программу средней школы, нечего и думать о высшем образовании. В самом деле, как он мог забыть, что существуют такие вещи, как аттестат, приемные испытания и прочее?
– …должен признаться, Дежнев, я тебя просто не понимаю, – тихо говорил завуч, отщипнув от пальмы пучочек волокна и скручивая его в пальцах. – Или у тебя нет силы воли заставить себя учиться… или ты – извини меня – просто неумен. Нельзя же в девятом классе вести себя как мальчишка. Кто тебя пустит в вуз с твоими знаниями? Разве тебя спасет отличное знание математики, если ты не научишься грамотно излагать свои мысли?
Потом он ушел, а Сережка остался сидеть в углу за пальмами, нахохлившийся и красный от стыда. Его ударили по самому больному месту, по самолюбию, доказав как дважды два, что он и не особенно умен, и воли у него нет, и вообще он мальчишка…
Целых два месяца он упорно подтягивал запущенные "хвосты", выполняя данное завучу обещание; а в середине марта произошла катастрофа.
С маленьким, похожим на жука товарищем Жорой Попандопуло – заведующим энергетической лабораторией ДТС при Дворце пионеров – Сережка столкнулся в библиотеке Дворца, где им обоим понадобилась одна и та же книга по электротехнике. Они разговорились; узнав, что Сережка собирается стать инженером-электриком, Попандопуло пригласил его зайти в лабораторию и подождать десять минут, пока он перечертит из книги одну схемку. Ничего не подозревая, Сережка доверчиво отправился за чернявым завлабом.
Оборудование лаборатории было довольно скудным – два верстака с тисками, маленький токарный станочек, настольная сверлилка, – но под верстаками, на полках и в открытых шкафах было навалено столько соблазнительного хлама явно электрического происхождения, что у Сережки загорелись глаза. Пока завлаб перечерчивал схему в захватанную, измятую тетрадь, он вытащил из-под стола полуразобранный остов магнитного пускателя и принялся копаться в нем, закусив губу от любопытства. Как ни странно, до сих пор он не видел своими глазами ни одного из множества приборов и аппаратов, которые отлично знал по книгам.
Окончив переснимать схему, Жора Попандопуло отдал Сережке книгу и предложил закурить.
– Интересно, скажешь нет? – подмигнул он, указывая на останки пускателя. – А если бы ты видел, что у меня здесь можно найти среди этого барахла…
Впоследствии Сережка не понимал – как это все вышло. Зашел в лабораторию всего на несколько минут, только за книгой, заниматься моделизмом никогда не собирался и вообще не любил кружковых занятий чем бы то ни было, считая, что хватит с него руководителей и дисциплины в школе; но хитрюга завлаб сначала принялся показывать ему свои сокровища, потом рассказал об объявленном республиканском конкурсе юных техников, пожаловался на своих "пацанов", которые только переводят материал и ломают инструмент, а сделать ничего путного не могут, вот если бы нашелся какой-нибудь серьезный парень-старшеклассник, здорово разбирающийся в технике, то он, Попандопуло, дал бы ему под начало целую бригаду и предоставил полную свободу действий – что хочешь, то и конструируй. А насчет моделизма вообще, то не нужно думать, что это какие-то игрушки, цацки. Все великие изобретения сначала проверялись на моделях, и если уж говорить про электротехнику, то пока ты не собрал своими руками ни одной схемы, то грош тебе цена в базарный день – сколько бы институтов ты ни кончил. И вот не увидеть ему, Жоре Попандопуло, родной Одессы, если с этим конкурсом и с этими возможностями он, Сергей Дежнев, не имеет шанса стать настоящим техническим светилом республиканского масштаба…
Короче говоря, вместо десяти минут Сережка просидел в энергетической два часа и ушел оттуда, закабаленный душой и телом, пообещав завлабу не посрамить чести энской областной ДТС и представить на конкурс первоклассную модель электровоза. Почему именно электровоза – он и сам не знал; Попандопуло уверил его, что это будет интересная и выигрышная модель.
Уже через неделю он был в отчаянии. Члены кружка – всё больше шести- и семиклассники, – которых завлаб и в самом деле свел в "ударную конкурсную бригаду особого назначения", горели нетерпением поскорее взяться за дело, таращились на Сережку с почтительным обожанием и, судя по всему, ожидали от него чудес; а он не знал даже, с чего начать. То есть знать-то он знал, но тут было столько возможных вариантов, что у него просто руки опускались. Какой из всех может дать наивысший к.п.д.? Он набрал книжек по этой отрасли моделизма, изучил все рекомендуемые схемы и стал комбинировать из них что-то новое. Можно было, конечно, ограничиться привычной конструкцией, "выехав" на хорошем исполнении или даже на внешнем виде, но этого Сережке было мало. Он решил дать класс.
Скоро он понял, что объема школьных знаний ему не хватает. Нужно было спешно спасать свой престиж девятиклассника. Он даже колебался, не обратиться ли за консультацией к Архимеду, но честность победила, и он обложился еще большим количеством книг.
Две недели упорного труда позволили начерно разобраться в теоретической стороне дела. Хороша "игрушка", нечего сказать! Он повеселел и стал целыми днями пропадать в лаборатории. Возвращаясь из школы, он наскоро обедал, заглядывая через тарелку в раскрытую книгу, потом вскакивал и мчался во Дворец пионеров, откуда возвращался не раньше восьми-девяти.
Жора Попандопуло оказался хорошим парнем, но помощи от него ждать не приходилось. По целым дням заведующий пропадал неизвестно где, появляясь в лаборатории на пять минут, – с грохотом распахивал дверь, с грохотом сваливал в углу принесенную добычу – моток проволоки, пакет жестяных обрезков, связку ржавых разнокалиберных гаек или лист от автомобильной рессоры – и с пыхтеньем усаживался на верстак, начиная сыпать словами:
– Ну, как жизнь молодая? Порядочек? Нужно что-нибудь? Если нужно, ты скажи – Попандопуло все достанет, в этом городе ни у кого нету такого грандиозного блата, как у Жоры Попандопуло…
Для своей модели Сережка избрал двухмоторный вариант – по одному мотору на каждой тележке, с червячной передачей на обе оси. Конструкция была сложной и в моделях обычно не применялась, но Сережка решил, что если уж показывать класс, то высшей марки. Стиснув зубы и отмахиваясь от мыслей о приближающихся экзаменах, он сам принялся за изготовление моторов и передаточных механизмов, поручив все остальное своей бригаде. Но даже и эта работа, которую уже никому нельзя было доверить, отняла массу времени. Якоря двигателей пришлось делать набивными, изготовить хорошую червячную передачу оказалось очень трудно – куда труднее, чем он по своей наивности предполагал. Конечно, Коля у себя на заводе мог бы выточить все это за один день, – но не мог же Сережка обмануть доверие своих "пацанов"!
Модель была готова только в конце апреля, но при испытании обнаружился ряд недочетов. Опять пришлось возиться и возиться. Наконец все было готово. На модель надели блестящий обтекаемый корпус, заботливо упаковали в ящик со стружками, и электровоз ЭДТС-Д-1 отправился в Киев.
Когда это произошло, до начала экзаменов оставалось ровно три недели.
Никогда еще Сережка не проваливался с таким треском, как в этом году. По географии он не сумел даже ответить на вопрос, богата ли Испания полезными ископаемыми. Никаких сомнений относительно результатов быть не могло, но все же, увидев себя в списке оставленных на второй год без права переэкзаменовки, он так расстроился, что пошел к Попандопуло с твердым желанием плюнуть ему в рожу; по пути он наградил завлаба непечатным прозвищем, сочетав в одном слове его имя и фамилию.
Разумеется, из планов мести ничего не вышло. Хитрый Попандопуло сумел быстро убедить Сережку в том, что ничего такого кошмарного с ним не случилось, и даже наоборот: учиться ему теперь будет совсем легко – второй год одно и то же, это же просто сплошной смех! – а у него, у Попандопуло, уже намечается для Сережки грандиозная работа по фотоэлементам, можно будет начать прямо с сентября.
Дома у Сережки, против всяких ожиданий, дело обошлось тихо. Мать, правда, всплакнула – но это она делала часто, – а Николай, реакции которого Сережка главным образом и побаивался, даже похлопал его по плечу и посоветовал не дрейфить. "Лишний год просидишь в школе – не беда! – сказал он. – Еще жалеть будешь, как кончишь. Я вот здорово теперь жалею, что в каждой группе по три года не сидел. Эх, время было!"
2
В тот самый вечер, когда Дежнев и Попандопуло сидели в энергетической лаборатории ДТС, обсуждая Сережкин провал на экзаменах и будущую работу по фотоэлементам, племянница майора Николаева выехала из Энска вместе со своей подружкой Людмилой Земцевой в село Новоспасское, где они должны были провести первую половину каникул.
За два с половиной года, прожитых под дядькиным крылышком, Танюша превратилась в опасное существо. Характер у нее был лихой, причуды и выходки – самые неожиданные. Старый холостяк, на сороковом году жизни обзаведшийся вдруг таким сокровищем, майор попросту побаивался своей племянницы. "Книга для родителей" была добросовестно прочитана, даже можно сказать – проштудирована, но майор так и не знал, каким образом можно применять на практике почерпнутые у Макаренко мысли.
Отчасти положение спасала мать-командирша, которая свято блюла данное майору обещание и не спускала с девочки глаз, жестоко отчитывая ее за каждую провинность и не останавливаясь даже перед тем, чтобы в экстренных случаях подкрепить словесное внушение парой увесистых шлепков. Таня на рукоприкладство не обижалась: в глубине души она отлично сознавала, что получает заработанное. Тем более что теперь это случалось все реже, – как-никак пятнадцать лет! Правда, уже незадолго до пятнадцатилетия, прошлым летом, ей здорово досталось за вышибленное на пари с мальчишками стекло; а с тех пор все как-то обходилось.
Таким своеобразным характером определялся, естественно, и круг Таниных знакомств. Ни с кем из одноклассниц, кроме Земцевой, она не дружила, зато с одноклассниками была в наилучших отношениях, насколько это возможно в том возрасте, когда дружба с девчонкой считается еще делом зазорным и недостойным настоящего мужчины. Впрочем, дружить с Николаевой никто не стеснялся, потому что ее вообще не считали за девчонку.
В те годы у всего молодого поколения Советского Союза танкисты пользовались огромной популярностью; они затмевали даже полярников, и соперничать в этом отношении могли с ними одни только летчики, да и то как когда. А у этой Таньки Николаевой жил дома вполне ручной танкист, да еще кто – заслуженный командир, награжденный двумя боевыми орденами!
Этой зимой майора пригласили в школу – прочитать доклад на вечере, посвященном Дню Красной Армии. Класс Николаевой целую неделю был в волнении – приедет или не приедет. Майор приехал в назначенный день и час, в парадной форме, поблескивая двумя орденами Красного Знамени и полученной в прошлом году юбилейной медалью "XX лет РККА". Таня сидела в пятом ряду и так задавалась, что не услышала ни слова из того, что говорил Дядясаша. После короткого доклада он долго отвечал на вопросы; а потом в зале разразилась буря восторга, когда майор распаковал привезенный с собой загадочный ящик и поставил на стол роскошный полуметровый макет танка. На башне оказалась медная табличка с надписью: "Пионерам школы No 46 от бойцов и командиров Н-ской танковой части".
После того вечера Танин престиж поднялся еще выше, и она поддерживала его как могла, не щадя ни сил, ни графы "Поведение" в своем дневнике. В начале четвертой четверти ее чуть не исключили на неделю за драку с Анатолием Гнатюком; опасность была серьезной, и тем больше было чувство облегчения, овладевшее Татьяной, когда гроза миновала. На радостях она в тот же день ухитрилась на уроке математики бросить кусок карбида прямо в чернильницу преподавателя. Ребята считали, что Николаева хотя и девчонка, но своя в доску.
Когда в учительской зашел однажды разговор о коллективе восьмого "А", преподаватель физики Архип Петрович шутливо заметил, что только законом притяжения разноименно заряженных частиц можно объяснить дружбу Николаевой и Земцевой – такими разными были эти две девочки во всем, начиная от поведения и кончая внешностью.
Они дружили вот уже два учебных года – с первого дня появления Тани в 46-й школе. Ее посадили тогда за одну парту с Земцевой именно потому, что Земцева была лучшей ученицей класса, что у нее был лучший в классе характер и что ей можно было дать любую общественную нагрузку, зная совершенно твердо, что Люся выполнит ее как никто другой.
Такой нагрузкой и оказалась для нее Таня Николаева; как объяснила ей класрук Елена Марковна, речь шла о том, чтобы помочь новенькой поскорее освоиться с классом и забыть о постигшем ее горе. Помимо всех хороших качеств Люси Земцевой было еще одно обстоятельство, побудившее Елену Марковну обратиться с таким поручением именно к ней. У Земцевой тоже не было отца; Елена Марковна решила, что это поможет девочкам сблизиться и сдружиться.
Земцева принадлежала к тем счастливым натурам, которые отлично, "со вкусом" исполняют любое порученное им дело, и исполняют не просто потому, что оно так или иначе уже поручено и нужно его исполнить, а потому, что сразу умеют заинтересоваться им и найти удовольствие в его исполнении.
Когда Елена Марковна рассказала ей историю Николаевой и попросила отнестись к ней как можно более дружески, Люся взялась за это со своей обычной исполнительностью, усиленной в данном случае еще и жалостью, и скоро Таня уже ни на шаг не отходила от своей новой подружки.
Земцеву в классе уважали – за отличную успеваемость и еще за то, что с ее именем никто не мог даже мысленно связать ни одного нетоварищеского поступка. Но, как ни странно, при всем этом ее не особенно любили. Почему-то ее считали задавакой; может быть, просто потому, что ее мать – доктор физико-математических наук – руководила одним из отделов расположенного в городе научно-исследовательского института, и все думали, что невозможно не задаваться, имея такую ответственную маму.
Так думали преимущественно мальчишки; а из девочек некоторые недолюбливали Люсю просто потому, что она хорошо одевалась, всегда держала себя с большим достоинством и была самой красивой не только в классе, но, пожалуй, и во всей школе – такая черноглазая и чернобровая украинская дивчинка, словно выскочившая из хорошей иллюстрации к "Майской ночи".
Всегда спокойная и приветливая, Земцева разговаривала неторопливым рассудительным голоском, с мягким, унаследованным по материнской линии украинским акцентом. Даже в этом она была полной противоположностью своей подруге, над чьей акающей московской скороговоркой подсмеивался весь класс. Хотя Таня и не картавила уже так отчаянно, как два года назад, "р" ей все же упорно не давалось, и этот недостаток становился особенно заметным, когда она приходила в возбуждение.
Стон придушенного хохота стоял в классе на уроках украинского, когда, вызванная отвечать, Николаева вскакивала и принималась как из пулемета тараторить Шевченко, беззастенчиво коверкая певучие украинские вирши на кацапский лад. Преподавательница, большая патриотка, всегда носившая блузки с богатой народной вышивкой, приходила в ужас от такой профанации великого кобзаря в принималась в сотый раз терпеливо, слово за словом, исправлять безнадежное произношение москвички.
– Но я ж не можу, Ксения Алексеевна! – чуть ли не со слезами умоляюще восклицала наконец Таня на своем неописуемом жаргоне.
– Оксана Олексиевна, – мягко поправляла ее преподавательница. – Слухай, Татьяно, цэ нэ е така важка справа, потрибна тильки увага…
– Конечно, вам легко говорить, – с горьким отчаяньем возражала Николаева, – а попробовали бы вы родиться в Москве, а учиться на Украине!..
В отличие от Земцевой, всегда наутюженной и накрахмаленной, с косами, аккуратно уложенными вокруг головы блестящей черной короной, Николаева одевалась небрежно, хотя обычно во все новое и дорогое, из закрытого распределителя военторга. Это новое и дорогое вечно сидело на ней вкривь и вкось; ее каштановые, слегка вьющиеся волосы, хотя и заплетенные в некое подобие кос и тоже обернутые вокруг головы, напоминали растрепанное воронье гнездо. Каждое ее движение было резким и угловатым, и в химкабинете ее обычно не приглашали ассистировать при опытах – даже когда она дежурила. Нескладная и длинноногая, как жеребенок, с коротким носом и широко открытыми любопытными карими глазами на круглой рожице, выражение которой менялось каждую минуту, Таня Николаева напоминала наспех переодетого мальчишку, причем мальчишку далеко не примерного поведения.
Единственным "общим знаменателем" для обеих подруг явилось то, что ни у одной из них не было нормальной семейной жизни. Таня жила дома между выговорами и шлепками со стороны Зинаиды Васильевны и безрассудным баловством со стороны дядьки-майора. Никаких границ в этом отношении для него не существовало; когда однажды этой зимой Таня мимоходом заявила о своем желании заниматься фотографией, то на следующий же день ей был куплен ФЭД, – такое немедленное исполнение желаний Таню даже испугало, тем более что по-настоящему фотография казалась ей скучным делом. Потом испуг прошел, но зато осталась уверенность в том, что каждое ее желание будет исполняться теперь с той же приятной быстротой в что, по существу, Дядясаша представляет собой разновидность старика Хоттабыча. Работать ей не приходилось, у нее была приходящая домработница Раечка – веселая разбитная девчонка четырьмя годами старше ее самой, бывшая официантка из столовой ИТР. Жили они душа в душу. Раечка вела несложное николаевское хозяйство, стряпала и обсуждала с Таней свои запутанные сердечные дела.
Странной была домашняя обстановка и у Земцевых. Галина Николаевна, доктор физико-математических наук, руководила крупной исследовательской работой в своем институте, и времени ни на что другое у нее не оставалось. Людмила была воспитана в основном нянюшкой – Трофимовной, которая прожила у Земцевых одиннадцать лет. Три года назад, когда девочке исполнилось двенадцать, Галина Николаевна в один прекрасный вечер пригласила Трофимовну в свой кабинет, предложила ей кресло и, перебирая исписанные листы на столе, сказала своим обычным суховатым тоном, что считает непедагогичным оставлять Люду и впредь под присмотром нянюшки и поэтому вынуждена просить ее, Трофимовну, начать постепенно подыскивать себе другое место; что сама она крайне сожалеет об этой печальной необходимости и может дать ей рекомендацию в несколько хороших семей с маленькими детьми. Трофимовна от рекомендаций отказалась, проплакала вместе с воспитанницей три дня, а на четвертый уехала к сыну в Новоспасское.
Люся аккуратно переписывалась с Трофимовной, – нянюшкина неграмотность была ликвидирована ею же самой, в порядке школьной нагрузки, – и в письмах делилась тем, о чем никогда не подумала бы поговорить с матерью. Вообще, с матерью Люся не откровенничала. Происходило это не от ее скрытности, а просто потому, что сама Галина Николаевна никогда с дочерью задушевных разговоров не начинала.
Дома девочка была предоставлена самой себе – и книгам. Благодаря этому у нее уже к пятнадцати годам сложился не по возрасту рассудительный характер и привычка до всего доходить своим умом. Подобно Тане, домашним хозяйством она не занималась. Подразумевалось, что ее ждет научная работа под руководством матери, а женщина-физик может обойтись и без умения готовить. Раз в неделю к Земцевым приходила институтская уборщица, которая мыла полы, забирала в стирку белье и дважды в год – перед Маем и Ноябрем – устраивала большую уборку. Галина Николаевна питалась в столовой института, а Люся или заходила туда же, или, когда надоедало, неделями жила на чае с конфетами и консервах. По утрам мать и дочь стелили каждая свою постель, Люся, кроме того, смахивала еще пыль со столов и кое-как подметала. Большего от нее, как от будущего физика, не требовалось.
Этим летом у них были путевки в один из кавминводских лагерей – путевки на второй срок, на август. До конца июля они прожили у Трофимовны в Новоспасском, и прожили очень неплохо – загорали, купались в пруду, который назывался здесь ставком, и объедались варениками с вишнями. Чувствовали они себя отлично: экзамены были в прошлом, теперешняя жизнь если и не отличалась разнообразием, то была в общем на редкость приятной, а в будущем было столько интересного, что дух захватывало. Поездка на Кавказ, туристские походы, экскурсии, учебники для девятого класса…
Единственное, что омрачало Тане радость этого лета, была тревога. Тревога появилась у нее в то самое утро, когда она по дороге на ставок завернула к сельраде почитать вывешенную на доске позавчерашнюю "Энскую правду" и впервые узнала о событиях в Монголии. Дело в том, что Дядясаша куда-то уехал как раз в то время, когда она сдавала экзамены, и на все ее расспросы сказал только, что пока в Москву, а там будет видно. Она была тогда слишком занята экзаменами, да и в самом Дядисашином отъезде не было ничего необычного, но почему-то с тех пор, как в газетах замелькали непривычные названия Халхин-Гол и Буир-Нур, Таня не могла отделаться от тревожной мысли, что все это имеет очень прямое отношение к Дядесаше.
Людмила успокаивала ее как могла. Во-первых, совершенно неизвестно, куда уехал Александр Семенович, и это вовсе не обязательно должна быть именно Монголия. Во-вторых, даже если он и там, то ведь в газетах пишут, что наши войска почти не несут никаких потерь, а ведь Александр Семенович все-таки командир и, значит, подвергается гораздо меньшей опасности. Таня соглашалась со всеми этими доводами, но в душе ей было страшно за Дядюсашу.
Двадцать восьмого за ними пришла машина из института. Шофер Вася передал письмо от Галины Николаевны – первое за полтора месяца. Доктор Земцева писала, что увидеться они, по-видимому, не успеют, так как она сегодня, двадцать седьмого, выезжает в Москву на съезд, открытие которого неожиданно перенесли на неделю раньше, а машина будет свободна только завтра, что билеты – плацкартные – уже куплены и лежат в среднем ящике письменного стола, и там же деньги и путевки.
– Чудачка эта мама, – сказала Людмила, дочитав письмо вслух. – Пишет: "по-видимому, не успеем". Я думаю, что не успеем, если она вчера уехала. При чем здесь "по-видимому"?
Людмила покачала головой и снисходительно улыбнулась.
В Энск они приехали под вечер. Вася подвез их к дому комсостава, пожелал счастливого отдыха и укатил. Таня забрала свои вещи, несколько книг и деньги, оставленные у матери-командирши. Та отдала ей два полученных в ее отсутствие письма. В письмах не было ничего особенного: Дядясаша писал, что у него все в порядке, интересовался Таниным здоровьем и советовал побольше загорать и "налегать на витамины".
– А мы и так налегаем, правда, Люся? – засмеялась Таня.
Потом она задумалась, разглядывая потертые конверты, покрытые загадочными штемпелями.
– Все-таки интересно, откуда это… как вы думаете, Зинаида Васильевна, Дядясаша и в самом деле в Монголии?
– Да уж верно не в Сочах прохлаждается, – проворчала мать-командирша. – Чернокозова-то, майора, знаешь? Тоже там… в Монголии этой… Ну, дочки, присядем перед дорогой.
Они присели, помолчали несколько секунд. Потом мать-командирша вдруг закричала:
– А ты, слышь, не балуй там, Татьяна! А то гляди у меня, я тебе – как вернешься – так всыплю, что неделю после не сядешь. Ты что это себе в голову взяла – как дядька твой тебя тронуть пальцем боится, так ты уж и разбойничать можешь? Ты чего это, как уезжала, Пилипенкам шкоду эту со светом сделала? Пилипенко сам часа два битых искал, потом монтера привели, а тот говорит – не иначе это вам кто с пацанов шкоду сделал, с целованом каким-то, а его, дескать, и не видать, и свету нет…
– Это не я! – быстро сказала Таня, правдиво глядя на мать-командиршу. Она сделала большие глаза и понизила голос, словно сообщая тайну: – Это и в самом деле мальчишки устроили, Зинаида Васильевна, правда…
– Не ври, не бери на душу греха! Я уж молчала, а знаю, кто нашкодил, – не кто, как ты. Ты, Людмила, присматривай там за ней, а потом чуть что – мне скажешь… а у меня с ней разговоры короткие, она уж меня знает. Небось помнит еще, как у дворника стекло-то выбила…
Таня вздохнула.
– То-то, сопишь теперь. Ну ладно, езжайте уж, храни вас господь…
Выйдя на лестницу, Людмила строго обернулась к Тане:
– Зачем ты это сделала?
– Что, Люсенька? – невинным голосом спросила та.
– Не прикидывайся! Ты подложила под пробки целлофан?
– Эти Пилипенко – страшно противные. Правда, Люся! Их никто в доме не выносит.
– Это тебя касается, да? Тебя не выносят еще больше, если хочешь знать! И ты заставляешь человека работать, чтобы исправить последствия твоей дурацкой выходки. У тебя нет уважения к чужому труду, вот что!
– У тебя тоже нет уважения, к моему, – обиженно возразила Таня. – Ты думаешь, я не трудилась? Ты думаешь – это так просто, заложить в пробки целлофан? Попробуй сама это сделать, а потом говори…
У Земцевых подруги переоделись, приготовили на завтра чемодан. Чувствуя себя взрослыми и самостоятельными, они долго бродили по магазинам и накупили много всяких нужных и ненужных вещей. Таня приобрела флакон одеколона, судейский свисток, компас, перочинный нож, увеличительное стекло и огромную никелированную щучью блесну.
Разгульный вечер был закончен в кино: смотрели "Ошибку инженера Кочина". Фильм очень понравился Тане и очень не понравился Людмиле, и по этому поводу они даже немного поругались.
Ночью, когда подруги улеглись в спальне Земцевых, Таня долго рассуждала о том, что она сделала бы, встреться ей в жизни настоящий шпион или диверсант. Людмила засыпающим голосом объявила, что нет, лично она ни с каким диверсантом встречаться не желает.
– Ой, а я бы хотела… – мечтательно произнесла Таня. – Все-таки я думаю, что я бы ему показала. Интересно вдруг вот так взять и разоблачить шпиона, ой-ой-ой… Люся, а ведь самому быть диверсантом тоже интересно, правда? – неожиданно спросила она, поднимаясь на локте. – Если для своей страны, слышишь, Люська!
– Не знаю, не пробовала, – отозвалась из темноты Людмила. – Спи ты лучше… опоздаем завтра на поезд – будет тебе интересно…
– Не проспим, раз будильник. Ты завела? Нет, а ведь это действительно должно быть страшно интересно… Люсенька, ты только представь себе: вдруг тебя посылают к фашистам, в Германию или Японию, украсть какие-нибудь чертежи или взорвать завод… и ты всюду ездишь, имя у тебя фальшивое, все тебя ловят, ох, как интере-е-есно…
Долго было тихо. Потом снова раздался Танин шепот:
– Люсенька… а Люсенька, есть такие школы, где учатся на шпионов? Лю-ся! Спит уже, вот ведь противная…
Таня вздохнула, поправила подушку и вытянулась на спине, чинно положив руки поверх простыни. Интересно все-таки – действительно ли Дядясаша воюет сейчас с самураями…
Судя по плакатам, все самураи – маленькие, очень желтые, с большими зубами, с усиками и в очках. Непременно в очках. И еще у них такие белые гетры на пуговичках, до колен. До чего противный народ, всё воюют и воюют – и всегда нападают первыми. Агрессоры несчастные! Хоть бы Дядясаша дал им там хорошенько, чтоб неповадно было… А вообще очень странно: почему японцы до сих пор не сделали у себя революции? Тогда у них тоже была бы Советская власть и никто не посылал бы их на войну…
Таня припомнила вдруг последствия выбитого в дворницкой стекла и опять вздохнула, на этот раз горько. Хорошо бы уехать в Японию, делать там пролетарскую революцию. Там по крайней мере никто не станет поднимать шума из-за всякого пустяка. Подумаешь – одно несчастное стекло… ну, правда, оно было только что вставлено, и дворничиха кричала, что камень разбил еще что-то в самой комнате, но это уж наверняка враки. Не может быть, чтобы такая удача – одним камнем… Нет, надо ехать в Японию, здесь делать уже нечего.
…И вот она отказывается надеть повязку и поворачивается лицом к солдатам, и стоит гордая и красивая. Самурай взмахивает саблей, солдаты прицеливаются. Она говорит твердым голосом: "Товарищи солдаты, расстреливайте меня, но не стреляйте в своих братьев – японских рабочих! Да здравствует мировая ре…" Залп – и она падает у подножия стены, и это в тот самый момент, подумайте, когда восставшие врываются в ворота тюрьмы, чтобы ее освободить.
И потом – слава! Ее именем называют главную площадь в Токио, улицу в Москве, 46-ю среднюю школу в Энске. На доме комсостава вешают мемориальную доску: "Героиня японской революции Татьяна Викторовна Николаева жила в этом доме с 1936 по такой-то год". И на церемонии открытия доски присутствуют все ее одноклассники, Галина Николаевна, дворник, официальные лица… заплаканная мать-командирша стоит рядом с Дядесашей и думает: "Я применяла к ней неправильные, устаревшие методы воспитания и не знала, что в ней жила такая героическая душа".
3
Жалюзи на открытых окнах были опущены, в большой комнате стоял прохладный зеленоватый полумрак. Пахло хвоей, сосны снаружи шумели ровно и однообразно, как не шумит ни одно лиственное дерево. Время от времени солнечный зайчик проскакивал по потолку – наверное, опять мальчишки подвесили к ветке зеркальце.
Скрипнула дверь. Таня сунула под простыню третий том "Войны и мира" и мгновенно притворилась спящей. Осторожные, на цыпочках, шаги приблизились к ее кровати.
– Николаева, – раздался шепот дежурной вожатой Ирмы Брейер, – вставай-ка, к тебе приехали…
Таня потянулась и приоткрыла глаза, старательно разыгрывая пробуждение. Потом вдруг удивилась – кто мог к ней приехать?
Окончательно открыв глаза, она уставилась на Ирму, хлопая ресницами.
– Ты, наверно, что-то напутала. Кто может ко мне приехать!
– К тебе, к тебе, – нетерпеливо повторила вожатая, – какой-то военный, он ждет в столовой на веранде. Одевайся живее, только без шума…
Таня кубарем вылетела из постели.
– Ой, знаю! – взвизгнула она тихо, хватаясь за свои вещи. – Ирмочка, это танкист, правда?
– Кажется, да… а ты что это, опять читала? – Отброшенная простыня предательски приоткрыла край книги. – Николаева, сколько раз нужно тебе повторять, что во время мертвого часа читать запрещено! Ты хочешь носить очки, да?
– Ой, что ты, Ирмочка, лучше умереть сразу… я ведь совсем немножко – полстранички… я днем совсем не могу спать, правда. И потом, здесь вовсе не так темно, это тебе с непривычки кажется…
Вожатая опять принялась говорить строгим тоном разные скучные вещи, но Таня уже помчалась к выходу. Съехав для скорости по перилам – вышедшая следом Ирма Брейер только крикнула что-то и безнадежно махнула рукой, – она выскочила наружу, в августовский послеобеденный зной, и понеслась к лагерной столовой.
На увитой диким виноградом веранде уже сновали дежурные, расставляя по столам чашки и корзинки с хлебом для четырехчасового чая. Таня еще издали увидела лежащую на углу крайнего стола, около входа, знакомую фуражку с черным околышем. Владельца ее не было видно из-за винограда.
Она взлетела по ступенькам, готовясь наброситься на Дядюсашу, и вдруг замерла, – это оказался вовсе не Дядясаша, а какой-то совершенно незнакомый ей худой лейтенант с пышной шевелюрой завидного черного цвета. Лейтенант улыбнулся и встал.
– Это вы будете – Николаева Татьяна? – спросил он с твердым кавказским акцентом.
– Угу, – растерянно кивнула Таня. – А вы… ко мне?
– Лейтенант Сароян, – вместо ответа представился гость, протягивая ей руку.
Таня пожала ее, по-мальчишески тряхнув головой.
– Вы не от Дядисаши? – просияла она вдруг, только сейчас догадавшись.
– Так точно, от него. Он просил заехать – я сейчас в Баку еду, и у меня еще в Кисловодск есть одно поручение, обязательно нужно сделать – очень просили. Так что вы сейчас собирайтесь, поедем вместе.
– Куда, в Баку? – Таня нерешительно сморщила нос.
Лейтенант засмеялся:
– Зачем так далеко, – в Кисловодск, понимаете? У меня поручение есть: один наш командир раненый лежит, а жена в Кисловодске и ничего не пишет. Просил заехать, спросить, почему не пишет. Поедем вместе, я вам про Александра Семеновича расскажу, а вечером привезу обратно. Согласны?
– Еще бы! – воскликнула Таня и вдруг погасла. – Но только… я думаю, ничего из этого не выйдет – нам ведь нельзя так просто взять и уехать, нужно разрешение брать у заведующей, а она… я боюсь, она не даст. Она страшно строгая, ужасно.
– Э, я уже с ней поговорил, не думайте. Она только сказала, чтобы не слишком поздно. Чтобы обязательно к восьми были здесь.
– А, ну тогда хорошо! – опять просияла Таня. – Неужели вы так из самой-самой Монголии и приехали?
– Из Монголии, – улыбнулся лейтенант.
– Ох как интере-е-есно… так когда мы едем?
– Когда захотите, у меня здесь машина.
– Ага… ну, тогда я сейчас, только переоденусь. Вы самураев видели? Правда? Ой-ой-ой… ну хорошо, вы подождите минутку, я сейчас… потом вы мне все расскажете…
Таня бегом вернулась в спальню и начала тормошить Людмилу.
– Люся, вставай сейчас же, слышишь! Приехал лейтенант от Дядисаши, из Монголии – давай мне свою парадную юбку, плиссированную, быстро! – я сейчас с ним еду в Кисловодск – а то я свою еще не зашила…
Людмила приподнялась на локте:
– От Александра Семеновича, серьезно? И что он рассказывает?
– Не знаю, я еще не говорила… где юбка, Люся? – нетерпеливо крикнула Таня, выбрасывая из тумбочки Люсины вещи.
– Вон, внизу. Сложи все аккуратно, как было, слышишь ты?
– Ой, Люсенька, сложишь потом сама, мне же некогда.
За окнами резко запел сигнал горниста – мертвый час окончился. Девочки окружили Таню, забрасывая ее вопросами. Все знали, что у Николаевой есть дядя – танкист, носящий две шпалы и сейчас принимающий самое непосредственное участие в событиях на Халхин-Голе, и новость о приехавшем от него лейтенанте заинтересовала всех.
– Не галдеть, девчонки! – крикнула Таня. – Я ведь и сама еще ничего не знаю! Наберитесь терпения, вот приеду – тогда расскажу. Люся! Смотри скорее: вот эти рукава как лучше – оставить так, длинными, или закатать?
– Пожалуй, лучше закатать выше локтя, – подумав, сказала Людмила.
– Угу, по-моему тоже… – Таня принялась закатывать рукав и вдруг замерла, сделав большие глаза. – Ой, Люсенька, а пятно?
– Какое пятно?
– Ну какое, ты же сама видела – у локтя, фиолетовыми чернилами, вот такая клякса! Это вчера Олег, свинья такая, когда стенгазету готовили. Ты знаешь, я мыла, мыла, мальчишки даже пемзой терли – все равно видно, хоть реви. Может, не закатывать?
– Ничего, закатывай, – решила Людмила. – Чернила – это не так страшно.
– Правда? – с надеждой спросила Таня. – Ну смотри, на твою ответственность.
– Ой, девочки-и-и, – протянула Зойка Смирнова, – я бы с такой кляксой нипочем…
– Ты глупа. – Таня уничтожающе прищурилась. – И что это вообще за манера – вмешиваться в разговоры старших? Я, по крайней мере, в тринадцать лет вела себя скромнее. Так, я готова. Кому что покупать? Только быстрее думайте! Так, тебе галстук, тебе тоже – ладно, деньги потом, некогда мне сейчас, у меня есть с собой, – значит, всего два галстука – больше ничего? А тебе, Люсенька? Ничего? Ну, мне еще лучше. Девчонки, я побежала. Счастливо оставаться, ведите себя прилично, не безобразничайте, все равно узнаю. Люська, если на ужин будет яблочный пирог и ты не утащишь порцию для меня, то между нами все кончено – до свиданья, до свиданья!
Таня вприпрыжку помчалась к выходу и в дверях чуть не сшибла с ног Ирму Брейер.
– Николаева!!
– Ой, Ирмочка, прости – я тебя не видела, честное слово – извини, я побежала, а то меня ждут…
– Погоди! – Ирма едва успела поймать Таню за руку. – А ну-ка, покажись. Ясно, юбка, как всегда, перекошена…
– Ирмочка, ну я умоляю – меня ждут, понимаешь?
– Ничего, подождут. Я не хочу, чтобы девушка из нашего лагеря разгуливала по Кисловодску чучело чучелом. Поправь юбку, я тебе сказала! Конечно, выбелить тапочки было некогда, да?
– Ирмочка, золотая, вот самое честное слово…
– Пожалуйста, не оправдывайся. Ты знаешь, что до линейки ты должна быть в лагере?
– Да, да, я буду ровно в семь, честное-честное слово…
До Кисловодска было около часа езды. Сидя за рулем старого разболтанного газика, который бренчал и скрипел всеми суставами, лейтенант Сароян щурился из-под фуражки на бегущую навстречу пыльную дорогу и рассказывал о Монголии. Они проезжали сейчас самый живописный участок шоссе Ессентуки – Кисловодск, но Таня не видела окружающих красот. Она слушала лейтенанта, буквально заглядывая ему в рот, и нетерпеливо ерзала по сиденью, когда тот замолкал, беря крутой поворот или обгоняя другую машину.
– Ну-ну, и что? – торопила она его. – И что было, когда отстала пехота?
– Ну, ничего… без нее пришлось начинать. Вообще-то, по правилам, это не полагается… действовать без поддержки пехоты… но там такое положение сложилось, что нельзя было ждать. Словом, подошли мы туда одни, без пехоты… и сразу – не отдыхая – в бой. Утром, так часов в одиннадцать. Танков у них там не было, но артиллерия была мощная… а там такое плоскогорье, подступы все хорошо просматриваются, ну и они, конечно, заранее пристреляли все ориентиры… а у нас люди были уставшие, за моторы тоже побаиваться приходилось… мы ведь трое суток шли через пустыню – знаете, что это такое! Конечно, нужно было отдохнуть, проверить матчасть… но времени на это не было. В общем, мы там как дали – с ходу… – Лейтенант прищурился еще и покрутил головой. – …Может, оно и лучше вышло, что не отдыхали. Народ был злой как черт, а это ведь тоже фактор… Словом, к вечеру разутюжили мы этот Цаган вдоль и поперек. Вечером я, помню, поехал вытаскивать один наш подбитый танк, смотрю – такая, знаете, картина… прямо за душу меня взяло… представляете, Таня, наверху такой красный-красный монгольский закат – а там закаты такие, что не расскажешь, – а внизу поле сражения, понимаете – раздавленные пушки, трупы, танки сожженные дымятся еще… э, да что я вам такие вещи рассказываю, вот ишак! – воскликнул он вдруг, взглянув на Таню и увидев выражение ужаса на ее лице. – Хватит нам о войне – о чем хотите будем говорить, о войне не будем!..
Приехав в Кисловодск, они были уже закадычными друзьями. Лейтенант уговорил Таню называть его просто по имени – Виген, – а сам продолжал обращаться к ней на "вы". Это было непривычно и приятно, Таня даже почувствовала к себе некоторое уважение. Оставив машину на привокзальной площади возле аквариума, они медленно пошли по шумной, полной народу улице.
– Так вот что, Танечка, – сказал лейтенант, вытаскивая записную книжку, – давайте набросаем план действий. Мне нужно сходить к этой женщине, а вы пока погуляйте здесь с полчасика, а потом встретимся вот хотя бы на этом углу. Есть?
– Ладно, я тогда побегу покупать галстуки. Меня девчонки просили купить, наши пионерки. Знаете, мелкота, лет по тринадцать, глупые все невероятно, просто не верится, что и ты когда-то была такой же. – Таня пожала плечиками. – Ну хорошо, вы тогда идите, а встретимся лучше у Октябрьских ванн – знаете? Это вот прямо, такое низкое здание и четырехугольная башенка с часами, а напротив еще аптека. В пять часов, хорошо? Успеете?
Виген посмотрел на часы:
– Да, успею, я там засиживаться не собираюсь. Ладно, договорились. Не заблудитесь только, я за вас отвечаю…
Магазин "Динамо" был недалеко, за утлом. Войдя, Таня осмотрелась, потрогала обтянутую коричневой клеенной "кобылу". Ей вдруг вспомнилось, что по БГТО осталось сдавать самое трудное – упражнения на снарядах. В отделе пионерского инвентаря полки были уставлены небольшими барабанами и сверкающими шеренгами горнов; поджидая отлучившуюся продавщицу, Таня мечтательно морщила нос, глядя на соблазнительные вещи и представляя себе, как здорово было бы научить Раечку дудеть в горн (сама она довольно хорошо умела выбивать дробь на барабане) и на страх врагам устраивать в доме комсостава ежевечерние концерты. Если бы не мать-командирша, это отлично можно было бы провести в жизнь.
Вернувшаяся продавщица оторвала ее от приятных мыслей. Купив галстуки, Таня вышла на улицу и остановилась. У дверей магазина двое мальчишек деловито – по очереди – надували волейбольную камеру, очевидно только что купленную и еще покрытую серебристой пыльцой талька.
– Эх, дураки, – сказала Таня, понаблюдав с минуту. – Кто же так надувает? Вот я бы надула сразу. Хотите, покажу?
– Не лапай, не купишь! – сипло ответил мальчишка. – Иди, а то как урежу…
Таня презрительно сморщила нос.
– Это ты-то? Меня? – Она подошла на шаг ближе и деловито спросила: – Хочешь драться?
– Ну чего она ле-е-езет! – плаксиво завопил вдруг мальчишка таким противным голосом, что на них оглянулись прохожие. Таня сразу отошла.
– Просто не хочу связываться, – бросила она через плечо, – а то бы я из вас двоих четыре сделала…
Зайдя в гастроном, она купила для Люси полкило ее любимых "тянучек". Потом на пути к Октябрьским ваннам встретился комиссионный, – в этих витринах всегда можно увидеть что-нибудь интересное. Таня сунула в рот тянучку и прижалась носом к стеклу.
Ее внимание сразу привлек крошечный театральный биноклик – перламутровый, с золочеными ободками, на длинной ручке вроде лорнета. Не иначе, еще пушкинских времен. Ох, вот бы побывать там хотя бы на немножко – придумать какую-нибудь "машину времени" и…
Используя витрину как зеркало, Таня наклонила голову чуть набок и сделала томные глаза – как на портрете Натальи Гончаровой. Рядом кто-то остановился, она покраснела и быстро нагнулась, разглядывая старинные бронзовые часы под стеклянным колпаком. Оказалось вдруг, что часы идут и стрелки показывают двадцать минут шестого; она ахнула и помчалась по улице, расталкивая прохожих.
Лейтенант уже похаживал у здания Октябрьских ванн, заложив руки за спину.
– Э, ничего, – сказал он, когда Таня прерывающимся от бега голосом извинилась за опоздание. – С делами мы покончили, куда спешить? Я вот что сейчас подумал – ужин в лагере вы ведь потеряли, а покушать надо. Вы шашлык любите?
– Я никогда не ела, только слышала. Это на палочках, как эскимо? А вкусно?
– Шашлык? Ха-ха! Идемте, – решительно сказал лейтенант, взяв ее за руку, – тут есть одна шашлычная, настоящая. Сейчас увидите, что такое шашлык…
Они пришли в небольшой прохладный подвальчик, где чуть пахло вином и погребной сыростью, а по стенам висели безобразно растопыренные бурдюки, – с первой же минуты Таня старательно избегала их взглядом. Откуда-то доносилась странная восточная музыка.
Маленький багровый толстяк с разбойничьими усами быстро накрыл на стол и поставил перед лейтенантом бутылку вина.
– А этого вам нельзя, – сказал Виген, шутливым жестом убирая бутылку подальше от Тани.
– А этого я и не прошу, – сморщила она нос, наклоняя голову набок.
Виген улыбнулся.
– Почему вы улыбаетесь?
– Просто так. Смотрю на вас и улыбаюсь.
– Нет, пра-а-авда…
– Тсс! – Он приложил палец к губам. – Смотрите, вам уже несут…
Шашлык и в самом деле оказался вкусной штукой. Разбойничий толстяк прибегал с железными прутиками, где кусочки мяса были нанизаны вперемежку с ломтиками помидоров, и ловко состругивал их на тарелки. Таня уплетала за обе щеки, – только сейчас она почувствовала, как проголодалась за это время. Утолив голод, она опять пристала к лейтенанту:
– Нет, Виген, ну скажите серьезно, почему вы тогда улыбнулись?
– Слушайте, Таня! – вместо ответа сказал тот. – Вы уже видели, как на Кавказе кушают, – теперь увидите, как на Кавказе пьют…
Подозвав крючконосого разбойника, он сказал ему несколько гортанных слов. Тот улыбнулся Тане, цокнул языком и убежал. Через минуту он вернулся и подал лейтенанту большой кривой рог. У Тани загорелись глаза.
– Из этого вы будете пить? – недоверчиво спросила она, дотронувшись до рога. – Ох как интере-е-есно…
Сароян взял рог и вылил в него все вино из бутылки. Потом, держа его в обеих руках, встал и поклонился Тане.
– Пью за ваше здоровье, – сказал он негромко и торжественно. – Живите много лет, и пусть с каждым годом ярче сияют звезды ваших глаз…
Таня не сразу поняла смысл последних слов – они дошли до ее сознания минутой позже. Сейчас она с изумлением смотрела, как лейтенант стоя пил из рога, не отрываясь и все выше запрокидывая голову. "Задохнется!" – испуганно подумала она, но в этот момент Виген вскинул пустой рог и перебросил стоявшему поодаль крючконосому. Тот поймал его на лету, что-то восторженно крикнул и зааплодировал, держа рог под мышкой. Только тут Таня поняла смысл сказанного о звездах и почувствовала вдруг, как загорелись ее щеки.
– Спасибо, что вы пили за мое здоровье, – не поднимая глаз, сказала она севшему на место лейтенанту и улыбнулась. – Только не нужно так много…
– На Кавказе это не называется много, это называется – в самый раз, – засмеялся лейтенант. – А теперь рассказывайте вы.
– Что же я могу рассказать? Про лагерь – так это же совсем не интересно… вы так много интересного видели, а тут вдруг какой-то лагерь. Вы вот японцев видели…
– Вот поэтому мне и хочется услышать про что-нибудь такое, где нет японцев. Серьезно, Таня, расскажите просто про себя.
– Ну хорошо, я расскажу – только придумаю, с чего начать. Слушайте, а что все-таки Дядясаша делает в Монголии?
– Ну, как что? Командует, что же ему еще делать.
– А чем он командует?
– Крупным танковым соединением, – улыбнулся Сароян. – Остальное – военная тайна.
Таня наморщила нос…
– Всё та-а-айны, та-а-айны… – капризно протянула она, отодвигая тарелку. – Ну, я уже наелась как удав – не могу пошевелиться. Идемте есть мороженое? Знаете куда – в парк, там есть такой Храм Воздуха!
Когда они вышли на улицу, уже смеркалось. Оглушительно трещали цикады, в теплом вечернем воздухе пахло немного пылью, немного бензином и какими-то незнакомыми Тане цветами.
– Хорошо здесь, – вздохнула она, морща нос. – Это соединение, которым командует Дядясаша, – оно большое?
– Порядочное.
– Ох какой он важный, – покачала головой Таня. – А дома – меня боится.
– Боится вас? – улыбнулся Виген. – А что, вы такая страшная?
Таня пожала плечами:
– Нет, конечно… но характер у меня мерзкий, это все говорят. Я – шкодливая, правда. Почему вы смеетесь? Честное слово, у нас во дворе так меня и называют, ну что я могу поделать. У нас такая дворничиха – так она всегда: "То та шкода с десятой квартиры, що це за дивчина такая, було б ей повылазило" – это она по-украински, я точно не могу передать, но приблизительно так. Ну что вы всё смеетесь!..
На открытой полукруглой террасе, расположенной в самой высокой точке парка, почти никого не было. Прохладный ветер доносил снизу обрывки музыки, смех и голоса гуляющих.
Таня ела мороженое и рассказывала Сарояну о лагерной жизни. Он уже знал характеры и особенности всех вожатых, распорядок дня, меню завтраков, обедов и ужинов. Ему было сообщено также, что у нее, Тани, есть в лагере подруга – приехала вместе с ней из Энска – такая Люся Земцева, страшно умная и красивая, такая красивая, что если бы он ее увидел, то наверное влюбился бы; что Люся собирается быть физиком, а она сама – не Люся, а она сама – весной увлекалась машиностроением и даже хотела записаться в ДТС, а потом балетом, а сейчас увлекается минералогией, потому что познакомилась в лагере с одним членом кружка юных геологов из Микоян-Шахара и тот дал ей прочитать книжку академика Ферсмана. Этот юный геолог страшно умный – тоже, наверно, будущий ученый, – а вообще он смешной, ну вот взять хотя бы, что он устроил вчера на линейке…
Тут Таня осеклась и, держа в руке ложечку, сделала большие глаза.
– Ой, Виген, – прошептала она в ужасе, – который час?
Тот посмотрел на часы и зажмурился:
– Х-ха! Пропали мы с вами – уже четверть девятого!
– Четверть девятого! Ой, что же я теперь буду делать?.. Они меня просто съедят!
– А нельзя позвонить в лагерь? Соврем что-нибудь…
– Ой, я не знаю номера… да и потом, это уже все равно – линейка у нас ровно в восемь, меня уже нет, а что мы можем сказать? – Таня закусила губу и покачала головой. – Ох, что мне завтра бу-у-удет… вы себе представить не можете, как мне нагорит… а, все равно! – Она капризно передернула плечиками и принялась доедать мороженое. – Я не маленькая. Ну, влетит, неважно – не в первый раз… мне и похуже доставалось.
– Уже бывало? – улыбнулся Сароян.
Таня пожала плечами.
– Еще как, – сказала она небрежно. – Меня страшно строго воспитывают. Не в лагере, конечно, – дома.
– Подумайте, ц-ц-ц. – Он сочувственно поцокал языком. – А вы же говорили, что Александр Семенович вас боится?
– Дядясаша – да. Еще бы! Нет, я говорю про мать-командиршу…
– А, про нее я слышал.
– От Дядисаши? Значит, тогда вы знаете. Я ее очень люблю, но… у нее такие отсталые методы воспитания, прямо ужас… прямо какие-то средневековые!
Они посмотрели друг на друга и рассмеялись как по команде.
– Ничего, Таня, – сказал Виген, – это не так страшно. Ну, хотите еще мороженого – или поехали?
Таня в нерешительности посмотрела на стоявшие перед ней пустые вазочки.
– Н-нет, хватит, я думаю… Давайте уж лучше поедем. Серьезно, Виген, я просто боюсь, правда. Пока мы еще доберемся…
На привокзальной площади на лейтенанта коршуном налетел милиционер, – что-то оказалось не в порядке, то ли машина стояла в неположенном месте, то ли просто она стояла слишком долго. Они долго ругались и спорили, горячась и хватая друг друга за обшлага, с русского постепенно перейдя на какой-то непонятный, шипящий и гортанный. Таня слушала их, с тоской поглядывала на часы и с ужасом думала о том, что произойдет в лагере.
Обратный путь они сделали за сорок минут, так быстро Тане не приходилось ездить еще ни разу в жизни. Она хваталась то за сиденье, то за борт, то за рукав Вигена, газик прыгал и метался из стороны в сторону, звеня, вскрикивая и взвизгивая прямо по-человечески. Ночные бабочки проносились в искрящихся конусах света перед радиатором, справа – в кромешной тьме – вспыхивали и гасли красные и желтые отражатели дорожных знаков и, проносясь мимо, фыркали невидимые телеграфные столбы. Вообще, это была не езда, а какое-то сумасшествие. Когда машина с ревом пронеслась по сосновой просеке и затормозила перед воротами лагеря, Таня чувствовала себя окончательно одуревшей. "С приездом!" – громко сказал Сароян и с размаху ударил кулаком по рулю. Дикий, неприлично громкий, хриплый вопль вырвался из недр загнанного газика, где что-то продолжало еще булькать и пощелкивать. Подскочив от ужаса, Таня вцепилась в лейтенанта обеими руками.
– Вы с ума сошли!! – зашипела она отчаянно. – Что вы делаете, Виген, вы же всех перебудите – у нас после девяти говорить громко и то нельзя, а вы так дудите! Господи, ну теперь я уж совсем пропала! Виген, уезжайте скорее, пока никто не пришел…
– Как "уезжайте"? Х-ха? – Он выскочил из машины вслед за Таней и воинственным жестом одернул пояс. – Я сейчас вашему начальству буду рапортовать – надо же объяснить, как было дело!
– Нет, нет, я сама все объясню, честное слово, так лучше… уезжайте скорее, правда, Виген, ну пожалуйста!
Таня торопливо затолкала лейтенанта обратно в машину и сама с треском прихлопнула за ним разболтанную дверцу.
– Да нет, вы послушайте, как же так… – растерянно попытался тот протестовать.
– Да Виген! – уже с отчаянием крикнула Таня, оглянувшись на решетчатые ворота. – Уезжайте, я вам говорю, – ну как вы не понимаете!
По-видимому, страх ее внезапно передался Сарояну. Он сунул ей в руки кулек с покупками, торопливо пробормотал что-то насчет того, что в Энске они, возможно, еще увидятся, круто развернул машину и умчался по просеке с такой скоростью, будто за ним гнались черти. Не успела погаснуть вдали красная искорка стоп-сигнала, как за воротами вспыхнул фонарь. Спустя минуту послышался хруст гравия, – по аллее торопливо шел старший вожатый, за ним, не поспевая за его широкими шагами, почти бежала Ирма Брейер.
– Вы бы еще час копались! – запальчиво крикнула Таня, когда начальство подошло ближе. – Теперь-то уж он, конечно, уехал!
– Кто уехал? – Вожатый отпер калитку и пропустил Таню внутрь.
– Николаева, ты окончательно сошла с ума… – начала Ирма трагическим голосом, но Таня перебила ее, обращаясь к вожатому:
– Как кто – лейтенант Сароян, ясно! Он просто хотел объяснить, в чем дело. Вы бы еще через час пришли! Он ждал, ждал и уехал – он очень торопился в часть, его эта дурацкая история и так задержала, – а вообще он хотел сам все рассказать, потому что…
– Постой ты, не тарахти! Какая история? Тебе когда было сказано вернуться в лагерь?
– Господи, ну к восьми, к восьми! Мы уже ехали назад – понимаешь? – так приблизительно в половине восьмого, как раз успели бы – и вдруг заднее колесо ка-а-ак отлетит, правда! Ой, Петя, я так перепугалась, ты себе представить не можешь – думала, перекинемся…
– Ух ты, страхи какие, – сказал вожатый, – Ну, и?
– Ну, и у нас не оказалось в машине домкрата, понимаешь? И как назло – никого на дороге! Наверно, часа полтора сидели и ждали, а потом ехала одна полуторка, и они нам помогли. Ну вот, видишь…
– Да, вижу, – буркнул вожатый. – Это ты сама сочиняла или лейтенант помогал? Сказки мне будешь рассказывать – полтора часа они сидели на дороге и ни одной машины не увидали… в полвосьмого, говоришь? Ладно, вот нарочно вывезу тебя завтра в то же время на то же место, и посмотрим с часами в руках – сколько машин там за полчаса пройдет.
В молчании они дошли до девчачьего корпуса, и Таня обиженно сказала:
– У тебя никакого доверия к людям…
– Такие уж люди, – сказал вожатый. – Завтра Нина Осиповна с тобой побеседует, так что готовься заранее.
– Ну Петя, ну я-то при чем? – жалобно возопила Таня. – Я ведь тебе говорю – была авария, разве я виновата?
– Еще бы, ты никогда не виновата, ты ведь у нас ангел. Иди, иди, нечего…
Пока Таня умывалась, Ирма Брейер стояла у нее над душой, словно подозревая преступницу в намерении снова удрать; потом с тем же ледяным видом надзирательницы довела до самых дверей спальни.
– Покойной ночи, Николаева, – сухо сказала она. – Не шуми, когда будешь раздеваться. Завтра мы поговорим.
– Ирмочка, я ведь уже все рассказала – зачем же еще? – Таня тяжело вздохнула. – Хочешь тянучку?
– Нет, спасибо, и сама не смей. На ночь, после чистки зубов, ничего сладкого. Ты, конечно, этого тоже не знаешь?
"Ой, ой, хоть бы Люся уже спала…" – думала Таня, на цыпочках пробираясь по спальне. Но Люся не спала. Едва Таня добралась до своей кровати и, затаив дыхание, начала раздеваться, рядом послышался шепот подруги:
– Что это ты так рано? Могла бы с таким же успехом приехать вообще утром.
– А, ты еще не спишь, Люсенька… я страшно рада… смотри – я тебе купила тянучек, тех самых…
Таня на ощупь сунула под подушку Людмилы хрустящий кулек.
– У тебя, Татьяна, отвратительная манера – набезобразничаешь, а потом лезешь со всякими тянучками. Ну, подожди, завтра у нас будет разговор.
– Кошмар, – вздохнула Таня, – это уже третий… вот тебе твоя юбка, в целости и сохранности, можешь радоваться. Я даже сложила ее по твоему способу, смотри. Если хочешь знать, то мы опоздали просто потому, что у Сарояна остановились часы. Видишь, как я тебя слушаюсь во всем, а ты вечно недовольна. Это просто черная неблагодарность, самая черная. И вообще очень интересно – что я такого страшного наделала… подумаешь, немножко опоздала в лагерь…
Таня обиженно шмыгнула носом и полезла под простыню, продолжая что-то бурчать.
– Ах, ты не понимаешь, что в этом такого страшного, да? – вскипела Людмила. – Ты два часа заставляешь всех беспокоиться – заведующую, вожатых, меня – и потом еще спрашиваешь невинным тоном: "Что я такого сделала?" Знаешь – спи уж лучше, мне просто противно с тобой разговаривать!
– Ну и ладно, а мне еще противнее!
Едва успев задремать, Людмила опять проснулась – ее разбудил щекочущий шепот над самым ухом:
– Люся, ты слышишь… Лю-ся!
– Господи, ну что тебе еще? Не шипи в ухо! Танька!!
– Люсенька, я у тебя хочу спросить одну вещь, только ты не смейся. Смотри – если бы тебе нужно было сравнить с чем-то мои глаза, с чем бы ты их сравнила?
– Что? Твои глаза? Как сравнить?
– Ну, как ты не понимаешь… говорят же "глаза как незабудки" – это когда голубые, или "как фиалки" – знаешь, есть такие редкого цвета – ну, и вообще можно с чем хочешь сравнить – не обязательно с цветком… ну-у, не знаю там – глаза, как… как звезды, что ли, – это уж совсем глупо, правда?
– Ну конечно, – зевнула Людмила.
– Что "конечно"? Конечно, что как звезды, или конечно, что глупо?
– Ясно, что глупо. Так что ты хочешь, я не понимаю?
– Ах, ничего я не хочу, отстань, – сердито ответила Татьяна. – Я спать хочу!
4
Тридцатого августа Таня вернулась в Энск, и новости посыпались сразу со всех сторон, – можно было подумать, что нарочно дожидались ее приезда.
На вокзале их встретил тот же Вася, – Галина Николаевна была занята и не приехала.
– Как отдыхалось, девчата? – весело спросил он, засовывая в машину чемодан. – Женихов еще не понаходили? Значит, не так действовали, что ж это вы…
Таня хихикнула, забираясь на свое любимое переднее сиденье.
– А как нужно было действовать? – спросила она.
– Ишь, заинтересовалась, курносая. – Вася сделал вид, что хочет мазнуть ее по носу черным пальцем. – Рано еще! Пошутил, а она уж и обрадовалась… Люда, куда ехать-то – к вам или на Котовского сперва?
– К нам, Вася, мы еще должны разобрать вещи.
Вася сел на место и, трогая машину, подмигнул Тане. Она подумала вдруг, что все эти подмигивания и хватания за нос – не очень-то приятная штука. Почему-то вот с Люсей никто себе этого не позволяет! Странно, но даже в школе Таня не могла вспомнить ни одного случая, чтобы кто-нибудь дернул Люсю за косу; а мимо нее, Тани, ни один мальчишка не пройдет, не сделав какой-нибудь пакости: или потянет за волосы, или хлопнет линейкой, в лучшем случае хоть рожу скорчит…
Она смотрела на бегущие мимо пыльные акации и думала, что, хотя ее последняя зарубка на притолоке почти на два сантиметра выше Люсиной, все-таки, наверно, Люся производит более взрослое или более умное впечатление – иначе чем все это можно объяснить? Ее, взрослую, в сущности, девушку, которой через две недели исполняется шестнадцать лет – шутка сказать, шестнадцать! – ее, девятиклассницу, при всех называют курносой и запросто мажут ей нос пыльным пальцем. Хорошего в этом мало.
От грустных мыслей оторвал ее Вася, толкнув локтем и сказав, что теперь, значит, она и вовсе станет ходить в знаменитостях и что жаль, что он везет ее, а не самого майора, потому что тот наверняка пригласил бы его зайти обмыть награду.
– Какую награду? – рассеянно спросила Таня, ничего не поняв.
– Слышь, Люда… – засмеялся шофер, на секунду обернувшись к сидящей сзади Людмиле. – Растолкуй ей, а то она уже забыла.
– Не понимаю, о чем вы, Вася. – Люся пожала плечами.
– Вы что, в самделе ничего не знаете? – изумился шофер. – Хотя верно, вы же ехали сколько! Э-э, Танечка, тогда с тебя магарыч. Дядька твой Героя получил, вот как! Сегодня в газетах список…
Таня не сразу поверила, что Вася говорит правду; поверив, она ошалела от радости. Воспользовавшись тем, что машина только что пересекла бульвар Котовского, она попросила остановить, чмокнула Люсю в щеку и выскочила на тротуар. Почему-то она решила, что Дядясаша, украшенный новенькой Золотой Звездой, уже ждет ее дома.
Никакого Дядисаши, конечно, дома не оказалось. Вместо него Таню встретила Раечка, вчера вернувшаяся из отпуска и теперь занятая уборкой.
– А у нас тут новосте-е-ей! – закричала она, схватив Таню в объятия и принимаясь кружить по комнате, – Кругом одни новости! Про Алексан-Семеныча уже небось слыхала?
– Ой, Раечка, ты меня задушишь!.. Да, мне уже сказали, а где газеты сегодняшние?
Номер "Красной звезды" лежал на Дядисашином столе; Таня замерла, пробегая длинный список на первой странице. "…Наградить званием Героя Советского Союза с одновременным вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда" – ого, целых тридцать два человека! Так… командарм Штерн, полковник Яковлев – о, вот – "майора Николаева Александра Семеновича".
– Ой, Раечка, – зачарованно прошептала Таня, не веря своим глазам. – Ой, я так рада за Дядюсашу, ты себе просто представить не можешь… а какие еще новости?
Следующая новость касалась матери-командирши, у которой родился в Днепропетровске внук; она стала от радости совсем как ненормальная и вчера уехала; Тане она оставила деньги и яблочный пирог, – только она, Раечка, этот пирог съела, потому что не знала, когда Таня приезжает, а ведь яблочный пирог как зачерствеет, так после хоть не ешь.
– Как же ты не знала, – с упреком сказала Таня, – занятия ведь начинаются первого! Яблочный, да? Как раз мой любимый. Все-таки хоть кусочек ты уж могла бы мне оставить, правда! Я бы съела и черствый, не такая уж я привереда…
– Ладно, не горюй, я тебе сегодня испеку. Еще вкуснее будет, вот увидишь!
С этими словами Раечка так хлопнула Таню по плечу, что та присела; потом неожиданно всхлипнула и сообщила, что в конце того месяца выходит замуж – не за шофера, с которым познакомилась на Первое мая, а за счетовода Андрей-Иваныча, который ухаживает за ней уже второй год.
Эта новость Таню ошеломила не меньше Дядисашиной Золотой Звезды. К Раечке она привыкла относиться как к приятельнице, почти как к сверстнице – и вдруг в конце следующего месяца с ней случится такое. Подумать – она станет замужней дамой!
– Поздравляю, Раечка… – Таня почувствовала себя совершенно растерянной. И что вообще полагается говорить в таких случаях? – Раечка, я тебе желаю от всего-всего сердца, чтобы ты была очень счастливой и… и чтобы у вас были хорошие дети, вот.
Они опять обнялись, и Раечка опять всхлипнула и засмеялась:
– А Петька мой говорит: дура ты, Райка, ну чего за старика выходишь, иди, говорит, лучше за меня, я и собой лучше, и заработок еще тот. Я, говорит, сделаю два рейса и на одних королях столько буду иметь, сколько твой дед за месяц пером не выскрипит. А какой же с него дед – ему ведь всего тридцать шесть… ведь не дед, а, Танечка?
– Ну-у, нет, конечно… – ответила Таня, в душе ужаснувшись древности жениха.
– Я ж и говорю, – обрадовавшись поддержке, горячо зашептала Раечка, – я ж и говорю, что он вовсе еще не такой старый, и потом жалко мне его – тихий он такой, вежливый, всё книжки читает. Бросила б я его – он так бы и остался холостяцтвовать… Петьку, того мне не жалко бросить, он себе найдет, и дня один не просидит – девчата до него, черта, так и липнут, я и в толк не возьму, чем он нашего брата приманывает, кобель веселый… ой, у меня там вода вся выкипит!
Раечка всплеснула руками и убежала в кухню. Таня огляделась. В комнате все было вверх дном, как всегда во время больших уборок; сейчас, после долгого отсутствия, даже этот беспорядок казался уютным. Уютным был и запах – неповторимый, чуть пыльный запах городской квартиры, пустовавшей целое лето. Жить на свете было чудесно. Забравшись с ногами в угол дивана, Таня вытащила из кармана жакетика маленькое теплое яблоко и так закусила его, жмурясь от удовольствия, что сок брызнул на щеку.
Новости, новости, новости…
В первый день учебного года они сидят за блестящими партами, обмениваясь летними впечатлениями, бродят группками по коридорам, пахнущим мастикой для полов и свежей побелкой, листают новенькие, тугие еще учебники, знакомятся с новыми преподавателями – и не знают, что в эти часы на мир уже обрушилась самая страшная из новостей. Свинцовый ветер уже метет по дорогам Польши, но в Энске еще ничего не известно. В одиннадцать часов утра, когда немецкие пикировщики прямым попаданием обрушивают первый забитый беженцами мост через Варту, в 46-й энской школе идет большая перемена. Людмила откомандирована в буфет, а Таня сидит с Иришкой Лисиченко на скамье под пронизанными солнцем каштанами и, таинственно понижая голос и блестя глазами, рассказывает, как лейтенант Виген Сароян пил за ее здоровье вот из такого рога и как ей на другой день досталось в лагере за ту поездку.
Вторая мировая война уже началась, но Танины одноклассники пока ею не затронуты. Даже вечером, прослушав выпуск последних известий, они не придадут особого значения тому, что произошло в этот день в Польше. Они привыкли, что в мире всегда что-то происходит, чуть ли не каждый год. Если не в Абиссинии, то в Испании; если не на Хасане, то на Халхин-Голе…
Впрочем, на этот раз дело становится серьезным. Проходит еще два дня, и в войну вступают Англия и Франция – империалисты и поджигатели. На общешкольном собрании комсорг Леша Кривошеин объясняет, почему именно на англо-французских империалистах лежит вина за случившееся.
Каждый день, перед началом уроков и на переменках, мальчишки яростно переживают оперативные сводки – немецкие, английские, французские, польские. Взята Лодзь, в районе Кутно окружены десять польских дивизий, немецкие Ю-87 бомбят военные объекты в Северной Франции. Словно перед интересным матчем, вся мужская половина школы разделилась на спорщиков – кто кому наклепает. Таня на этот раз держится от них в стороне; ее вдруг почему-то перестали интересовать эти мальчишки с их спорами и их нелепыми затеями; сейчас они кажутся ей просто глупыми, и это тоже новость. Игорь Бондаренко – задавака противный! – первым в классе начал носить великолепный пробор, намазывая волосы бриллиантином. Некоторые преподаватели уже говорят девочкам "вы", и к этому никак нельзя привыкнуть, – всё кажется, что это относится вовсе не к тебе.
Вообще, ко многому трудно привыкнуть в этом сумасшедшем месяце – сентябре тридцать девятого года. Трудно привыкнуть к тревожному слову "война" в газетах, к ощущению себя девятиклассницей, к тому, что в "Энской правде" напечатали статью про Дядюсашу, где сказано, что "майор Николаев принадлежит к числу знатных людей нашего города"; трудно привыкнуть к телеграммам, к телефонным звонкам бесчисленных Дядисашиных знакомых, справляющихся, не вернулся ли герой; трудно привыкнуть к ослепительной школьной славе племянницы человека, чей портрет повесили в пионерской комнате над макетом танка, – и к тому, что через несколько дней тебе исполняется шестнадцать лет…
Одиннадцатого, накануне своего дня рождения, Таня просидела весь вечер одна, не зажигая света, и на сердце у нее было тревожно, радостно и грустно от мысли, что вот прожита первая половина жизни (с завтрашнего дня нужно начинать хлопоты о паспорте, а с паспортом в кармане человек не может не чувствовать себя старым) и теперь начинается вторая – уже закат, спуск под горку. Это было печально до слез – сидеть вот так перед открытым окном в темной и пустой квартире, слушать автомобильные гудки в смех на бульваре и смотреть на высокую звезду, чистым неземным огнем дрожащую прямо над темным куполом здания обкома. Вечер был тих и прозрачен, недавно прошел короткий "слепой" дождик, и сейчас чудесно пахло мокрой листвой каштанов, прибитой пылью и просыхающим теплым асфальтом.
Таня смотрела на звезду и думала о чудесной и фантастической жизни далеких обитателей этой голубой планеты – а потом наверху, у Голощаповых, патефон заиграл "Ирландскую застольную". Затаив дыхание, вслушивалась она в серебряные переливы рояля, в голос певца, так удивительно выразивший вдруг ее собственное настроение. Полный легкой и просветленной грусти голос рассказывал о метели, роями белых пчел шумящей за окнами, о тесном круге друзей, о том, как огнями хрусталя светится любимый взгляд, – и о том, что за дверьми ждет смерть…
…миледи Смерть, мы просим вас
За дверью обождать… -
услышав эти слова, всегда приводившие ее в трепет, Таня легла щекой на подоконник и заплакала слезами такими же легкими и светлыми, как переполнившая ее сердце бетховенская музыка.
Закатная половина ее жизни началась, в общем, не так плохо. Утром – бывают же такие счастливые совпадения! – от Дядисаши пришли сразу письмо и посылка. Посылка ее удивила – что это может быть? – и она, читая письмо, машинально ощупывала загадочный мягкий пакет. Письмо было, как всегда, коротким – один листок, с обеих сторон исписанный твердым крупным почерком без наклона. Дядясаша поздравлял ее с днем рождения и выражая надежду, что вещица, отправленная им две недели назад, уже получена и одобрена. Возможно, писал майор, письмо это вообще опоздает, так как он сам надеется скоро быть дома. Если успеет вернуться до двенадцатого, то уж шестнадцатилетие они отпразднуют на славу, как и полагается праздновать великие события. В конце шли обычные вопросы относительно здоровья, времяпрепровождения и школьных дел.
При мысли о скором – может быть, даже сегодня! – возвращении Дядисаши Тане от радости захотелось стать на голову, но она вспомнила о пакете с загадочной "вещицей". Вооружившись ножом и закусив губу от нетерпения, она вспорола обшивку, разодрала оберточную бумагу и тихонько ахнула. В глаза ей блеснуло что-то золотое и зеленое. Подарок оказался китайским халатиком – настоящим, из чудесного ярко-зеленого шелка, по которому клубились золотые с чернью драконы, один страшнее другого.
Несколько минут она простояла перед зеркалом, не веря своим глазам. Ой – Люся когда увидит…
Справедливость требует сказать, что предстоящему приезду майора Таня обрадовалась все же больше, чем китайскому халатику. За лето она порядочно соскучилась по своему Дядесаше, а теперь, с наступлением школьных будней, одиночество стало особенно неприятным. Как назло, загостилась в Днепропетровске мать-командирша. Раечка уходила к шести, и на целый вечер Таня оставалась совершенно одна.
Очень страшно было по ночам – она прятала лицо в подушку, плотнее укутывала одеялом уши и лежала, боясь пошевелиться. Этой боязнью темноты Таня страдала с детства, и от нее не спасало ни ощущение себя девятиклассницей – почти-почти студенткой! – ни новые толстые учебники, от которых лопается по швам старенький портфель, не рассчитанный на такое количество премудрости. Она знала очень хорошо: от ночных страхов спасает только Дядясаша (так же, как когда-то в Москве – Анна-Сойна). Когда он похрапывает у себя на диване, темнота не кажется такой угрожающей, она становится почти уютной.
Двенадцатого она весь день сидела дома, нарядная и торжественная, дочитывала "Войну и мир" и ждала поздравлений. Впрочем, из всего класса позвонили только две девочки; Таня была разочарована и немного обижена. Забежала Раечка – уже три дня она не работала, готовилась к свадьбе, – придушила ее в объятиях и подарила дешевые красные бусы.
В половине четвертого пришла Люся с букетом белых астр.
– Поздравляю, Танюшка! – сказала она, передавая Тане цветы. – Ого, какая ты сегодня хорошенькая и аккуратная, прямо пионерка с плаката…
– Ну, ты скажешь, – скромно возразила Таня, – я всегда такая.
– Оптимистка! В первый раз в жизни вижу у тебя хорошо заплетенные косы. Кто плел?
– Жена одного капитана на пятом этаже… ой, Люсенька, что у меня есть! Хотя подожди – знаешь, наверно скоро приедет Дядясаша, может быть даже сегодня! Представляешь? Вот уж мы попируем… а когда придут остальные?
– Ты знаешь, Танюша, – сказала Людмила, – тебе сегодня не повезло. Нет, правда, такая неудача! У Жени вчера вечером заболела мама, и ей теперь приходится сидеть с братиком. А эту Громову ты вообще напрасно приглашала, я же тебе говорила. Она ушла с мальчишками в кино, а мне знаешь что сказала? Я, говорит, никак не могу, у меня после кино кружок юннатов и нужно кормить амблистому – ее, говорит, без меня не сумеют покормить. Как будто это так уж трудно – покормить какую-то несчастную ящерицу!
– Ничего, Люсенька. Я ей припомню, паразитке, – со зловещим спокойствием отозвалась Таня, ставя цветы в банку из-под варенья.
– Татьяна! – Людмила выдержала возмущенную паузу. – Сколько раз я запрещала тебе употреблять это слово?
– Люсенька, я его вовсе не употребляю, но Громова все-таки самая типичная паразитка. Еще хуже, чем эта ее возлюбленная амблистома…
– Ах, так ты нарочно говоришь гадости, когда я тебя прошу этого не делать!
Ссора вспыхнула, как костер из соломы; через три минуты Таня уже объявила сквозь слезы, что теперь-то поняла, до какой степени никто ее не любит и никому она не нужна, иначе она, Люся, не защищала бы эту Громову. Потом солома сгорела, Таня утерла кулаком глаза и полезла в шифоньер за китайским халатиком, и мир был восстановлен.
До самого вечера они то шептались, сидя с ногами на диване, то хохотали до полусмерти, пекли на электроплитке какой-то фантастический пирог и по очереди примеряли халатик. Таня ждала звонка или телеграммы: а вдруг Дядясаша все-таки приедет, как обещал? Но он так в не приехал. "Ничего, – думала Таня, засыпая, – завтра-то уж обязательно…"
Дядясаша не приехал ни на следующий день, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу; а в воскресенье, около полудня, Таня выглянула в окно и увидела толпу вокруг столба с громкоговорителем; тотчас же включив радио, она услышала незнакомый хрипловатый голос, медленно говоривший:
– …безопасность своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся положению…
Когда зазвонил телефон, у Тани оборвалось сердце – таким зловещим показался ей вдруг этот привычный звонок, загремевший как сигнал боевой тревоги. "Алло", – почти шепнула она, поднося к уху трубку.
– Татьяна? – послышался тревожный голос Людмилы. – Ты слушаешь радио?
– Только что включила… Люсенька – что же это такое? Я ничего не…
– Да… кажется, мы тоже будем воевать! Не уходи никуда, я приду!
Линия щелкнула и разъединилась. Таня присела на край дивана, держа в руке трубку и остановившимися глазами глядя в черную тарелку громкоговорителя. Голос продолжал говорить так же медленно и невыразительно, словно с трудом разбирая написанное:
– …ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии…
Когда на другой день Таня пришла в школу, невыспавшаяся и с красными глазами, – первым, что она увидела, был листок на доске объявлений в вестибюле, перед которым толпилась вся первая смена. Кто-то читал вслух, слегка заикаясь:
– …Барановичи и Снов, Н-на юге – в Западной Украине – ваши войска заняли города Ровно, Д-дубно, Збараж, Т-тарнополь и Каломыя. Наша авиация…
По коридорам гулко раскатился звонок, толпа стала редеть. Таня протискалась к доске. Простая вырезка из газеты, наспех наклеенная на двойной лист из тетрадки в клеточку. Крупный заголовок: "Оперативная сводка Генштаба РККА. 17 сентября". Оперативная сводка – так ведь говорится только во время войны?
Оставшись одна, она долго стояла перед черной доской в вестибюле, забыв о начавшемся уроке алгебры. Что же теперь будет? Сумеет ли приехать домой Дядясаша, или… И как вообще все это теперь получается: неужели мы будем теперь воевать вместе с Германией против Англии и Франции? Ведь они – союзники Польши… А мы – разве мы стали теперь союзниками фашистов? Да нет, этого и вообразить себе невозможно… просто нельзя было оставить на произвол судьбы украинцев и белорусов, в этом все и дело, конечно же!
5
Модель электровоза ЭДТС-Д-1 заняла на республиканском конкурсе третье место. Если учесть, что Сережка никогда раньше не занимался моделизмом, а в конкурсе участвовали наряду с ним такие светила этого дела, как сам знаменитый Виктор Харченко из Запорожья, третье место было очень хорошим результатом, и это окончательно примирило Сережку с провалом на экзаменах.
Неприятные стороны второгодничества обнаружились только первого сентября, когда он очутился в окружении сорока молокососов, которые еще недавно были восьмиклассниками, мелочью, а сейчас сравнялись с ним самым обидным образом. Лучший друг, Валька Стрелин, исчез в недосягаемых далях десятого класса, переменив к тому же и школу, и Сережка чувствовал себя как старый одинокий волк, попавший в щенячью стаю.
Соблюдая традицию, он поселился на последней парте крайнего ряда, вместе с единственным товарищем по несчастью – Сашкой Лихтенфельдом. Сашка был неплохим парнем, но каким-то легкомысленным, и Сережка никогда раньше с ним не сближался; теперь же он обрадовался, увидев Сашку, как можно только обрадоваться земляку на чужбине.
Скоро он убедился, что Сашкино легкомыслие приняло за это время опасные размеры. Уже в прошлом году Сашка вечно вертелся около девчонок и охотно провожал их домой – то одну, то другую, оказывая всем равное внимание и совершенно пренебрегая общественным мнением; а сейчас он, видно, и вовсе решил стать записным сердцеедом. В первый же день, на втором уроке, он за какие-нибудь десять минут дал Сережке подробную характеристику каждой из их новых одноклассниц. Вначале тот слушал просто от скуки – очень уж нудным был вводный урок математики, – а потом вдруг изумился:
– Тю, да откуда ты их всех знаешь? На переменке, что ли, перезнакомился?
– Чудак, я же знал, что не перейду, – мне класрук еще в конце третьей четверти сказал: "Ты, – говорит, – Лихтенфельд, на этот раз определенно будешь второгодником", – так я их заранее всех и изучил, ну просто чтобы знать. Так кто еще остается… ну, Ленка Удовиченко – вон, в голубом платье, – эта ни то ни се. Задаваться особенно не задается, и на том спасибо. Да! – кто задается, так это вон там, на третьей парте возле окна – видишь? Черненькая такая, с косами, а рядом с ней еще рыжеватая, растрепанная – галстук у ней набок съехал, видишь? Так вон та зверски задается, черненькая.
– А кто это такие? – спросил Сережка, глядя в затылок рыжеватой, растрепанной. Эти рыжеватые волосы ему определенно что-то напоминали. Вернее, кого-то. Что за черт, где он мог ее видеть… ну, разве что просто в прошлом году встречал на переменках, если она занималась в той же смене… да нет, с ней – с этими растрепанными косами – связано какое-то совсем особое воспоминание, и что-то неприятное…
– …неразлучные подруги, – увлеченно объяснял Лихтенфельд, – прямо неразлучные; их, говорят, водой не разольешь. Черненькая – это самая красивая в классе, такая Люська Земцева, страшная недотрога и вообще умнее всех. У нее мать – знаменитый физик, в нашем НИИ работает…
– Да? – заинтересовался Сережка.
– Гад буду. А другая, так это же племянница майора Николаева, про которого вот в газетах писали – ну, Герой Советского Союза…
– А-а, тот самый… слышь, Сашка, в ту зиму не он приезжал доклад делать на двадцать третье февраля?
– Точно, он и есть. Так вот эта Танька – его племянница, у него и живет…
Сережка усмехнулся:
– Елки-палки, какие всё знаменитости… ну, а она сама как?
– Да ничего, ребята говорят – не вредная…
В этот момент рыженькая повернулась к подруге, шепча что-то ей на ухо и давясь от смеха. Едва только Сережка увидел ее профиль с коротким носом и по-детски припухшими губами, как он сразу вспомнил, где и при каких обстоятельствах они встречались.
– Вот что-о-о, – прошептал он, ошеломленный своим открытием. – Так это, значит, она, зараза… Говоришь, не вредная? – ехидно спросил он у Лихтенфельда. – Знаешь, Сашка, ты уж лучше усохни с такой информацией! Тоже мне, "я их всех заранее изучил"… много ты ее изучил, эту Таньку!
…Случилось это весной, в самый разгар работы над злополучной моделью. Было уже поздно, и он сидел один в пустой ярко освещенной лаборатории, торопясь закончить обмотку статора, чтобы успеть сегодня же его прошеллачить и поставить на ночь в сушилку Внезапно дверь распахнулась с таким треском, будто в нее ударили сапогом, и в лабораторию ворвалась незнакомая долговязая девчонка, командным тоном потребовавшая "немедленно говорить с товарищем Попандопулом". Сережке надолго запомнился этот картавый, нездешний какой-то говорок.
За полчаса до этого он поругался со своей бригадой и сейчас был в самом собачьем настроении, со взвинченными от куренья нервами. При шумном появлении девчонки он вздрогнул и сбился со счета витков.
– На кой тебе с ним говорить? – грубо спросил он у посетительницы, подавив желание запустить в нее тяжелым статором.
Девчонка независимо прищурилась, морща короткий нос.
– Это мое дело!
– Ну и проваливай, раз твое. Я – помощник завлаба, понятно?
– А-а, помощник. – Посетительница сразу приняла мирный тон. – Ну, так бы и сказал! Хорошо, тогда я могу разговаривать с тобой. Дело в том, что мне нужно записаться в лабораторию… – Она осмотрелась и неуверенно спросила: – Это ведь энергетическая, правда? Турбины здесь строят?
– Турбины? – с удивлением переспросил Сережка. – А тебя что, турбины интересуют?
Он недоверчиво посмотрел на девчонку, ответившую на его вопрос энергичным кивком. Турбостроение считалось одной из самых трудных областей моделизма, оно требовало большого навыка и терпения; неужто эта курносая…
– Да ты сядь, – смягчился Сережка, – вон табуретка в углу. Бутыль составь на пол, только осторожнее – там кислота.
Турбостроительница притащила табурет и уселась напротив Сережки, сразу же завладев его карандашом и листом с расчетами статорных катушек. Тот не протестовал, решив, что она хочет набросать ему эскиз какой-нибудь новой конструкции, и даже со стыдом подумал о своем невежестве в вопросах турбинной техники.
– Ты понимаешь, – сказал он почти с уважением, – у нас сейчас из турбинистов нет никого, да и вообще здесь как-то по тепловым двигателям никто не работает. Все больше по электрике. А ты с турбинами давно дело имеешь?
– Нет, не очень, собственно совсем недавно, – затараторила девчонка, – но только они меня очень интересуют, правда! А вообще недавно. Позавчера я пошла к сапожнику забирать туфли, и он их завернул в газету, и я пока ждала автобуса – прочитала о турбине Капицы. Это чтобы получать жидкий – ну, как его… чем надувают стратостаты!
– Гелий, – подсказал Сережка.
– Угу, гелий. Я знала, только забыла. Ты читал про эту турбину?
– Ну, читал когда-то, – кивнул он, совершенно не понимая, какое отношение имеет турбина Капицы к их разговору.
– Страшно интересно, правда? Ну вот, я когда прочла, то мне тоже захотелось построить что-нибудь вроде этого…
Только тут Сережка заметил, что лист с расчетами украсился какой-то куклой с сердечком вместо рта и длинными загнутыми ресницами. Скрипнув зубами, он придвинул бумагу к себе и выдернул карандаш из девчонкиных пальцев, измазанных фиолетовыми чернилами.
– Так, значит, тебе тоже захотелось построить турбину для сжижения гелия? – спросил он со зловещим спокойствием, сразу все поняв.
– Угу. Ну, конечно, такую точно не удастся – это ведь, наверное, страшно трудно, правда? Там написано, что у Капицы зазор между кожухом и той штукой, что крутится, равен одной сотой миллиметра – так я ведь и не собираюсь получать жидкий гелий, правда?
Несколько секунд Сережка молчал, чувствуя, что внутри весь накаляется, как только что включенный триод.
– Это жалко, что ты не собираешься получать жидкий гелий, – процедил он наконец сквозь стиснутые зубы. – Тогда нет смысла строить и турбину, это для тебя слишком плевое дело. Если уж ты хочешь тянуться за Капицей, так у него есть вещи поинтереснее, чем какая-то затруханная турбинка…
– Ой, правда? А я и не знала. Ты мне расскажи, я страшно люблю про всякие машины. Что, например, у него еще есть?
Девчонка навалилась на стол, подперла кулачком щеку, приготовившись слушать, и улыбнулась Сережке. Эта-то улыбка его и взорвала.
– Например, циклотрон!! – бешено заорал он, уже не владея собой. – Для бомбардировки атомного ядра!! Начинай уж лучше строить себе циклотрон, псиша ты несчастная! А покамест катись отсюда к батьке лысому, и чтоб ноги твоей здесь больше не было!
– А ты, пожалуйста, не кричи на меня! – обиженно завопила турбостроительница, на всякий случай отъезжая от стола вместе со своим табуретом. – От психа слышу!
– А я тебе говорю – выкатывайся! Ходит тут, язва, людей от работы отрывает!
– Ах, какие красивые выраже-е-ения… – иронически протянула девчонка и упрямо тряхнула косами. – Не уйду! Я хочу говорить с Попандопулом!
– Если ты сейчас же отсюдова не ушьешься, – с тихой яростью прошипел Сережка, – то я тебе сейчас такого всыплю попандопула, что ты год будешь помнить…
Фанерная перегородка, разделявшая две лаборатории – энергетическую и авиамодельную, – не доходила даже до потолка. Как назло, в тот памятный вечер в авиамодельной тоже засиделось несколько энтузиастов, готовивших что-то к июльским состязаниям в Коктебеле. Когда девчонка, испугавшись Сережкиной угрозы, вскочила и с грохотом опрокинула табурет, в перегородку постучали молотком и ломающийся басок крикнул:
– Эй вы, энергетики! Нельзя ли не так энергично? Что вам здесь – Лига Наций, что ли?
– У них семейная сцена, – пояснил второй голос. – Энергию девать некуда…
Вмешательство авиации только подлило масла в огонь.
– Вас только тут и не хватало, коккинаки недоделанные! – заорал Сережка, обернувшись к перегородке. Турбостроительница, стоя посреди лаборатории, заразительно рассмеялась, закидывая голову; Сережка, приняв смех на свой счет, вылетел из-за стола с намеренней дать вредной девчонке по шее – будь что будет! – но ту как ветром сдуло, только мелькнули в двери рыжеватые косы и синяя плиссированная юбка.
Выждав за дверью несколько секунд, девчонка крикнула громким голосом:
– Жду на улице! – Это была обычная школьная формула вызова на драку. – Погоди, выйдешь только – я так тебя отделаю! – И вихрем понеслась по гулкому коридору, топая как жеребенок.
Ошеломленный неслыханной наглостью, Сережка стоял, буквально разинув рот. За перегородкой тихонько посмеивались, потом первый голос пробасил ободряюще:
– Слышь, энергетик… не дрейфь, мы тебя проводим!
Решив не связываться, Сережка мысленно послал в нехорошее место всех авиамоделистов, с особым чувством присовокупив к ним плиссированную турбостроительницу, и со вздохом уселся перематывать испорченную катушку…
Вся эта неприятная история вспомнилась ему сейчас, как только он увидел знакомый профиль. Так вот оно что… значит, это и была племянница знаменитого майора!
Сережка искренне пожалел беднягу, вынужденного постоянно терпеть такую язву у себя дома, а потом ему стало жаль самого себя. Мало того что второгодник, еще и сиди теперь в одном классе с этой… а все этот чертов грекос со своим конкурсом!
– О ком это ты размечтался? – шепнул Лихтенфельд, толкнув его локтем. – О Николаевой, да? А что такого ты про нее слышал? Не знаю, мне говорили, что она ничего…
Сережка посмотрел на него рассеянно и возмутился. В самом деле, какого черта он о ней думает? Нашел о ком думать – о какой-то язве-турбостроительнице! Да ну ее в болото, в самом деле. Не стоит она того, чтобы из-за нее расстраиваться. Подумаешь, велика беда – в одном классе! Не обязан же он здороваться с ней за ручку. Не будет ее замечать, и дело с концом. Просто постарается не сталкиваться…
Столкнуться им пришлось очень скоро.
На этот раз Сережкина судьба избрала своим орудием Сашку Лихтенфельда. Помимо легкомыслия Сашка обладал еще и тем недостатком, что всех вокруг себя считал такими же легкомысленными. Поведение Дежнева в тот день, когда он рассказал ему про Николаеву, заставило его заподозрить, что тут что-то неладно. Не были ли они знакомы раньше и уж не поссорились ли из-за какого-нибудь пустяка? А сердце у Сашки Лихтенфельда было доброе, и он очень любил мирить поссорившихся и вообще улаживать всякие недоразумения. Поразмыслив, он не нашел ничего лучшего, как подойти однажды на переменке к Земцевой, когда та была одна, и сообщить ей, что его друг Дежнев, физик и вообще замечательный парень, очень хочет познакомиться когда-нибудь с ее матерью.
Сам Сережка, естественно, ничего об этом не знал; однажды, на второй неделе после начала занятий, обе подружки подошли к нему во время большой переменки, и черненькая сказала с приветливой улыбкой:
– Слушай, Дежнев! Лихтенфельд мне говорил, что ты хочешь познакомиться с мамой?
Сережка опешил. Он никогда не высказывал Сашке подобного желания, и сейчас первой его реакцией было заподозрить в этом очередной подвох со стороны рыжей шалавы, которая стояла тут же с независимым видом, утрамбовывая песок носком туфли.
– Ничего подобного! – грубо отрезал он, едва не добавив: "На кой мне с ней знакомиться". Удержался он от этого не столько из вежливости, сколько из уважения к ученому званию Земцевой-старшей (наука была единственной областью человеческой деятельности, в которой он с натяжкой признавал женское равноправие). Увидев, что черненькая почувствовала себя неловко после такого ответа, он пробурчал:
– То есть, может, я и хотел бы с ней познакомиться, факт, но только Сашке я об этом не говорил. Прибредилось ему, что ли, заразе… А она ведь наверняка человек занятой – твоя мать?
– Да, маме вообще приходится работать очень много, – кивнула Земцева, – но если у тебя какой-нибудь важный вопрос, то ты всегда можешь зайти как-нибудь в выходной, утром. К маме часто приходят на консультацию.
– Да нет, ничего такого важного у меня нет… чего я буду человека от дела отрывать, – проворчал Сережка. – Если когда понадобится…
– Да, конечно, – приветливо сказала Земцева. – Если понадобится, то, пожалуйста, не стесняйся, мама будет рада…
В этот момент кто-то с крыльца заорал, что класрук девятого "А" ищет Людмилу Земцеву, и та убежала, на прощанье еще раз улыбнувшись Сережке. Он надеялся, что следом за ней уберется и рыжая шалава, – в мыслях он уже и не называл иначе Майорову племянницу, – но Николаева уставилась на него, морща нос и, видимо, что-то соображая.
– А я ведь тебя знаю! – заявила она таким довольным тоном, словно в этом заключалось невесть какое счастье. – Ведь это ты хотел меня тогда вздуть в энергетической, правда?
– До сих пор жалею, что не вздул, – мрачно ответил Сережка. – Ты как, турбину свою еще не построила?
Она засмеялась, и Сережка подумал с огорчением, что вот смех у нее хороший, не придерешься, – открытый и на редкость заразительный.
– Нет, что ты! Знаешь, я потом все думала: чего это он на меня вдруг так взъелся? Может быть, думаю, я какую-нибудь глупость ему сказала, потому что у меня это часто – возьмешь и скажешь, а потом сама и думаешь – ох и ду-ура! Правда. Ну вот, и я тогда спросила у Дядисаши – он тогда еще был дома, – можно ли самой построить в кружке такую турбину, как у Капицы, ну, может, чуть похуже…
– Что ж он тебе ответил, твой дядька? – иронически спросил Сережка.
– Не дядька, а Дядясаша. Он ответил, что это бред и что в моем возрасте можно бы таких вопросов не задавать. Правда, так и сказал!
– Это еще мягко сказано. Ему, верно, образование не позволило выразиться.
– …а мне в ДТС так понравилось, прямо ужас! – продолжала тарахтеть рыженькая шалава. – Всякие машины, так все интересно – ой, я страшно люблю машины! – и потом так приятно пахнет, каким-то лаком или эмалью, да? Ну вот, я тогда на другой день еще хотела пойти к самому Попандопулу, а потом испугалась – там, думаю, этот помощник, ну его, еще поймает и отлупит в самом деле, так я пошла к авиамоделистам. Помнишь, как ты их тогда назвал? Недоделанные коккинаки? – Она опять рассмеялась, закидывая голову. – Да, так вот – пришла я к этим коккинакам, и они меня тоже поперли. Ты представляешь, что они меня спросили? Считаешь, говорят, хорошо? А я говорю: что я, считать сюда пришла? Они сразу и поперли.
– Правильно сделали. Ну, я пошел.
– Погоди! – Рыженькая доверительно понизила голос. – Это правда, что про тебя рассказывает Лихтенфельд?
– А что он рассказывает? – насторожился Сережка.
– Он рассказывает, – таинственно зашептала она, – что ты нарочно остался на второй год, отказался держать экзамены. Говорит, завуч к тебе три раза на дом приезжал, уговаривал, и директор тоже.
– Ясно, факт, и завуч приезжал, и директор, и завгороно, и нарком просвещения. Интересно, с какой это радости Сашка так разбрехался, зараза, морду ему набить, что ли…
– Не нужно, он хороший. Правда! И еще знаешь, что он говорит? Он говорит, что самое главное – это почему ты отказался держать экзамены. Он говорит, что ты отказался потому, что строил рекордную модель паровоза…
– Электровоз я строил, – брюзгливо поморщился Сережка, – какой там паровоз… стал бы я возиться с паровиком.
– Ну, неважно, не все ли равно! Он говорит, что ты сознательно пожертвовал учебным годом, чтобы побить рекорд. Знаешь, Дежнев, по-моему, это героизм. Правда!
– Кой черт героизм, просто дурость, – возразил внутренне польщенный Сережка. – И потом, я ж тебе говорю, ни от каких экзаменов я не отказывался – кто бы мне позволил отказываться… и рекорда я никакого не побил, третье место взял.
– Ну-у-у, как жалко!
Она заглянула ему в лицо с искренне соболезнующим выражением, как смотрят на человека, наступившего на осколок бутылки или схлопотавшего "плохо" по математике. Сережку это немного обидело.
– Что ж, третье место – это не так уж и плохо, – буркнул он. – Конкурс-то был республиканский, это тебе не жук на палочке…
– Вообще да, – подхватила Николаева, – я как раз только что об этом подумала! Конечно, это совсем не плохой показатель. Ничего, следующий раз ты уж выйдешь на первое место.
– Вот разве что ты мне поможешь, – насмешливо кивнул он.
– Я с удовольствием, Дежнев, только я ничего не умею. Ты мне покажешь? – Простодушная шалава явно приняла это всерьез. – Послушай, а почему у тебя такая фамилия? Тот, который открыл что-то на Севере, – он не твой родственник?
– Елки-палки, так это двести лет назад было!
– Ну, мог быть предок, – высказала она предположение. – Только почему тогда тебя называют Дежнев? Географ говорил, что правильно говорить "мыс Дежнёва". Дежнёв! – это даже еще красивее, если ударение на последнем. Вообще мне нравится твоя фамилия. А моя – нет. Ох, ужас, терпеть ее не могу!
– Чего там, фамилия как фамилия…
– Да-а, знаешь сколько кругом этих Николаевых!
– Ну и что с того. Слышь, а ты там больше ни в каких кружках не работала?
– Нет. Хотя да – в одном! Когда меня выгнали от коккинаков, то я пошла и назло всем записалась в балетный…
– Во, самое для тебя занятие – дрыгать ногами. То-то, я вижу, они у тебя здорово длинные.
– Правда? – обрадовалась шалава, выставляя ножку. – А я из-за этого в лагере заняла первое место по прыжкам в длину. Я была на Кавминводах. А ты куда ездил?
– Никуда, тут был. С ребятами на Архиерейские пруды ходил купаться. Ну, я пошел – звонок.
– Ой, уже? Погоди, нам же вместе, вот чудак! Идем. Архиерейские пруды? – задумчиво переспросила она, шагая рядом с ним и подпрыгивая, чтобы попасть в ногу. – Я никогда не была. Где это? Хорошо там?
– Да это в Казенном лесу… ничего, купаться можно – есть места, где по шейку, а есть здорово глыбоко. Раков там мильон, я по полсотни каждый день домой приносил – весь двор ел.
– Раков я люблю, – вздохнула она, – только варить их мне жалко, я бы никогда не могла…
– Эх ты, – снисходительно покосился на нее Сережка. – Ты что ж, до сих пор там дрыгаешь?
– Где дрыгаю? А-а, в балетном… нет, что ты. Я тогда скоро ушла, надоело. Сейчас я думаю записаться в геологический.
– Знаешь, ты просто того. – Сережка выразительно постучал себя по лбу. – Я таких еще не видал, честное слово!
– Я тоже не встречала таких, как ты, – сказала Николаева, – только ты издеваешься, а я говорю серьезно. Слушай, Дежнев, ты хоть и собирался тогда меня вздуть, но это ничего, я тебе прощаю. Будем дружить, хорошо?
В эту минуту они подошли к самым дверям класса, и обычная давка разделила их, избавив Сережку от необходимости ответить.
Ошеломленный, он направился к парте и сел, ероша волосы. "Я тебе прощаю" – и таким это милостивым тоном, скажите на милость! И это после всего того! Он покраснел, вспомнив, как после злополучного происшествия в лаборатории по всей ДТС долго разгуливала сплетня, пущенная, очевидно, авиамоделистами: будто к Дежневу в энергетическую раз вечером пришла одна девчонка, устроила дикий скандал и наклепала ему по морде. А теперь – дружить она захотела, ах шалава…
Как ни странно, его отношение к Николаевой сильно изменилось после этого разговора. Казалось бы, никаких оснований к этому не было, потому что окружающих его людей он оценивал прежде всего по их уму, а уж как раз в этом она показала себя с самой неприглядной стороны, – шутка сказать, спутать электровоз с паровозом, это же нужно быть просто курицей – заявить такую вещь.
Нет, умом она определенно не блистала. Но было в ее манерах что-то настолько подкупающее, что Сережка, злясь на самого себя, стал находить все больше и больше удовольствия в разговорах с ней, всегда нетехнических и очень, в общем, бестолковых. О чем они болтали? Трудно даже сказать; болтала всегда она, рассказывая то прочитанную книгу, то приключившийся с ней случай – с ней вечно что-то случалось, – то фантазируя о будущем. Сережка больше молчал, посмеиваясь, и наблюдал за постоянной сменой выражений на ее потешной круглой рожице. Слушать ее было приятно, и еще приятнее было смотреть. Шалавой он про себя больше ее не называл.
А потом он увидел ее плачущей – на другой день после того, как было объявлено о вводе наших войск в Западную Украину и Белоруссию. В тот памятный понедельник Николаева, не постучав, вошла в класс после звонка, с припухшими красными глазами, – и даже свирепый математик, взглянув на нее, не сделал обычного замечания и молча уткнулся в журнал. С пол-урока она просидела за своей партой тихо и безучастно, – Сережка видел, как Земцева несколько раз принималась шептать ей что-то на ухо, поглаживая ее по руке, и математик снова сделал вид, что ничего не замечает, – а потом вдруг упала лицом в ладони и отчаянно разрыдалась на весь класс. Поднялся переполох, дежурный бегал за водой, девчонки требовали вызвать "скорую помощь". Впрочем, скоро ее успокоили.
Сережка смотрел на все это со своей "Камчатки" и испытывал странное чувство. С одной стороны, он ясно видел во всем этом лишнее проявление обычной девчачьей глупости, – мало ли что у нее дядька военный, никакой войны пока нет, и нечего заранее лить слезы, этак половина класса должна реветь в голос, – ведь в случав чего из каждой семьи кто-то уйдет на фронт. Так рассуждал его обычный трезвый мужской рассудок. А другая его часть – новая и мало еще знакомая, та самая, что в последнее время заставляла его тратить перемены на болтовню с не разбирающейся в технике девчонкой, – эта незнакомая еще часть Сережкиной души подсказывала ему, что сейчас нужно было бы не рассуждать, должна ли Николаева плакать или не должна, а просто подойти и утешить ее, чтобы она не плакала. Подойти, провести ладонью по пушистым каштановым волосам и сказать что-нибудь такое, от чего у нее сразу высохли бы слезы…
Разумеется, он не подошел и не положил руку ей на голову. Поймав себя на этом желании, он покраснел. Докатился, нечего сказать! Вот так и связывайся с девчонками – пропадешь, обабишься в два счета, и охнуть не успеешь…
6
Итак, новый учебный год начался для нее приобретением новых друзей. Прежде всего – Дежнев, приобретение самое ценное и самое интересное. Впрочем, о ценности его Таня пока не думала. Она думала лишь, что Дежнев очень симпатичный, что с ним почему-то весело – хотя сам он больше молчит, вот чудак! – и что с ним как-то особенно хорошо себя чувствуешь. Обо всем этом она думала довольно часто, чаще всего по вечерам, засыпая; может быть, даже чуточку чаще, чем следовало бы.
И еще один новый друг появился у Тани в девятом классе – Ира Лисиченко, или, как она ее называла, Аришка. Они были одноклассницы и в прошлом году, но как-то не интересовались друг другом. Таня знала только, что у Лисиченко чудесный голос, и немножко завидовала ей по этому поводу, а Ира знала, что у Николаевой какой-то знаменитый родственник и "посредственно" по поведению, но не завидовала ни тому, ни другому.
В начале этого года Лисиченко, услышав, что Таня купила по случаю юбилейное издание Пушкина, попросила одолжить ей на несколько дней том с черновиками и вариантами и сама зашла за книгой. Потом она пригласила Таню к себе. Тане у Лисиченок так понравилось, что она стала забегать к Аришке почти каждую неделю, иногда вместе с Людмилой. Скоро у них вошло в привычку готовить домашние задания втроем, а дальнейшему сближению способствовали и некоторые особые обстоятельства.
Две неделя спустя после Таниного дня рождения у нее случилось еще одно важное событие – переезд на новую квартиру. О новой квартире майор хлопотал уже давно; его все больше стесняла необходимость жить в одной комнате с племянницей, которая довольно быстро превращалась из ребенка в подростка и грозилась вообще превратиться во взрослую девушку. Он написал заявление с просьбой обменять его комнату на две "хотя бы меньших по суммарной площади" и стал регулярно, раз в месяц, наведываться в приемную начальника гарнизонной КЭЧ. То ли у него не хватало сноровки в этих делах, то ли действительно так трудно было удовлетворить его просьбу, но только ему всякий раз рассеянно-сочувствующим тоном говорили, что не он один в таком положении, и предлагали продолжать наведываться. Так и тянулось это дело почти год. А в последних числах сентября (трудно сказать, что тут помогло – счастливый случай или высокая награда) к Тане явился сияющий комендант и предложил немедленно перебираться этажом ниже, где только что освободилась двухкомнатная квартира одного многосемейного командира, переведенного в другой округ.
Отдельная квартира из двух комнат – это была действительно удача. К тому же она оказалась по соседству – на одной площадке, дверь в дверь с квартирой матери-командирши. Комнаты были хорошие, светлые, но отчаянно неуютные из-за разношерстной казенной мебели; Таня, которая привыкала к насиженному месту как кошка, чувствовала себя просто ужасно. Единственное, что ее радовало в новой квартире, была люстра – великолепная хрустальная люстра, которую прежние жильцы не взяли с собой, так как она тоже была казенной. Если сильно прищуриться и поводить головой из стороны в сторону, вокруг хрустальных подвесок начинали играть снопы разноцветных лучей. Но ведь не станешь целый вечер щуриться на люстру и вертеть головой! А все остальное вокруг было слишком непривычным и неуютным, включая и новую домработницу, которую Таня, откровенно говоря, просто боялась. Пожилая и, по-видимому, в чем-то обиженная жизнью особа, эта Марья Гавриловна с первого же дня повела себя так, как если бы Таня была ее личным врагом, виновником всех ее бед. Правильнее всего было бы ее уволить, но Таня не знала, как это делается; к тому же Люся, человек куда более опытный и рассудительный, говорила, что это вообще далеко не так просто.
Оставался единственный выход: не бывать дома в те часы, когда там хозяйничает Марья Гавриловна. Таня так и делала. Вернувшись из школы, она спешно и боязливо съедала свой обед (с тех пор как ушла Раечка, она вообще забыла, что значит вкусно поесть у себя дома) и убегала, сказав, что идет к подруге делать уроки.
До сих пор самым надежным убежищем от всех неприятностей была квартира Земцевых, но сейчас, как нарочно, и там все пошло вверх дном. К Галине Николаевне приехала погостить дальняя родственница из Ленинграда с тремя детьми противного дошкольного возраста, которые в первый же день уничтожили Людмилин гербарий и залили чернилами ее письменный столик. Не то что готовить уроки – просто посидеть и поболтать стало невозможно в чинной "профессорской" квартире, где теперь каждую минуту что-то рушилось и разбивалось.
Гонимые обстоятельствами, подруги начали все чаще появляться у Ариши Лисиченко. Принимали их всегда как своих. Они втроем готовили уроки, а потом просто болтали – о школьных делах, о фильмах, о прочитанных книгах.
Что особенно привлекало Таню в этом доме, так это та атмосфера семейственности, которой она сама была совершенно лишена и которая отсутствовала и у Земцевых. Это чувствовалось сразу, как только она попадала к Лисиченкам. У них было как-то особенно, по-домашнему уютно. Жили они тесно, в одной комнате, и у Аришки не было даже своего места для занятий; книги она держала на высокой бамбуковой этажерочке, затиснутой в угол за кроватью, а уроки готовила за обеденным столом, вместе о братом-третьеклассником. Была у нее еще и сестричка, чудесная толстая девчонка пяти с половиной лет, с которой Таня очень любила возиться. И все они ухитрялись жить в двадцатиметровой комнате на редкость мирно и не мешая друг другу.
Аришкина мама все время возилась тут же по хозяйству, но делала это совершенно бесшумно и тоже уютно, а когда по вечерам возвращался с работы Петр Гордеич (он работал на оптическом заводе, кем-то вроде мастера – Таня в этом не особенно разбиралась), то в комнате становилось еще веселее. Впрочем, Таня и Людмила после его прихода обычно исчезали. После восьми им можно было безбоязненно возвращаться по домам, так как Марья Гавриловна к этому времени уходила, а юные ленинградцы укладывались спать.
Тане становилось до слез грустно, когда, вернувшись от Аришки, она входила в свою необжитую квартиру и, видела эту гнусную канцелярскую мебель, на которой, казалось, не хватало лишь жестяных инвентарных номерков. Дело было, конечно, не в качестве мебели; Аришкина была ничуть не лучше, но там даже старая клеенка со стертыми от частого мытья узорами, даже треснувшая гнутая спинка венского стула, аккуратно обмотанная шпагатом, – там все это было обжитым, семейным…
Впрочем, Таня была слишком жизнерадостным существом, чтобы долго задерживаться на этих переживаниях. У Лисиченок, например, не было такой отличной хрустальной люстры. Она забиралась с ногами в уголок дивана и, морща нос, щурилась на люстру до тех пор, пока не начинали болеть глаза. Или просто сидела и думала о чем-нибудь приятном. Например – о Дежневе.
В этот вечер они засиделись с уроками дольше обычного. В половине восьмого пришел Петр Гордеич, поздоровался в своей обычно добродушно-хитроватой манере и отправился в сенцы – фыркать и стучать рукомойником.
– Люська, хватит тебе над нами издеваться, – решительно заявила Таня, принимаясь заталкивать в портфель книги. – Ты дождешься, что Полина Сергеевна не станет пускать нас на порог.
– Что ты, Танечка, – отозвалась Аришкина мама, – занимайтесь спокойно, кто вас гонит.
– А мы уже кончили, мамуля. Сейчас уберу это и накрою на стол. Девочки, оставайтесь обедать, а?
– Ой, нет, Ира, – сказала Людмила, – нам уже пора. Меня еще просили пораньше сегодня прийти, спроси вот у Татьяны…
– Правда, ее просили, – без энтузиазма подтвердила Таня. – Но я думаю, Люсенька, минут пять мы еще можем посидеть…
– Господи, вечно у вас какие-то дела, – сказала Аришка, убирая со стола тетради. – Все равно, Люда, ты уже опоздала – ну чего убегаешь?
В комнату вернулся Петр Гордеич, в расстегнутой рубахе и с мокрыми от умыванья волосами. Услышав последние слова дочери, он хитро посмотрел на вставших из-за стола подруг.
– То, дочка, ясное дело – чего они убегают, – сказал он сокрушенным тоном. – Оттого убегают, что у батьки твоего голова сивая. Полюша, а Полюша, – обернулся он к жене. – А расскажи ты им, чи бегали от меня девчата годков тому пятнадцать, га?
– Ладно тебе, расхвастался! – шутливо прикрикнула на него Полина Сергеевна. – Проси вон лучше, чтобы обедать оставались. Людочка, Таня, куда вам торопиться и в самом деле? Пообедали бы с нами хоть раз, я борщ какой сегодня сварила…
Таня нерешительно вздохнула, подумав о еде, ожидающей ее дома. Наверное, опять эти ужасные котлеты из рыбы. А разогревать их придется на примусе, и уж конечно примус окажется пустым и нужно будет самой наливать керосин из тяжелющего ржавого бидона. Конечно, если бы не Люся…
– Серьезно, Полина Сергеевна, – убеждающе начала та, – мы бы с большим удовольствием у вас пообедали и благодарим за приглашение, но сегодня как раз…
– Вот сегодня как раз вы и останетесь, – перебил ее Петр Гордеич, грозя пальцем, – бо когда старшие просят за стол, то молодым отнекиваться не положено. – Он устрашающе подмигнул и забрал оба портфеля. – А теперь, дочка, подай им чистый рушничок, нехай руки помоют и за стол…
Положительно эта семья обладала способностью помещаться на любом пространстве. Маленькая Галька умостилась на отцовских коленях, а все остальные отлично расселись за столом, где, казалось, и четверым будет тесно.
Напротив Тани сидел единственный из Лисиченок, не вызывающий в ней симпатии, – одиннадцатилетний Анатолий. Впрочем, даже соседство мальчишки не могло отравить ей удовольствие от домашнего борща. Она съела целую большую тарелку, с восхитительной горбушкой свежего ржаного хлеба.
За столом было тихо. Разговор начался позже, когда Полина Сергеевна подала чай – с леденцами, за неимением сахара. Петр Гордеич поинтересовался, отчего это девчата запоздали сегодня с уроками; узнав, что они полдня проспорили о выборе профессии, он сказал, что это штука важная, и попросил Таню высказаться на этот счет. Трудно сказать, почему его заинтересовало именно ее мнение.
Может быть, спор и не разгорелся бы снова, обратись он, скажем, к своей дочери; но он спросил Таню. Людмила при этом усмехнулась. Заметив усмешку, Таня тотчас же закусила удила. Это очень трудно выбрать, заявила она, потому что есть столько интересных профессий – и киноактрисой можно стать, и капитаном дальнего плавания, и полярником, и – ну, словом, кем хотите. Но только она твердо знает одно: что бы она ни выбрала, а уж во всяком случае не станет сидеть дома и воспитывать детей, как это считает правильным Люся. Потому что женщина, воспитывающая детей, – это самая настоящая мещанка…
Тут ей пришлось прервать поток своего красноречия, потому что Людмила лягнула ее под столом, и очень больно, по щиколотке. Смысл этого пинка Таня поняла секундой позже, когда Петр Гордеич сокрушенно покачал головой и, обратившись к жене, выразил сожаление, что им в свое время не пришлось слышать таких умных речей – тогда бы они сдали детей в детдом и Полина Сергеевна не прожила бы жизнь мещанкой. Все засмеялись – кроме Тани, которая покраснела как кумач. Как же тогда, спросил ее Петр Гордеич, нужно назвать воспитательниц в детских садах и в школах? Таня заявила, что это совсем другое дело – воспитывать детский коллектив; это уже общественно полезная деятельность.
– Ох, Танечка, – засмеялась Полина Сергеевна, – какая своего не воспитает, где уж той с коллективом справиться!
Таня долго еще горячилась и изворачивалась, пока Петр Гордеич не добил ее несколькими поставленными в лоб вопросами: согласна ли она с тем, что семья является первичной ячейкой общества? сможет ли существовать общество, если не будет семьи, и существовать семья, если мать не будет воспитывать своего ребенка?..
Шел дождь, когда они ушли наконец от Лисиченок. Как обычно после спора, Таня очень жалела теперь о многом из сказанного.
– А сегодня было очень интересно, – вкрадчиво заявила она, отшагав в молчании с полквартала. – Правда, Люся?
– Очень. Еще бы! Особенно интересно было Полине Сергеевне услышать, как ты назвала ее мещанкой. Татьяна, ты собираешься умнеть, в конце-то концов?
– Господи, конечно собираюсь! Что я, виновата, если у меня не получается?
– Нет, в этом виновата я, – язвительно сказала Людмила. – Или кошка из раздевалки. Уж она-то определенно.
– Никакая не кошка! А условия! Что я, виновата, если у меня никого нет? Будь у меня такая семья, как у Аришки, наверно, я не говорила бы никаких глупостей! А то один Дядясаша, и тот… и тот куда-то… – Голос ее задрожал, и она вдруг отчаянно расплакалась, прислонившись к забору.
– Вот несчастье, – вздохнула Люся, – что мне с тобой делать, просто не знаю. Ну, хватит. Слышишь, успокойся и идем. Смешно плакать на улице, кто-нибудь будет проходить мимо…
– Пожалуйста, – сквозь слезы отозвалась Таня, – можешь идти… если тебе смешно… я уже давно вижу… что никому не нужна!
– Ты просто ненормальная, – спокойно сказала Людмила, отобрав у нее портфель. – Вот, а теперь реви и утирай слезы обоими кулаками, как мой ленинградский племянничек. Тебя просто нужно под холодный душ или вздуть хорошенько. С истеричками так и делают. Почему ты сегодня врала, будто собираешься поступать в комсомол?
Таня уставилась на нее, судорожно всхлипывая:
– Ты… ты прекрасно знаешь, что я собираюсь!
– Кому ты там нужна, комсомол не для истеричек. А кто летом говорил, что хотел бы поехать в Германию на подпольную работу?
– Ну так что ж…
– А то, что ты вдобавок ко всему еще и притвора! Изображаешь из себя какую-то героиню, а потом закатываешь истерики из-за плохого настроения…
Шел дождь. Таня в темноте всхлипывала все реже и реже. Люся терпеливо стояла рядом.
– Ну, ты уже успокоилась?
– Немножко…
– Тогда бери свой портфель и идем. Он мне уже руку оттянул, можно подумать, что у тебя тут кирпичи…
Таня утерла слезы, послушно взяла книги и поплелась за Люсей.
– Идем скорее, уже поздно, – сказала та. – Хочешь, я буду у тебя сегодня ночевать?
– Угу…
– Господи, каким жалким голосом это говорится. Ноги не промочила?
– Нет, Люсенька…
– Только не ступай в лужи, а то промочишь. Сейчас сядем в трамвай. Ты только напомни мне, как только приедем – нужно позвонить домой.
– Хорошо, Люсенька… а твоя мама не будет сердиться?
– Мама? Не все ли ей равно, где я ночую. Я позвоню тете Наташе, чтобы не ждала меня ужинать…
7
Сегодня все не ладилось о самого утра. Будильник опять не зазвонил, и он опоздал на десять минут – едва пустили в класс. А на последнем уроке обнаружилось, что второпях забыл дома папку с чертежами, а срок сдачи – как назло – именно сегодня. И вредная же личность этот чертежник: говоришь человеку, как было дело, а он не верит!
Вернулся домой – опять сплошные неприятности. Мать ушла в очередь за керосином, обеда нет, в комнате не убрано. Странное дело с этой матерью – когда дома, то вроде ее и не замечаешь, а уйдет на полдня, и сразу все в доме вверх ногами…
– Что ж ты, Зинка, – проворчал он, вешая кепку на гвоздь возле двери, – расселась тут, как барыня, со своими тетрадками, а со стола не убрано, пол не подметен…
– Да-а, а если у меня уроки!
– Уроков тех… буковки всё рисуешь.
– Ты небось тоже рисовал, когда был во втором классе! – резонно заметила сестренка.
С ней тоже лучше не связываться – не переспоришь. Помолчав, Сережка отошел к стоявшему в углу рукомойнику и с сердцем поддал кверху медный стерженек. Пусто, чтоб те провалиться. И главное, руки уже намылил!
– Сережка, воды нет, – заявила Зина, не поднимая носа от тетрадки. – Я все в чайник вылила.
Пришлось брать ведра, коромысло, идти за водой – к колонке за полтора квартала. Вернувшись, Сережка принялся хозяйничать. Перемыл картошку, поставил ее вариться в мундире, грязную посуду со стола составил на кухонный шкафчик, замел пол, подтянул гирьку ходиков. Хорошо еще, что комната маленькая – тут тебе и столовая, и кухня, и спальня материна с Зинкой. А если б три таких убирать, ну их к лешему…
Потом он вспомнил, что мать утром просила наколоть щепок для растопки. Эта работа была приятной. Он пошел в сарайчик, выкатил к порогу изрубленный тяжелый чурбан, накидал рядом поленьев попрямее. В сарайчике приятно пахло пылью, углем, сухими дровами и – сильно и терпко – опавшими листьями каштана, которых ветром намело целый ворох под дверь, через кошачий лаз. Топор был хорошо наточен, сухие поленца раскалывались с одного удара, со щелкающим звоном, взблескивая на солнце белизной древесины.
Сложив наколотые щепки в ящик, Сережка всадил топор в плаху и задумался, сидя на порожке и вороша рукой сухие листья. Уже несколько дней ему никак не удавалось поговорить с Николаевой, – она все переменки проводила либо с Земцевой, либо со своей новой приятельницей, беленькой Иркой Лисиченко, и он не решался подойти. Подойдешь, а те потом станут смеяться…
То ли поэтому, то ли по какой другой причине, но эти последние дни у него было какое-то странное состояние. Все вокруг казалось не таким, каким должно быть; не то чтобы это раздражало, скорее от этого становилось как-то грустно – как будто чего-то хочется и в то же время не хочется ничего. Просто сидеть вот так, с закрытыми глазами, чувствовать терпкий и нежный запах осени и слабое – совсем уже не греющее – октябрьское солнце; и в то же время моментами его охватывало вдруг необыкновенно острое предчувствие чего-то огромного, невиданно яркого и счастливого, что должно случиться не сегодня завтра. Это было всегда как вспышка – ослепительная и короткая. Потом снова наступало странное выжидающее оцепенение.
Насколько все это было связано с Николаевой, он не знал.
Если бы ему сказали сейчас, что он все время думает о своей рыженькой однокласснице, он изумился бы совершенно искренне. Действительно, это было не совсем так: не то чтобы он о ней думал, он просто все время находился в ее присутствии. И когда он сидел в классе, а Николаева изнывала у доски, вся красная и растрепанная, с отчаянием в глазах и измазанная мелом до самого носа; и когда брел из школы – с папироской в зубах, размахивая портфелем и расшвыривая ногами вороха листьев; и когда сидел у себя в комнатке над какой-нибудь популярной книгой по электротехнике. Он мог думать о чем угодно и делать что угодно – Николаева все равно оставалась тут же, рядом. Это было удивительно.
Вот и сейчас он ясно ощущал ее присутствие. Настолько ясно, что, наверно, не поразился бы, если бы она появилась тут и уселась рядышком на пороге… а как было бы здорово, случись это и в самом деле! Представить себе только – побыть с ней хотя бы несколько минут вот так, совсем вдвоем. На переменках что ж – это совсем не то… Кругом шум, крик, поговорить по-настоящему и то не успеешь. Интересно, что чувствуешь, когда остаешься с девушкой совсем вдвоем?
А на следующий день – он и сам не понял, как это получилось, – они договорились идти вместе в кино. Не то чтобы он ее пригласил, на это он, пожалуй бы, не отважился, а просто так вышло; на большой переменке заговорили что-то о фильмах, и Николаева сказала, что страшно любит ходить в кино, но что Люся ходит только на хорошие, а одной ходить неинтересно; потом оказалось, что в "Серпе и молоте" идет "Если завтра война" – старый фильм, который они оба видели уже по три раза и были не прочь увидеть еще. Короче говоря, как бы там ни было, а Сережка назначил первое в своей жизни свидание: в половине восьмого на площади Урицкого, возле магазина "Динамо".
Ровно в назначенный час он подходил к площади, замирая от мысли, что Николаева может не прийти – погода к вечеру испортилась, моросил дождик. Но тревога оказалась напрасной. Еще издали он увидел у освещенной витрины знакомое пальтишко с поясом я сдвинутый набекрень белый беретик. Николаева, видно, и сама беспокоилась: вставала на цыпочки, с озабоченным видом вытягивала шею, обводя взглядом толпу. Увидев его, она просияла и замахала рукой.
Когда они вошли в фойе, кругленький человечек в смокинге пел на эстраде, бодро притопывая лакированной туфлей:
…На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки,
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки…
Сережке стало смешно. Сев рядом с Николаевой, он нагнулся к ее уху.
– Скажи – ему только клинка и не хватает, а? – шепнул он. – Лихой был бы рубака, почище Котовского…
Николаева громко прыснула, словно весь день с нетерпением ждала случая посмеяться. Им тут же сделали замечание.
Потом саксофоны затянули что-то очень вкрадчивое – Николаева рядом вздохнула и завозилась в своем кресле. Человечек пел теперь о любви, о золотой тайге, о том, что "коль жить да любить – все печали растают, как тают весною снега". Как просто, насмешливо подумал Сережка, выходит – полюби только, и дело с концом, сразу тебе никаких печалей!
Впрочем, скоро красивая и немного грустная мелодия примирила его с глупыми словами. Музыку он очень любил. А последний куплет понравился Сережке и своим содержанием. Певец исполнил его с особым чувством:
Так пусть же тебя обойдет стороною,
Минует любая гроза -
За то, что нигде не дают мне покою
Твои голубые глаза…
На этот раз хлопали долго и от души. Николаева отбила себе ладошки, хлопал и он сам. Странно, как иногда чьи-то чужие стихи могут так точно выразить твои собственные мысли!
В последнее время ему все чаще приходило в голову, как, в сущности, хорошо, что у Николаевой такой знаменитый дядька, что ей никогда не придется жить в тесной комнатушке, бегать за водой и по очередям… Ему было приятно, что она так хорошо одета, что пальто ее сшито из дорогого материала, что она не рискует промочить ноги в своих новых закрытых туфельках добротной светло-коричневой кожи, на толстой "американской" подошве. Если у него самого нету галош, а старые футбольные бутсы – единственная его пара обуви – доживают последние месяцы, то на это все можно запросто наплевать. Он-то не растает, не сахарный. А вот она… как это пел тот тип – "так пусть же тебя обойдет стороною…"
Сережке вспомнилась вдруг призма, которую Архимед приносил в класс для занятий по спектральному разложению света, – сверкающий, отшлифованный с непостижимой точностью кристалл оптического стекла; Архимед дышать на нее не позволял – не то что хватать руками – и успокаивался только тогда, когда призма укладывалась в бархатное гнездо своего футляра. Факт, нельзя же обращаться с такой вещью как со слесарным молотком…
Он покосился на Николаеву – та, приоткрыв губы, слушала певца, который обращался теперь к какой-то "лучшей из женщин", называя ее своей звездой. Призма, именно призма – такая же чистая и ясная, без единого мутного пятнышка… Он заметил вдруг, какие у нее ресницы – длинные и загнутые вверх. Совсем как на том рисунке, которым она тогда так бесцеремонно украсила его лист с расчетами статорной обмотки двигателя. Нужно будет обязательно разыскать этот лист, обязательно. Он должен быть в папке со всеми чертежами и расчетами электровоза. А вдруг он его выбросил – или порвал сдуру? Он ведь тогда зверски на нее разозлился. И чего, спрашивается? Что такого она сделала? Ну, просто проявила некоторую техническую неграмотность… а он, вместо того чтобы по-хорошему разъяснить ее ошибку, разорался как псих, выгнал, грозил побить… Это ее-то, ее! Ох и гад. Но неужели не сохранился тот лист? Нестерпимое волнение охватило Сережку при мысли, что драгоценный рисунок мог пропасть…
Душевное равновесие он обрел только в зрительном зале, увлеченный знакомыми, но волнующими кадрами. Была захвачена ими и Николаева: когда на экране гибли в неравном бою пограничники, она поскрипывала креслом и сморкалась тихо, но с отчаянием. Слева от Сережки все время белел в темноте ее платочек.
Потом она успокоилась и затихла – все было хорошо: страна, оправившись от предательского нападения, вставала для сокрушающего ответного удара, население проявляло стопроцентный энтузиазм, мчались к границе эшелоны, с подземных аэродромов стартовали воздушные армады. Понятно, на войне не без жертв – один тяжелый бомбардировщик был подбит вражеской зениткой и загорелся. Кабина запрокинулась, заволоклась дымом; командир корабля, не вставая из-за штурвала, мужественным голосом диктовал радисту последнее сообщение на землю; Николаева громко всхлипнула, и горячие влажные пальчики судорожно уцепились в темноте за Сережкину руку, – он замер и перестал видеть экран. Впрочем, теперь уже ничто не могло спасти агрессора. Тяжело зарываясь в волны, шли к вражеским берегам ощетинившиеся орудиями тысячетонные утюги линкоров; уставя штыки, бежала пехота; танковые лавы стремительно разливались по земле врага; с экрана гремела и ширилась торжествующая мелодия известной всему Союзу песни. Николаева счастливо вздыхала, и глаза ее в полумраке влажно поблескивали отсветами ослепительной победы.
– Хорошо, правда? – спросила она, останавливаясь в подъезде кинотеатра. – Погоди-ка, я застегнусь. Брр, как холодно!
Таня обмотала вокруг горла белый пуховый шарфик и, потуже затянув пояс, зябко сунула руки в карманы пальто.
– А дождь кончился, смотри, я и не заметила… страшно рада, что им надавали по шее, – задумчиво говорила она, шагая в ногу с Сережкой (он немного укорачивал шаги) и щурясь на огни, отраженные в мокром асфальте. – Послушай, Дежнев, а кто это были все-таки? Ты заметил, какие у них знаки на касках? – совсем как фашистский знак, только с тремя хвостиками…
– Ну, немцев изображали, факт, только нельзя же так открыто. Если прямо показать, как колотят немцев, – это же будет дипломатический инцидент. Да и потом, сейчас такой фильм просто бы запретили, как "Александра Невского"…
– А разве "Александр Невский" запрещен?
– Ну, там запрещен или нет, а только его не показывают. Ни одной антифашистской картины не показывают – ни "Семью Оппенгейм", ни "Болотных солдат", ни эту, как ее – про врача… а, "Профессор Мамлок"…
Некоторое время шли молча, потом Таня сказала:
– "Семья Оппенгейм" – очень интересный фильм, правда? Там этот Бертольд – такой симпатичный… я так ревела!
– Ну еще бы, чтоб ты да не ревела…
– Нет, серьезно, его так жалко. У, эти фашисты! Ты читал "Неизвестный товарищ" – кажется, Вилли Бределя? Я читала. Ты знаешь, я прямо читать не могла… какие ужасы эти штурмовики выделывают с заключенными! Как это можно? Я просто не понимаю, как могут быть такие люди…
– Люди бывают разные, – коротко ответил Сережка. – Ты не очень торопишься?
– Нет, что ты! Давай походим, мне сейчас уже не холодно, а потом ты меня проводишь. А в другой раз я тебя провожу – мы с Люсей всегда так делаем, по очереди.
– Придумала, – усмехнулся Сережка. – Только тебе и не хватало ночью по нашим местам ходить… у нас там знаешь сколько шпаны!
– Ах, подумаешь, испугалась я твоей шпаны. Что они мне сделают? Ты вот спроси у Тольки Гнатюка, как я его поколотила в прошлом году. Знаешь, он такой противный, все меня за косы дергал и дергал, я ему сколько раз говорила – ну Толька, ну оставь, а он ничего, как мимо проходит, так непременно дернет. Так мне надоело, и он один раз дернул, а я ка-ак дам ему в ухо – он только глазами захлопал, такой дурак! Правда.
Сережка громко расхохотался:
– Так прямо и заехала в ухо?
– Честное слово, заехала! И знаешь – это было на большой переменке, в нижнем коридоре – прямо напротив двери в учительскую – и как раз в ту самую секундочку, когда я ему заехала, – открывается дверь, и оттуда, как назло, завуч, Нина Васильевна – она была в прошлом году наш класрук – и еще какой-то из гороно! Ты представляешь? Вот мне влетело – уж-жас! Мне ведь из-за этого и сбавили четвертную по поведению…
Когда они проходили мимо подъезда обкома, Таня сказала:
– А вот тут я живу, вон напротив кирпичный дом, видишь? На третьем этаже четыре окна темные, это мои. Зайдем потом ко мне, хорошо? Хотя, знаешь, лучше пока не надо, лучше ты придешь потом, когда у меня все будет в порядке. Я сейчас устраиваюсь.
– Как так – устраиваешься?
– Ну понимаешь, нам дали другую квартиру – раньше мы жили на четвертом этаже, там была только одна комната – и я когда перебралась, мне так все противно стало, прямо не знаю. У нас ведь мебель казенная, какая-то такая безобразная, прямо ужас. В той квартире я как-то не замечала, правда, наверно, просто привыкла. А здесь прямо видеть этого не могла. Так я знаешь что придумала? Пошла к коменданту и сказала, не может ли он достать мне какую-то другую мебель – ну, может, купить где-нибудь, что ли, мебель, и потом что-нибудь, чтобы арку завесить. Там у нас две комнаты, а посредине двери нет, а такая арка – широ-окая! Так он мне сказал, что, может быть, сумеет достать из одного клуба часть занавеса. Со сцены, понимаешь. Там он немножко обгорел, и его списали, а остаток можно купить. Говорит, что как раз хватит на портьеру и еще на окна, сделать шторы. Красиво будет, правда? Темно-синий бархат.
– Красиво, факт. А сколько он за него хочет?
– Не знаю, – беззаботно ответила Таня. – Я даже не спросила, у меня ведь все равно нет денег. Дядясаша высылает матери-командирше, та дает домработнице, ну и мне иногда – на всякие мелочи. А у меня у самой ничего нет.
– Так как же ты хочешь покупать мебель и этот занавес, елки-палки!
– А он сказал, что это ничего. Сказал, что он мне все достанет, а когда Дядясаша приедет, он сам с ним это уладит.
– Он уладит, – зловеще сказал Сережка, – еще бы. Так уладит, что дядька твой за волосы ухватится! Послушай друга, Николаева, брось ты это, пока не поздно, – я этих управдомов знаю, они подметки на ходу рвут…
Таня растерянно захлопала глазами.
– Так это же не управдом, Дежнев, – робко сказала она. – Это комендант, от гарнизонной хозчасти…
– Все они хороши! Смотри, Николаева, влипнешь ты с этим делом.
– Но послушай, не могу же я жить в такой обстановке!
Сережка замолчал.
– Да, это верно… а что он – достал уже тебе что-нибудь?
– Да, конечно. Он уже привез стол, такой овальный, и потом буфет – очень красивый, резной, и еще фонарь.
– Какой еще фонарь?
– Ну, мне в комнату. У нас в первой комнате люстра, очень красивая, а у меня просто лампочка на шнуре, и он где-то достал фонарь – такой готический, с голубыми стеклами, на цепочках. Знаешь, какой свет теперь приятный – как будто в лунную ночь!
– Ишь ты, елки-палки. Ну что ж, валяй, Николаева. Если дядька тебе за это дело бубны не выбьет, то конечно…
– Ну, что ты! – Таня весело рассмеялась. – Что ты, никогда в жизни! И потом, знаешь, я ему купила такой столик, для шахмат. Это тоже комендант достал. Такой на одной ножке, полированной карельской березы. Дядясаша очень любит играть в шахматы. А ты любишь, Дежнев?
– Люблю.
– Я тоже, только с Дядесашей играть неинтересно, он мне всегда ставит мат в четыре хода. Сыграем как-нибудь, правда?
– Ага, сыграем…
Они прошли по всему бульвару Котовского, до памятника знаменитому комбригу. Таня спросила, нравится ли ему "Дума про Опанаса" и какое именно место; Сережка сказал, что больше всего нравится описание боя и перед этим – от слов "Где широкая дорога, вольный плес днестровский". Они поговорили о гражданской войне, Таня выразила сожаление, что время теперь очень неинтересное – никакого героизма, ничего; потом она сказала, что очень хотела бы поехать в Германию на подпольную работу – когда подрастет, конечно, – но что ей очень страшно попасть в гестапо.
Сережка сказал, что теперь-то он понимает, почему это немцы так запаздывают с революцией: оказывается, там не хватает именно ее – иначе дело было бы уже в шляпе. Таня обиделась и объявила, что он может смеяться сколько влезет, а про нее, Николаеву, еще услышат. Сережка очень растерялся. "Так ведь я это не всерьез, – пробормотал он, – ну чего ты, в самом деле…" Мир был восстановлен.
Таня рассказала, что недавно они с Люсей спорили у Аришки Лисиченко о том, мещанство или не мещанство для женщины сидеть дома и воспитывать детей, и спросила его мнение на этот счет. Сережка сознался, что никогда не думал об этом и что вроде бы это и мещанство, но, с другой стороны, нужно же кому-то их воспитывать – иначе будет шпана, а не дети. "А тебя строго воспитывали?" – спросила Таня. Сережка сказал, что еще как. Когда был дома отец – потом он их бросил, уехал на Дальний Восток, – то ему доставалось ремнем чуть не каждый день, вообще-то за дело. Ну и потом от мамаши тоже, но уже не так – мамаша у него добрая.
"Ты вот к нам как-нибудь зайдешь, познакомишься, ладно?" – сказал он. Таня сказала, что придет с удовольствием и что ей тоже очень хочется, чтобы он скорее познакомился с Дядесашей.
Они брели по уже совершенно безлюдному бульвару и говорили, и говорили, и говорили. Стало еще холоднее, в разрывах туч – над голыми ветвями каштанов – едва угадывались мелкие осенние звезды, тусклые, словно съежившиеся от холода. Когда они дошли до здания обкома, светящийся циферблат над подъездом показывал без десяти час.
8
Осень была затяжной, слякотной. Целыми днями падал мелкий тоскливый дождь, все выцвело, уже не верилось, что в природе существуют какие-нибудь другие краски, кроме грязно-ржавой и серой всех оттенков.
Обычно такая погода наводила на Сережку смертную тоску: он любил солнце, огненный летний зной, а если уж мороз, то градусов на двадцать пять, чтобы в носу крутило. Но памятная осень тридцать девятого года стала для него особенной, неповторимой и не похожей ни на что пережитое им до или после.
Невидимое солнце, которое он теперь носил в себе, озаряло и согревало для него пасмурные дни того на всю жизнь запомнившегося холодного ноября. Еще никогда не чувствовал он в себе такого огромного запаса бодрости, такой кипящей энергии – и такой ясности ума, такой сосредоточенной воли, чтобы направлять этот поток по нужному руслу. Все стало легким, понятным, достижимым – стоит лишь протянуть руку.
Учился он теперь, как тренированный гимнаст исполняет хорошо отработанные упражнения – легко и свободно, с особой щегольской четкостью. Ему доставляло удовольствие, выйдя к доске, быстро и ясно доказать сложную теорему, сделать аккуратный чертеж – чтобы, небрежно бросив мелок и обернувшись лицом к классу, на секунду перехватить взгляд золотистых глаз с третьей парты возле окна, увидеть в них откровенное восхищение.
По существу, уже не было ни одного дела, приступая к которому он не подумал бы – как отнесется к этому она. С радостью думал он о предстоящем открытии сезона на катке "Динамо", потому что заранее знал, что сумеет блеснуть перед нею и в этом, – он пользовался заслуженной славой хорошего конькобежца, и его длинные никелированные "нурмисы" (предмет зависти всего квартала) были призом одного выигранного состязания. Узнав, что ее любимыми предметами являются история и литература, он взялся за них так же, как в прошлом году за физику и математику; скоро и историк Халдей, а преподаватель литературы Сергей Митрофанович – единственный, пожалуй, оставшийся почему-то без прозвища, – стали приятно разочаровываться при каждом его вызове.
"Молодец, – сказал однажды Сергей Митрофанович, с особым удовольствием вписывая ему в дневник жирное "отл", – эх, Дежнев, Дежнев, если бы ты знал, как нам помогает в жизни литература, – ты бы не потерял того, что уже потеряно. А впрочем, если всерьез взяться за ум, то наверстать никогда не поздно…"
Вспоминая, он так и не мог установить – когда, в какой именно момент это началось. Может быть, даже там, в тот весенний вечер в лаборатории? Или когда их вторично познакомил Сашка Лихтенфельд? Или когда они в первый раз пошли вместе в кино? Хотя нет, он ведь и пригласил ее потому, что уже было э т о.
Но зато ему хорошо запомнился день, когда он почувствовал вдруг всю силу э т о г о , когда он впервые понял – до чего может э т о довести человека. На ноябрьской демонстрации он познакомил ее с Валькой Стрелиным и его приятельницей, и они провели день вчетвером. Сначала он был очень доволен тем, что Лариса не выдерживает никакого сравнения с Николаевой, – недаром же Валькина подруга так здорово разбирается в электронике, – видно, девчатам это даром не проходит! – но потом стал замечать, что Николаева что-то слишком внимательно посматривает на Вальку и слишком охотно смеется, закидывая голову, в ответ на каждую его шутку. Конечно, Валька в тот день был в особенном ударе – красивый, широкоплечий, в модном джемпере с оленями на груди, он мог произвести впечатление на любую девушку; но Сережке-то вовсе не хотелось, чтобы этой девушкой оказалась Николаева!
Вечером, молчаливый более обычного, он проводил ее на Пушкинскую, где жила Земцева, коротко отказался от переданного приглашения и вернулся домой туча тучей. Николай ушел с матерью в заводской клуб; Сережка заперся в своей комнатке, достал из стола бритвенное зеркальце – бриться он начал уже полгода назад, по субботам, – посмотрелся в него с отвращением и бросился на койку не раздеваясь. Конечно, непонятно, чем он сам мог бы понравиться такой девушке, как Николаева. Плечи у него довольно узкие – только и радости, что рост длинный, – лицо малоприятное, худющее и черное, как у цыгана. А волосы совсем неопределенного цвета – то ли черные, то ли коричневые – и такие жесткие, что никаким чертом их не причешешь и не пригладишь…
На другой день он немного успокоился и решил даже, что все это ему просто показалось, – Николаева вообще веселая и любопытная, почему бы ей и не смотреть на нового знакомого и не смеяться! Лучше, что ли, как эта Лариса – за весь день ни разу не улыбнулась. Но когда девятого он пришел в школу и на большой переменке спросил у Николаевой, как ей понравился Валька Стрелин, то сразу понял, что дело плохо. Таня и не думала ничего отрицать: очень понравился, еще бы, сказала она с жаром, он страшно симпатичный и такой умный, начитанный! Это уж было просто бесстыдство – заявить ему в лицо такую вещь.
Два дня он был буквально болен. Страшная вещь – ревновать девушку к своему лучшему другу! А на третий день к нему прибежал Валька с таким встрепанным видом, что можно было вообразить себе невесть что; оказалось, что Валькиного отца посылают директором школы в Западную Украину. И Вальке теперь неясно – как быть: то ли ехать с предком, то ли остаться и получить аттестат здесь. С одной стороны, интересно поехать, колоссальная ведь штука, но с другой – вроде и глупо прерывать занятия в последнем классе. Сережка сказал, что он лично поехал бы не задумываясь. Потерять месяц на переезд ничем не грозит, тем более что это может быть зачтено ему на новом месте, наверняка дадут какую-нибудь поблажку при экзаменах. А вообще такому почти отличнику, как Валька, пожалуй, никакой поблажки и не потребуется – сам все догонит. "Вот и я так думаю", – задумчиво сказал Валька.
Так и кончилось это дело. Через неделю Валька уехал, и, когда он сказал об этом Николаевой, та похлопала глазами, сказала, что это, должно быть, страшно интересно – побывать в освобожденных областях, и тут же принялась рассказывать о каких-то открытках с видами Львова, которые прислал одной капитанше ее муж. Потом она рассказала еще про какую-то командирскую жену, получившую оттуда же посылку – двенадцать пар туфель, – и горячо заявила, что это позор, что таких людей нужно лишать звания, это просто какое-то мародерство, что потом будут о нас думать те же поляки!
– Ну прислал бы одну пару, ну две, – сказала она возмущенно, – а то двенадцать! Прямо думать о таких противно. Так, значит, Стрелин уехал… а почему же ты ничего мне не сказал? Мы бы его проводили вместе!
– Конечно, – не выдержал Сережка, – тебе хотелось бы повидать его еще раз, факт! Еще бы, он ведь такой умный и начитанный!
Таня посмотрела на него изумленно, потом покраснела и прикусила губу.
– Ты с ума сошел, – быстро сказала она, – неужели ты мог подумать, что… как тебе не стыдно!
– Это тебе должно было быть стыдно, не мне!
– Значит, если мы с тобой дружим, то я ни на кого не могу смотреть, да?
– Можешь смотреть на кого хочешь, меня это не касается!
– Ну и пожалуйста, – сказала Таня дрогнувшим голосом и пошла прочь.
Полминуты Сережка выдерживал характер, потом махнул рукой, догнал Таню и принялся что-то бормотать. После уроков они опять ушли вместе.
Не мог он на нее сердиться! Всякая обида испарялась, как только он встречался с ней, видел ее большущие золотистые глаза и чувствовал в руке пожатие ее крепкой горячей ладошки. Ладошки, которую ему всегда так хотелось подольше задержать в своей…
В кино они бывали теперь регулярно, каждую неделю. Почти ежедневно – кроме тех случаев, когда она отправлялась куда-нибудь с Земцевой или Лисиченко, – он провожал ее домой, хотя нужды в том не было: их класс "А" занимался в первую смену. Всякий раз она уговаривала его зайти пообедать – ну пожалуйста, ну что ему стоит, а ей одной неинтересно, – но соглашался он неохотно, по многим причинам.
Прежде всего он не особенно ловко чувствовал себя в такой обстановке, какая была теперь у Николаевых. Он часто спрашивал себя – не хватит ли удар беднягу майора, когда тот приедет домой и встретится с комендантом. В одном комендант оказался честным человеком: он действительно достал очень неплохую мебель, притащил знаменитый списанный из клуба занавес и даже прислал женщину, которая сшила из него портьеру и шторы на окна. Вопрос только – сколько он потом за все это потребует!
Паркет у Николаевых был всегда натерт до блеска, на обеденном столе лежала белоснежная скатерть. Скатерть эта буквально лишала Сергея аппетита. На него удручающе действовал вид белой поверхности стола, слишком большого для двоих, где каждая пролитая капля супа должна оставить след. А когда режешь мясо, то просто страшно себе представить: вот сейчас вылетит из-под ножа и, как есть, в коричневом жирном соусе – хлоп на скатерть!
Чувствуя необходимость все время быть начеку, Сережка тосковал, и кусок становился у него поперек горла. Он с завистью поглядывал на сидевшую напротив приятельницу, недоумевая – как она может держаться за столом так свободно, болтать и жестикулировать, и крошить хлеб на эту проклятую скатерть.
Была и еще одна причина того, что он обычно отказывался от приглашений к обеду. Марью Гавриловну он невзлюбил с первого взгляда и в мыслях называл ее драконом и старой ведьмой. Возможно, это чувство было взаимным; во всяком случае, каждое его посещение домработница воспринимала как личную обиду. Наверное, ни один тюремный надзиратель не совал заключенному его миску баланды с таким пренебрежительным видом, с каким Марья Гавриловна подавала тарелки Тане и Сережке. Совершая свои путешествия из столовой в кухню, она всякий раз так хлопала дверью, что Таня испуганно взмаргивала, а над столом начинали нежно звенеть хрустальные сосульки. Обедать в такой обстановке было не особенно приятно.
Вдобавок ко всему дракон еще поразительно плохо готовил. Сережка только молчаливо изумлялся: дома все вкусно, что бы мать ни приготовила, хотя бы простую картошку, – а здесь всегда обед из трех блюд, а суп какой-то пресный, мясо всегда пережарено или пересолено, а компот или кисель – хуже, чем в последней нарпитовской столовке. "Вот зараза, продукты только переводит", – сокрушенно думал Сережка, глядя, как Николаева безуспешно расковыривает вилкой какую-нибудь обугленную котлету. Ему было очень жаль ее, вынужденную так скверно питаться, хотя и на белой скатерти и под хрустальной люстрой.
Однажды он засиделся у Николаевой до вечера, помогая ей разобраться в логарифмической премудрости. Около шести Марья Гавриловна бесцеремонно вошла в Танину комнату, где они занимались, и стала неторопливо повязывать перед зеркалом головной платок.
– Завтра я не приду, – бросила она, покончив с туалетом и направляясь к выходу, – дела есть.
– Хорошо, Марья Гавриловна, – кротко ответила Таня.
Когда домработница удалилась, по обыкновению громыхнув дверью в столовой, она беспомощно посмотрела на Сережку.
– Вот видишь, какая она! Значит, завтра мне опять нечего есть. Ведь у нее и так есть выходные, и все равно почти каждую неделю вот так – возьмет и не придет один день. И хоть бы тогда готовила мне накануне… так нет, нарочно ничего не оставит. Даже хлеба не купит…
– А так тебе и надо! – взорвался Сережка. – Так тебе и надо, поняла? И мало тебе еще, подожди вот – пускай она еще с месяц поживет, так ты еще работать на нее станешь!
Вскочив с места, он прошелся по комнате, держа руки в карманах.
– Нашла себе домработницу, нечего сказать! – добавил он, фыркнув от ярости.
– Так что я, по-твоему, должна делать? – жалобно закричала Таня. – Ну что, что?
– Что? Да очень просто – выгнать ее завтра же к чертовой матери, вот что!!
– Да, выгнать! Попробуй ты ее выгнать! Как я это сделаю?
– Ну и сиди со своим драконом на шее! А то ты без домработницы прожить не могла, верно? Глядеть на тебя совестно – сама за собой убрать не можешь!
Таня покосилась на него и вздохнула.
– Я могу за собой убрать, – сказала она тихо, виноватым тоном, – я и постель даже свою сама стелю, но готовить я не умею… а кто будет кормить Дядюсашу, когда он приедет?
– А ты думаешь, она будет кормить, да? Так он же ее, сатану, на второй день пристрелит – пусть только она ему подаст такой обед, как тебе сегодня!
Таня опять тихонько вздохнула – на этот раз это был явно вздох сожаления о несбыточной мечте.
– Ну ладно, мне пора, – сказал Сережка и кивнул на раскрытый учебник тригонометрии. – Разобралась теперь?
– Д-да, кажется, теперь да…
Он молча собрал книги.
– Тебе что, завтра и в самом деле есть нечего?
– Наверное, нечего! – Таня засмеялась. – Не знаю, до сих пор она никогда мне ничего не оставляла, назло.
– Тогда пойдешь обедать к нам, – решительно сказал он. – Прямо из школы.
– Да нет, зачем же, Дежнев? Спасибо большое, но только я ведь могу пообедать с Люсей в институте – там хорошая столовая, я уже несколько раз там ела…
– Еще чего, по столовкам ходить… в столовке сроду так не поешь, как дома. Ты вот увидишь, как мамаша готовит, – с гордостью сказал он, – это тебе не твой дракон. Я сегодня скажу, что ты будешь.
– Ну хорошо, – сдалась Таня. У нее никогда не хватало силы воли сопротивляться, когда с ней начинали говорить таким решительным тоном.
Узнав, что придет обедать Сереженькина одноклассница – девушка из какой-то знатной семьи, – Настасья Ильинична решила не пожалеть трудов и уменья. Обед и в самом деле удался на славу; хорошо, что Коля накануне принес получку и можно было не ударить перед гостьей лицом в грязь.
А вот гостья опаздывала, хотя Сергей сказал, что придут прямо из школы, никуда не заходя. Было уже почти три часа, обед перестаивался, а молодежь все не шла.
Явиться они изволили только в половине четвертого – сын и вместе с ним девушка. Высокая, глазастенькая, в белом пушистом беретике и сером пальто из дорогого драпа.
– Ну вот, мама, – сказал Сергей немного смущенно, – вы тут знакомьтесь… это вот Николаева, Татьяна…
Настасья Ильинична вытерла руку фартуком.
– Милости просим, – сказала она с достоинством, подавая ладонь дощечкой. – Раздевайтесь, Танечка, обедать будем. Я уж думала, и вовсе не придете.
– Ой, вы, пожалуйста, извините! – затараторила гостья, расстегивая пальто. – Мы собирались раньше, но зашли в зверинец – это я затащила, там новые обезьяны, – ой, что они выделывают, это просто…
Рассовав по карманам перчатки, берет и шарфик, она стащила пальто и, не глядя, сунула стоявшему тут же Сергею; тот бережно понес его к вешалке. Гостья, оставшись в синей плиссированной юбке и белой – под стать берету – пушистой фуфаечке, продолжала оживленно рассказывать про обезьян.
"Хотя б спасибо сказала", – с неожиданным уколом обиды подумала вдруг Настасья Ильинична, тотчас же ревниво подметившая и необычное внимание сына, и небрежность гостьи, принимавшей это внимание как должное. И вообще – разве так годится… культурная вроде девушка, из хорошей семьи, а получилось некрасиво. Ждут ее обедать, тут с ног сбиваешься – угостить Сереженькину приятельницу как положено, – а она вот тебе, обезьянов отправилась глядеть. Да и сын тоже хорош. Не знал будто, к какому часу она их ждала. Ясно, мать теперь что! Мать и обождать может, ничего ей не сделается…
Нужно сказать, что гостья – словно догадавшись о произведенном ею неблагоприятном впечатлении – всячески старалась загладить свою вину и не очень в этом преуспела. Вызвавшись помочь накрыть на стол, она ухватилась за это с таким рвением, что тут же разбила тарелку. Настасья Ильинична только вздохнула про себя. Дело было, понятно, не в стоимости старой тарелки; просто Настасья Ильинична не любила белоручек, не умеющих ни за что взяться. Что это за девушка, которая в шестнадцать лет и на стол подать по-человечески не умеет! Хуже всего было то, что сын (мать-то сразу это заметила) смотрел на это иначе. Это больше всего и не понравилось Настасье Ильиничне.
Ничем не проявляя своих чувств, она наблюдала за девушкой, и та нравилась ей все меньше и меньше. Красивая она, это верно; даже не то что красивая, а просто из тех, что заткнет за пояс любую раскрасавицу. Румяная – кровь с молоком, большеглазая, и все заливается-хохочет. Знает, видно, что зубки – один к одному, вот и хвалится. Нет, такие вертушки никогда не были Настасье Ильиничне по душе.
Когда сели за стол, хозяйка почувствовала было себя польщенной завидным аппетитом гостьи, но скоро разочаровалась и в этом. Не съев и тарелки супа, Танечка потеряла к угощению всякий интерес, стала баловаться ложкой и крошить хлеб. Болтала она не переставая – и про книжки какие-то, и про своего дядьку-командира, и про этих обезьянов, не к ночи будь помянуты. Зина (про Сергея-то и говорить нечего!) глаз не спускала с гостьи, так и ловила каждое ее слово.
– Ты ешь лучше, – строго сказала дочери Настасья Ильинична, – Что это за мода такая, чай не в театре сидишь…
Если веселая гостья и поняла, что сказанное относилось главным образом к ней самой, то, во всяком случае, это очень мало на нее подействовало. "Правда – поддакнула она хозяйке, – про еду-то мы и забыли!" – и спустя минуту, кое-как управившись с супом, снова завела свою болтовню.
Она больше рассказывала, чем расспрашивала, и это тоже не понравилось Настасье Ильиничне. "Только собой и интересуется, – подумала она, подавляя вздох. – И чего в ней Сереженька нашел…" Что сын в этой легкомысленной болтушке нашел для себя очень многое, уже было для матери совершенно ясно; и это-то заставляло ее с ревнивым пристрастием изучать Таню, не упуская ни одной мелочи и совершенно не замечая главного.
После обеда Зина убежала к подружке готовить уроки. Настасья Ильинична начала убирать со стола.
– Разрешите вам помочь, – с жаром сказала Таня, – я ничего не разобью, честное слово!
– Чего тут помогать, Танечка, – улыбнулась хозяйка, – уборки этой на пять минут… Сереженька, ты бы покамест занял гостью, развлек чем. Скоро Коля придет – может, куда сходите, в кино, что ль…
Сережка не заставил себя упрашивать, увел Таню в свою комнату и стал развлекать.
– Я тебе сейчас такое интересное покажу, – сказал он, разворачивая на койке громадный истрепанный чертеж. – Смотри, это вот монтажная схема автоматического винторезного станка… Помнишь, я тебе про него говорил? Ты тогда так ничего и не поняла… Ну, ничего, сейчас мы тут во всем разберемся. Верно?
– Конечно, – кивнула Таня без особой уверенности. – Я… надеюсь.
– Ладно, тогда садись. – Сережка вытащил из-под стола табурет и хлопнул по нему ладонью. – Только сюда, а то еще на схему усядешься, с тебя станет…
Таня послушно села на табурет и сложила руки на коленях. Сережкина комната, которой он страшно гордился (елки-палки, собственный кабинет!), напоминала скорее железнодорожное купе. Напротив двери – окно, под ним маленький столик, а справа и слева, вдоль боковых стен, – две узенькие железные койки, его и Колина. Справа над изголовьем висела прочная самодельная полка, где в большом порядке стояли учебники, техническая литература и комплекты журналов; слева, над койкой старшего брата, соответствующее место занимала гитара и два выходных костюма, серый – Сережкин и синий – Колин. Костюмы были аккуратно зашпилены в "Энскую правду". Таня нашла все это очень уютным, хотя и тесноватым.
Ей вообще понравилось у Дежневых. Обед был просто замечательный – так вкусно кормили только у Лисиченок, да и то не всегда. И сестренка у Сережи такая симпатичная! О нем самом говорить нечего – Сережа есть Сережа. Даже сейчас, когда выяснилось, что развлечения-то у него бывают довольно бесчеловечные. Ну что ж, в конце концов всякий развлекается по-своему. Например, Филипп Испанский, король, тот в юности любил мучить кошек. Сережа, мучающий ее с помощью этой своей схемы, в сравнении с Филиппом – просто ангел. Сережа, Сергей – какое хорошее имя, раньше она почему-то никогда этого не замечала… а как было бы хорошо называть его просто по имени, без этой дурацкой школьной манеры – "Дежнев", "Николаева"…
…Да, вот только его мама. Маме его она не понравилась – хотя странно, почему бы это. Уж кажется, она очень следила все время, как бы не сделать чего-нибудь такого, что могло бы не понравиться Сережиной маме.
– Ты слушаешь?
– Да, да, слушаю!
– …так вот, – вдохновенно бубнил Сережка, водя пальцем по разложенной на столе громадной схеме, – ты вот здесь сама видишь – когда резец доходит до конца, то этот кулачок делает пол-оборота, и тогда срабатывает вот этот конечный выключатель, – видишь, кулачок давит на его шток, и тогда вот эта катушка… какой же у нее номер… ага, "10-2", видишь?.. тогда эта катушка оказывается под напряжением. А раз напряжение подано на эту катушку, то ты сама понимаешь, что…
Она торопливо кивала, соглашаясь, но на самом деле не понимала ни единого слова. Что будет, если напряжение подано на катушку? И как оно вообще там очутилось, это напряжение? И что это за катушка? Станок, о котором Сережка говорил с такой нежной любовью, оставался для Тани чудовищным и бессмысленным нагромождением каких-то реле, прерывателей, пускателей и разных других штук, названий которых она даже не могла запомнить. В довершение всего ее начало вдруг клонить ко сну: ночью она дочитывала "Саламбо", а здесь в комнате было натоплено, да и обед оказался очень уж сытным.
– Да ты слушаешь?! – свирепо окликал ее Сережка, и она снова испуганно встряхивалась и изо всех сил старалась не пропустить ни слова из его объяснений.
Это издевательство кончилось только с приходом Николая. Тот поздоровался с Таней очень вежливо и немного смущенно; он, видимо, боялся взять неверный тон и вообще чувствовал себя не совсем ловко. Но скоро это прошло. Через полчаса он уже играл на гитаре и пел песенки из фильмов; голос у него был приятного тембра, и играл он хорошо, – Таня, ожив, слушала его с удовольствием. Она подумала, что Николай, наверно, желанный гость на всех вечеринках и что у него много знакомых девушек, которые, как выражалась Раечка, "сохнут по нем". Жалко только, что он так неправильно говорит, ну как Сергей не скажет ему, что нельзя говорить "вы уважаете гитару"! Это вроде как – "я ужасно уважаю вареники". Ужас просто, ей нехорошо становится, когда она слышит это "уважаю"…
В девятом часу Николай попрощался с Таней, попросил не забывать и ушел вместе с гитарой, заботливо укутав ее в старый шерстяной платок. Так и есть – его уже ждали у одного приятеля. Таня тоже собралась было домой, но в комнатке, похожей на вагонное купе, было тепло и уютно, а на стеклах сверкал дождевой бисер, и за окном уныло поскрипывала под ветром голая акация. Подумать только – идти сейчас по неосвещенным окраинным улицам, брр! Она охотно согласилась на уговоры посидеть еще.
– Только слушай, Дежнев, я пересяду на твою кровать, можно? На табуретке ужасно неудобно…
– Да садись, чего спрашивать…
Она сбросила туфельки и уселась на кровати, в самом углу, поджав под себя ноги.
– Ты знаешь, у тебя замечательный брат.
– Чего? А-а… да, братуха у меня хороший.
– Очень. Только не говори "братуха", это какое-то безобразное слово. Прямо как из "Республики Шкид".
– Из какой республики? – переспросил Сережка.
– Из "Шкид", я же тебе говорю! Есть такая книга, ты не читал?
– Что-то не помню…
– Ну, ясно. Послушай, Дежнев, ты вообще читаешь что-нибудь, кроме своей техники?
– Что нужно, то читаю, – огрызнулся задетый за живое Сережка. – Уж во всякой случае не про поцелуйчики!
Таня вздохнула с сожалением.
– Ты вырастешь односторонним человеком, – сказала она убежденно, – вот увидишь. Как камбала. Ты видел? Это такие морские рыбы, у них на одном боку глаза, а другой бок совсем белый и служит пузом. Фу! Ты бы лучше переделывался, пока не поздно.
– Ты уж зато вырастешь многосторонней, – съязвил он, – прямо Леонардо да Винчи в юбке!
– Про человека не говорят "многосторонний". Нужно говорить "разносторонний" – эх, ты! У нее такая богатая, разносторонняя натура.
– У кого это?
– У Николаевой Татьяны Викторовны, – скромно ответила Таня.
Сережка презрительно фыркнул:
– Расхвасталась, дальше некуда. Да и потом, чего ты вообще учить меня взялась! "Так говорят", "так не говорят"! Тоже мне, учительница…
Сказал он это вовсе не потому, что действительно рассердился на замечания; просто ему захотелось вдруг позлить Николаеву, вызвать ее на спор. Ему всегда приятно было смотреть на нее, когда она спорила и горячилась, размахивая руками и от возмущения еще больше картавя. И хотя обычно Николаева заводилась с пол-оборота, на этот раз провокация не удалась.
– Но я ведь не хотела тебя обидеть, – с неожиданным смирением сказала она, – честное слово. Мне ведь просто хочется, чтобы ты говорил совсем правильно, потому что… ну, я просто не люблю, когда говорят неправильно. Правда, ты меня извини.
Она запнулась, чуть было не назвав его но вмени. Ей очень хотелось это сделать. И еще – ей захотелось вдруг прикоснуться к нему. Ну, просто пожать ему руку или погладить по щеке. Но пожать руку она сможет только когда будет прощаться, а погладить по щеке – хотя бы кончиками пальцев – вообще едва ли удастся когда бы то ни было. Ей стало невыносимо грустно.
– Чего там извинять, – буркнул Сережка. – Я и не обиделся вовсе…
Он покосился на нее – она сидела поодаль от него, на другом конце койки, и оставалась в тени. Дверь в соседнюю комнату, где мать занялась шитьем, была прикрыта, а лампочка под картонным колпаком освещала только стол. На затененном лице девушки глаза казались больше обычного и выражение их было печальным.
– Какого цвета у тебя глаза? – спросил он вдруг, и сердце его замерло, как перед прыжком с вышки.
– Карие, – негромко ответила она, помедлив секунду. – И немножко золотистые. Хочешь посмотреть? Подними лампу.
Он протянул руку к лампе, висевшей низко над столом на длинном шнуре. Таня подалась вперед, упираясь кулачками в одеяло, и приблизила лицо к Сережке. Моргая от яркого света, она старалась не щуриться.
– Видишь теперь?
Сережка опустил лампу, и она закачалась как маятник, бросая свет то на стену, то на Танины колени.
– Да, вижу, – сказал он и встал с койки. – Они какие-то рыжеватые…
Таня ничего не ответила и снова отодвинулась в уголок. Сережка постоял, потом сел к столу на табурет. Тане вдруг неудержимо захотелось плакать и тут же вспомнилось, как Настасья Ильинична посоветовала им сходить вместе с Николаем куда-нибудь в кино. "Ей просто хотелось, чтобы я поскорее ушла, – подумала она с горьким чувством собственной ненужности. – Как я до сих пор не поняла!" Она пересела на край койки и сбросила на пол ноги, нашаривая туфлю вытянутой ступней.
– Ты чего? – удивленно спросил Сережка.
– Знаешь, уже очень поздно, – ответила она не глядя. – Пока доберусь домой, а еще уроки…
– Да посиди еще, куда тебе торопиться! Чаю сейчас попьем…
– Нет, я… уже поздно, понимаешь, и потом у меня немного болит голова – здесь так жарко… Если хочешь, мы лучше не будем садиться на трамвай, а пройдем пешком, немного подышим. Ты ведь меня проводишь?
Когда они добрались до центра, дождя уже не было. Ветер разогнал тучи, и в чернильном небе, затмеваемая молочными шарами фонарей, несмело проглянула маленькая ущербная луна.
– …я очень люблю дождь, – задумчиво говорила Таня, размахивая портфелем. – Вернее, не самый дождь, а когда вот так – асфальт весь мокрый, блестит, и все в нем отражается… именно ночью, когда огни. Я еще в Москве любила смотреть – мы жили возле Арбата, знаешь? Ах, ты в Москве не бывал… А днем люблю тоже, чтобы туман – такой, знаешь, не очень сильный. В парке – вот прелесть! Я, если туман, по парку могу просто часами ходить… так всегда тихо-тихо, и потом этот запах – знаешь, совсем такой особый – завялой травы, сухих листьев, когда они уже подмокли и начинают гнить, и потом не знаю, что там еще, в этом запахе, – наверно, древесная кора, потом просто земля мокрая, немножко тоже грибами пахнет…
– Я понимаю, – серьезно кивнул Сережка.
– Ну конечно, я знала, что ты поймешь. Когда будет туман, нарочно пойдем с тобой в парк, понюхаем. Прямо из школы, хорошо? Хотя нет, что я! – вот дура-то, уже ведь поздно. Это нужно в сентябре, в конце, или в самом начале октября, а потом уже нет. Ну, ничего. На тот год, правда? Только ты мне напомни, если я забуду, а то придется откладывать еще на год.
– Тогда уже не придется, – улыбнулся Сережка. – Это на сорок первый? Не выйдет, в сентябре сорок первого я ведь уже буду в армии.
– Почему это в армии? Ты что, не собираешься в институт?
– Факт, что собираюсь, только мне после школы придется сначала призываться. Призывной-то возраст снижен теперь, забыла? А в институт – это уж после, как отслужу.
– Ой, пра-а-авда, – протянула Таня и задумалась. – Ну, ничего, может, к тому времени все это изменится! Я сейчас вспомнила: недавно мы с Люсей встретили одного майора, Дядисашиного приятеля, и он как раз спрашивал: как, говорит, ваши ребята теперь себя чувствуют, наверное им не очень весело идти вместо институтов в казармы? И он как раз сказал, что это только временная мера, из-за войны в Европе. Ну хорошо, не могут же они столько воевать – до сорок первого года! К лету, наверное, уже все закончится. Как тебе кажется?