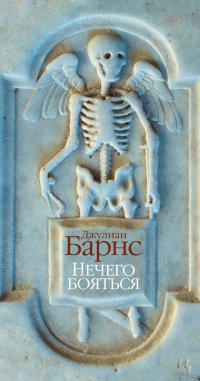Читать онлайн Шум времени бесплатно
- Все книги автора: Джулиан Барнс
Кому слушать,
Кому на ус мотать,
А кому горькую пить.
Julian Barnes
THE NOISE OF TIME
Copyright © 2016 by Julian Barnes
All rights reserved
Перевод с английского Елены Петровой
Роман великий в буквальном смысле слова, доподлинный шедевр от автора удостоенного Букеровской премии «Предчувствия конца». Казалось бы, прочел и не так много страниц – а будто прожил целую жизнь.
The Guardian
В Великобритании гремит новая книга Джулиана Барнса, посвященная Шостаковичу и его жизни в эпохи террора и оттепели. Но амбиции Барнса, конечно, выше, чем сочинение беллетризованной биографии великого композитора в год его юбилея. Барнс лишь играет в осведомленного биографа, и зыбкая почва советской истории, во многом состоящей из непроверенной информации и откровенного вранья, подходит для этого как нельзя лучше: правд много, выбирай любую, другой человек по определению – непостижимая тайна.
Тем более что случай Шостаковича – особенный: Барнс во многом опирается на скандальное «Свидетельство» Соломона Волкова, которому композитор свои мемуары то ли надиктовал, то ли надиктовал отчасти, а то ли вовсе не надиктовывал. Так или иначе, у автора есть лицензия художника на любые фантазии, и возможность залезть в голову придуманного им Шостаковича позволяет Барнсу написать то, что он хочет: величественное размышление о правилах выживания в тоталитарном обществе, о том, как делается искусство, и, конечно, о конформизме.
Барнс, влюбленный в русскую литературу, учивший язык и даже бывавший в СССР, проявляет впечатляющее владение контекстом. На уровне имен, фактов, топонимов – это необходимый минимум, – но не только: в понимании устройства быта, системы отношений, каких-то лингвистических особенностей. Барнс то и дело козыряет фразами вроде «рыбак рыбака видит издалека», «горбатого могила исправит» или «жизнь прожить – не поле перейти» («Живаго» он, конечно, читал внимательно). И когда герой начинает подверстывать к своим рассуждениям стихотворение Евтушенко про Галилея, в этом вдруг чудится не кропотливая подготовка британского интеллектуала, а какое-то совершенно аутентичное прекраснодушие советского интеллигента.
Станислав Зельвенский (Афиша Daily / Мозг)
Не просто роман о музыке, но музыкальный роман. История изложена в трех частях, сливающихся, как трезвучие.
The Times
Гюстав Флобер умер на 59-м году жизни. В этом возрасте знаменитый писатель Джулиан Барнс, чьим божеством был и остается Флобер, написал роман о том, как Артур Конан Дойль расследует настоящее преступление. Барнсу исполнилось 70 – и он выпустил роман о Шостаковиче. Роман имеет мандельштамовское название – «Шум времени».
Барнс, неустанно возносящий хвалу не только Флоберу, но и русской литературе, намекает в названии сразу на три культурно-исторических уровня. Первый – сам Мандельштам, погибший в лагере через год после 1937-го, когда Шостакович балансировал на краю гибели. Второй – музыка Шостаковича, которую советские упыри обозвали «сумбуром», то есть шумом. Наконец, шум страшного XX века, из которого Шостакович извлекал музыку – и от которого, конечно, пытался бежать.
Кирилл Кобрин (bbcrussian.com / Книги Лондона)
Роман обманчиво скромного объема… Барнс снова начал с чистого листа.
The Daily Telegraph
Барнс начал свою книгу попыткой некоего нестандартного строения – дал на первых страницах дайджест тем жизни Шостаковича, которые потом всплывают в подробном изложении. Это попытка построить книгу о композиторе именно музыкально, лейтмотивно. Один из таких мотивов – воспоминание о даче родителей Шостаковича, в которой были просторные комнаты, но маленькие окна: произошло как бы смешение двух мер, метров и сантиметров. Так и в позднейшей жизни композитора разворачивается эта тема: громадное дарование, втиснутое в оковы мелочной и враждебной опеки.
И все-таки Барнс видит своего героя победителем. Сквозной афоризм проходит через книгу: история – это шепот музыки, который заглушает шум времени.
Борис Парамонов (Радио «Свобода»)
Безусловно один из лучших романов Барнса.
Sunday Times
Это отвечает не только моему эстетическому восприятию, но и моим интересам – дух книги лучше выражать посредством стиля, путем использования определенных оборотов речи, немного странных оборотов, которые подчас могут напоминать переводной текст. Именно это, по-моему, дает читателю чувство времени и места. Мне не хочется писать нечто вроде «он прошел по такой-то улице, свернул налево и увидел напротив знаменитую старую кондитерскую или что-то там еще». Я не создаю атмосферу времени и места таким образом. Уверен, что гораздо лучше делать это посредством прозы. Любой читатель способен понять, о чем идет речь, смысл совершенно ясен, однако формулировки чуть отличаются от привычных, и вы думаете: «Да, я сейчас в России». По крайней мере, я очень надеюсь, что вы это почувствуете.
Джулиан Барнс
В своем поколении писателей Барнс однозначно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.
The Scotsman
Дело было в разгар войны, на полустанке, плоском и пыльном, как бескрайняя равнина вокруг. Ленивый поезд два дня как отбыл из Москвы направлением на восток; оставалось еще двое-трое суток пути – в зависимости от наличия угля и от переброски войск. С рассветом вдоль состава уже двинулся какой-то мужичок: можно сказать, ополовиненный, на низкой тележке с деревянными колесами. Чтобы управлять этой приспособой, нужно было разворачивать, куда требовалось, передний край; а чтобы не соскальзывать, инвалид вставил в шлейки брюк веревку, пропущенную под рамой тележки. Кисти рук были обмотаны почерневшими тряпками, а кожа задубела, покуда он побирался на улицах и вокзалах.
Отец его прошел империалистическую. С благословения сельского батюшки отправился сражаться за царя и отечество. А когда вернулся, ни батюшки, ни царя уже не застал, да и отечества было не узнать.
Жена заголосила, увидев, что сделала война с ее мужем. Война-то была другая, да враги прежние, разве что имена поменялись, причем с двух сторон. А в остальном – на войне как на войне: молодых парней отправляли сперва под вражеский огонь, а потом к коновалам-хирургам. Ноги ему оттяпали в военно-полевом госпитале, среди бурелома. Все жертвы, как и в прошлую войну, оправдывались великой целью. Да только ему от этого не легче. Пусть другие языками чешут, а у него своя забота: день до вечера протянуть. Он превратился в спеца по выживанию. Ниже определенной черты такая судьба ждет всех мужиков: становиться спецами по выживанию.
На перрон сошла горстка пассажиров – глотнуть пыльного воздуха; остальные маячили за окнами вагонов. У поезда нищий обычно заводил разухабистую вагонную песню. Авось кто-нибудь да бросит копейку-другую в благодарность за развлечение, а кому не по нутру – тоже денежку дадут, лишь бы поскорей дальше проезжал. Иные исхитрялись монеты на ребро бросать, чтобы поглумиться, когда он, отталкиваясь кулаками от бетонной платформы, вдогонку пускался. Тогда другие пассажиры обычно аккуратнее подавали – кто из жалости, кто со стыда. Он видел только рукава, пальцы и мелочь, а слушать не слушал. Сам он был из тех, кто горькую пьет.
Двое попутчиков, ехавших в мягком вагоне, стояли у окна и гадали, где сейчас находятся и долго ли тут проторчат: пару минут, пару часов или же сутки. Никаких объявлений по трансляции не передавали, а интересоваться – себе дороже. Будь ты хоть трижды пассажир, а как станешь задавать вопросы о движении поездов – того и гляди примут за вредителя. Обоим было за тридцать – в таком возрасте уже крепко затвержены кое-какие уроки. Сухощавый, весь на нервах очкарик, из тех, которые слушают, обвешал себя чесночными дольками на нитках. Имени его попутчика история не сохранила; этот был из тех, которые на ус мотают.
К их вагону, дребезжа, близилась тележка с ополовиненным нищим. Тот горланил лихие куплеты про деревенские непотребства. Остановившись под окном, жестами попросил подать на пропитание. В ответ очкарик поднял перед собой бутылку водки. Из вежливости уточнить решил. Только слыханное ли дело, чтобы нищий выпить отказался? Не прошло и минуты, как те двое спустились к нему на перрон.
То бишь выдалась возможность сообразить на троих. Очкарик по-прежнему держал бутылку, а его спутник три стакана вынес. Налили, да как-то не поровну; пассажиры нагнулись и произнесли, как положено, «будем здоровы». Чокнулись; нервный худеряга склонил голову набок, отчего в стеклах очков на миг полыхнуло восходящее солнце, и что-то прошептал; другой хохотнул. Выпили до дна. Нищий тут же протянул свой стакан, требуя повторить. Собутыльники плеснули ему остатки, потом забрали стаканы и к себе в вагон поднялись. Блаженствуя от тепла, что растекалось по увечному телу, инвалид покатил к следующей кучке пассажиров. К тому времени, когда двое попутчиков обосновались в купе, тот, который услыхал, почти забыл, что сам же и сказал. А тот, который запомнил, только-только стал на ус мотать.
Часть первая
На лестничной площадке
Он твердо знал одно: сейчас настали худшие времена.
Битых три часа он томился у лифта. Курил уже пятую папиросу, а мысли блуждали.
Лица, имена, воспоминания. Торфяной брикет – тяжестью на ладони. Над головой бьют крыльями шведские водоплавающие птицы. Подсолнухи, целые поля. Аромат одеколона «Гвоздика». Теплый, сладковатый запах Ниты, уходящей с теннисного корта. Лоб, мокрый от пота, стекающего с мыска волос. Лица, имена.
А еще имена и лица тех, кого уже нет.
Ничто не мешало ему принести из квартиры стул. Но нервы так или иначе не дали бы усидеть на месте. Да и картина была бы довольно вызывающая: человек расположился на стуле в ожидании лифта.
Гром грянул нежданно-негаданно, однако была в этом своя логика. В жизни всегда так. Взять хотя бы влечение к женщине. Накатывает нежданно-негаданно, хотя вполне логично.
Он постарался сосредоточить все мысли на Ните, но они, шумные и назойливые, как мясные мухи, не поддавались. Пикировали, само собой разумеется, на Таню. Потом, жужжа, уносились к той девице, Розалии. Краснел ли он, вспоминая о ней, или же втайне гордился своей шальной выходкой?
Покровительство маршала – оно ведь тоже оказалось неожиданным и вместе с тем вполне логичным. А судьба самого маршала?
Добродушное, бородатое лицо Юргенсена – и тут же воспоминание о суровых, неумолимых маминых пальцах на запястье. И отец, милейший, обаятельный, скромный отец, который стоит у пианино и поет «Отцвели уж давно хризантемы в саду».
В голове – какофония звуков. Отцовский голос; вальсы и польки, сопровождавшие ухаживание за Нитой; четыре фа-диезных вопля заводской сирены; лай бродячих собак, заглушающий робкого фаготиста; разгул ударных и медных духовых под бронированной правительственной ложей.
Эти шумы прервал один, вполне реальный: внезапный механический рык и скрежет лифта. Дернулась нога, опрокинув стоявший рядом чемоданчик. Память вдруг улетучилась, а ее место заполонил страх. Но лифт остановился со щелчком где-то ниже, и умственные способности восстановились. Подняв чемоданчик, он ощутил, как внутри мягко сдвинулось содержимое. Отчего мысли тут же метнулись к истории с пижамой Прокофьева.
Нет, не как мясные мухи. Скорее как комары, что роились в Анапе. Облепляли все тело, пили кровь.
Стоя на лестничной площадке, он думал, что властен над своими мыслями. Но позже, в ночном одиночестве, ему показалось, что мысли сами забрали над ним всю власть. И от судеб защиты нет, как сказано у поэта. И от мыслей тоже защиты нет.
Он вспомнил, как мучился от боли в ночь перед операцией аппендицита. Двадцать два раза начиналась рвота; на сестру милосердия обрушились все известные ему бранные слова, а под конец он стал просить знакомого, чтобы тот привел милиционера, способного единым махом положить конец всем мучениям. Пусть с порога меня пристрелит, молил он. Но приятель отказал ему в избавлении.
Сейчас ни приятель, ни милиционер уже не требуются. Доброхотов и так предостаточно.
Если быть точным, заговорил он со своими мыслями, все это началось утром двадцать восьмого января тридцать шестого года на железнодорожной станции в Архангельске. Нет, откликнулись мысли, ничто не начинается таким манером, в конкретный день, в конкретном месте. Начиналось все в разных местах, в разное время, причем зачастую еще до твоего появления на свет, в чужих землях и в чужих умах.
А единожды начавшись, все идет заведенным порядком – и в других землях, и других умах.
Его собственный ум сейчас занимало курево: «Беломор», «Казбек», «Герцеговина Флор». Некто потрошит папиросы, чтобы набить трубку, оставляя на письменном столе россыпь картонных трубочек и клочков бумаги.
Можно ли на нынешней стадии, хотя и запоздало, все поменять, исправить, вернуть на место? Ответ он знал – как сказал доктор на просьбу приставить нос: «Оно, конечно, приставить можно; но я вас уверяю, что это для вас хуже».
Потом на ум пришел Закревский, и сам Большой дом, и кто в нем сменит Закревского. Свято место пусто не бывает. Так уж устроен этот мир, что Закревских в нем – пруд пруди. Вот когда будет построен рай, а уйдет на это почти ровным счетом двести миллиардов лет, нужда в таких Закревских отпадет.
Бывает, что происходящее оказывается за гранью понимания.
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, как сказал градоначальник при виде жирафы. Ан нет: и может быть, и бывает.
Судьба. Этим величественным словом просто-напросто обозначается нечто такое, против чего ты бессилен. Когда жизнь объявляет: «А посему…», ты согласно киваешь, полагая, что с тобой говорит судьба. А посему: назначено ему было зваться Дмитрием Дмитриевичем. И ничего не попишешь. Крестины свои он, естественно, не запомнил, но никогда не сомневался в правдивости семейного предания. Домашние собрались в отцовском кабинете вокруг переносной купели. Прибыл батюшка, спросил родителей, какое они выбрали имя для младенца. Ярослав, отвечали они. Ярослав? Батюшка поморщился. Сказал, что имя чересчур заковыристое. Добавил, что ребенка с таким именем в школе задразнят и заклюют; нет-нет, Ярославом наречь никак не возможно. Отца с матерью озадачил такой неприкрытый отпор, но обижать никого не хотелось. А вы какое имя предлагаете? – спросили они. Да попроще, ответствовал батюшка. К примеру, Дмитрий. Отец указал, что Дмитрием уже зовут его самого и что «Ярослав Дмитриевич» куда приятней для слуха, нежели «Дмитрий Дмитриевич». Но священник – ни в какую. А посему в мир вошел Дмитрий Дмитриевич.
Да и что в имени? Родился он в Санкт-Петербурге, рос в Петрограде, а вырос в Ленинграде. Или в Санкт-Ленинбурге, как говаривал сам. Так ли уж важно имя?
Ему исполнился тридцать один год. В нескольких метрах от него в квартире спит жена Нита, рядом с нею – Галина, их годовалая дочка. Галя. За последнее время жизнь его, похоже, обрела устойчивость. Эту сторону вещей он как-то не характеризовал напрямую. Ему не чужды сильные эмоции, но выражать их почему-то не получается. Даже на футболе он, в отличие от других болельщиков, почти никогда не горланит, не бузит; его устраивает вполголоса отмечать мастерство – или бездарность – конкретного игрока. Некоторые усматривают в этом типичную чопорность застегнутого на все пуговицы ленинградца, но сам-то он знает, что за этим (или под этим) таятся застенчивость и тревога. Правда, с женщинами он пытается отбросить застенчивость и мечется от нелепой восторженности к отчаянной неуверенности. Как будто невпопад переключает метроном.
И все равно жизнь его в итоге обрела некоторую упорядоченность, а вместе с нею – верный ритм. Правда, сейчас опять вернулась неопределенность. Неопределенность – это эвфемизм, если не хуже.
Стоящий у ноги чемоданчик с самым необходимым напомнил о несостоявшемся уходе из дома. В каком же возрасте это было? Лет в семь-восемь, наверное. А чемоданчик он в тот раз прихватил? Нет, вряд ли – мама бы не позволила. Дело было летом в Ириновке, где отец служил на руководящей должности. А Юргенсен нанялся разнорабочим к ним в дачную усадьбу. Мастерил, чинил, с любым делом справлялся так, что даже ребенку любо-дорого было смотреть. Никогда не поучал, а всего лишь показывал, как из деревяшки получается хоть сабля, хоть свистулька. А однажды принес ему свежий торфяной брикет и дал понюхать.
К Юргенсену он тянулся всей душой. Говорил, обижаясь на кого-нибудь из домашних (а такое случалось нередко): «Ну и ладно, уйду от вас к Юргенсену». Как-то раз, утром, еще не встав с постели, он уже высказал вслух эту угрозу, а может, обещание. Мать не заставила его повторять дважды. Одевайся, приказала она, я тебя отведу. Он не спасовал (нет, собрать вещи не удалось); Софья Васильевна крепко сжала ему запястье и повела через луг в направлении избушки Юргенсена. Поначалу, беспечно вышагивая рядом с мамой, он хорохорился. Но вскоре уже плелся нога за ногу; запястье, а после и ладошка стали высвобождаться из материнских тисков. В ту пору ему казалось, что это он вырывается, но теперь стало ясно: мать сама постепенно его отпускала, палец за пальцем, пока не освободила полностью. Освободила не для того, чтобы он ушел к Юргенсену, а чтобы разревелся и бросился назад, к дому.
Руки: одни выскальзывают, другие жадно тянутся. В детстве он боялся мертвецов: вдруг они поднимутся из могил и утянут его в холодный, черный мрак, где глаза и рот забьются землей. Этот страх мало-помалу отступил, потому что руки живых оказались еще страшнее. Петроградские проститутки не считались с его юностью и неискушенностью. Чем труднее времена, тем настырней руки. Так и норовят схватить тебя за причинное место, отобрать еду, лишить друзей, родных, средств к существованию, а то и самой жизни. Почти так же сильно, как проституток, он боялся дворников. И тех – как их ни называй, – кто служит в органах.
Но есть и страх противоположного свойства: страх отпустить руку, которая тебя защищает.
Маршал Тухачевский его защищал. Не один год. Вплоть до того дня, когда – у него на глазах – с маршальского мыска по лбу заструился пот. Эти струйки обмахивал и промокал белоснежный носовой платок, и стало ясно: защита кончилась.
Более разносторонних людей, чем маршал, он не припоминал. Тухачевского, знаменитого на всю страну военного теоретика, в газетах величали Красным Наполеоном. Ко всему прочему маршал любил музыку и своими руками изготавливал скрипки, обладал восприимчивым, пытливым умом, охотно рассуждал о литературе. На протяжении десяти лет их знакомства маршал в своем френче то и дело мелькал на улицах Москвы и Ленинграда после наступления темноты: не забывая ни о долге, ни о радостях жизни, успешно совмещал политику и приятное времяпрепровождение, беседовал и спорил, выпивал и закусывал, не скрывал своей слабости к балеринам. Рассказывал, что французы в свое время открыли ему секрет: как пить шампанское, не пьянея.
Перенять этот светский лоск ему не удалось. Самоуверенности не хватало; да и особого желания, как видно, не было. Он не разбирался в тонких деликатесах, быстро хмелел. В студенческие годы, когда все подвергалось переоценке и переработке, а партия еще не забрала полную государственную власть, он, как и большинство студентов, строил из себя философа, не имея на то никаких оснований. Пересмотру неизбежно подвергался и вопрос отношения полов: коль скоро устарелые взгляды были отброшены раз и навсегда, кто-нибудь при каждом удобном случае ссылался на теорию «стакана воды». Интимная близость, вещали молодые умники, подобна стакану воды: чтобы утолить жажду, достаточно выпить воды, а чтобы утолить влечение, достаточно совершить половой акт. В целом такая система не вызывала у него возражений, хотя с необходимостью предполагала ответное желание со стороны девушек. У одних желание возникало, у других нет. Но эта аналогия действовала только в определенных пределах. Стакан воды не доставал до сердца.
А кроме всего прочего, тогда в его жизни еще не появилась Таня.
Когда он ребенком в очередной раз заявлял о своем намерении уйти жить к Юргенсену, родители, по всей видимости, усматривали в этом бунт против жестких рамок семьи, а возможно, даже самого детства.
Теперь, по зрелом размышлении, ему видится другое. Их дачу в Ириновке отличало нечто странное – нечто глубинно неправильное. Как любой ребенок, он ни о чем таком не подозревал, пока ему не объяснили. Только из насмешливых разговоров взрослых он понял, что в этом доме нарушены все пропорции. Помещения огромные, а окна маленькие. На комнату площадью, допустим, в пятьдесят квадратных метров могло приходиться одно-единственное оконце, да и то крошечное. Взрослые считали, что строители дали маху – перепутали метры с сантиметрами. А в результате получился дом, наводивший на ребенка ужас. Как будто эту дачу нарочно придумали для самых жутких снов. Возможно, потому его и тянуло унести оттуда ноги.
Забирали всегда по ночам. А посему, чтобы его не выволокли из квартиры в одной пижаме и не заставили одеваться под презрительно-равнодушным взглядом сотрудника органов, он решил, что будет ложиться спать одетым, поверх одеяла, заранее поставив у кровати собранный чемоданчик. Сна не было; ворочаясь в постели, он рисовал себе самое худшее, что только можно представить. Его тревога передавалась Ните, которая тоже мучилась бессонницей. Оба лежали и притворялись; каждый делал вид, что страх другого не имеет ни звука, ни запаха. А днем его преследовал другой кошмар: вдруг НКВД заберет Галю и определит ее – это в лучшем случае – в детдом для детей врагов народа. Где ей дадут новое имя и новую биографию, вырастят ее образцовым советским человеком, маленьким подсолнухом, который будет поворачиваться вслед за великим солнцем по имени Сталин. Чем маяться от неизбежной бессонницы, лучше ожидать лифта на лестничной площадке. Нита требовала, чтобы все ночи, каждая из которых могла оказаться для них последней, они проводили вместе. Однако это был тот редкий случай, когда в споре он настоял на своем.
Впервые выйдя ночью к лифту, он решил не курить. В чемоданчике лежали три пачки «Казбека» – они, по его мнению, могли пригодиться в ходе допроса. И позже, если отправят в камеру. Первые две ночи он держался. А потом как ударило – вдруг их отберут: что, если в Большой дом с табачными изделиями нельзя? Вдруг допроса вообще не будет или будет совсем краткий? Просто сунут ему лист бумаги и заставят подписать. А вдруг?.. На другое уже не хватало воображения. Только ни в одном из этих случаев папиросы не понадобятся.
А посему причины воздерживаться от курения он не нашел.
А посему закурил.
Он изучал папиросу «Казбек», зажатую в пальцах. Малько однажды благожелательно, нет, пожалуй, даже восхищенно сказал, что у него изящные, «не пианистические» руки. А потом отметил – уже без тени восхищения, – что, дескать, занимается Шостакович недостаточно. Как это понимать – недостаточно? Сколько надо, столько и занимается. А Малько пусть в партитуру смотрит и палочкой машет.
В шестнадцать лет направили его в крымский санаторий, восстанавливать здоровье после туберкулеза. С Таней они оказались ровесниками, вплоть до того, что дата рождения у них совпадала, только с одной небольшой поправкой: у него – двадцать пятое сентября по новому стилю, а у нее – по старому. Такая почти идеальная синхронность появления на свет осеняла их роман; они, можно сказать, были созданы друг для друга. Татьяна Гливенко: коротко стриженные волосы и такая же, как у него, жажда жизни. Это была первая любовь, во всей своей кажущейся простоте и во всей обреченности. Приставленная к нему сестра Маруся накляузничала матери. Софья Васильевна обратной почтой предостерегла сына против связи с этой незнакомкой и, в сущности, против любой связи. В ответ он с апломбом шестнадцатилетнего юнца разъяснил маме принципы Свободной Любви. В том смысле, что у всех должна быть свобода любить, как им вздумается, что плотская любовь недолговечна, что равенство полов не подлежит сомнению, а институт брака следует упразднить, но, пока в реальности брак все же существует, женщина имеет полное право полюбить другого, а если потом захочет уйти к нему, то мужчина обязан дать ей развод и взять вину на себя; и тем не менее, при всем при том, дети – это святое.
На его высокомерную, ханжескую проповедь о жизни мать не ответила. Как бы то ни было, вскоре после знакомства влюбленным пришлось расстаться: Таня вернулась в Москву, а он, под Марусиным конвоем, – в Петроград. Но не переставал писать Тане; они ездили друг к другу в гости; Тане он посвятил свое первое фортепианное трио.
Мать так и не сменила гнев на милость. Потом, три года спустя, он наконец-то провел пару недель на Кавказе вдвоем с Таней, без родственной опеки. Было им по девятнадцать лет; за концерты в Харькове он только что получил гонорар в триста рублей. Отдых в Анапе… кажется, это было давным-давно. Впрочем, так оно и есть: с той поры минула треть его жизни, если не больше.
А посему началось все, если быть точным, 28 января 1936 года в Архангельске. Его пригласили сыграть свой Первый фортепианный концерт с местным оркестром под управлением Виктора Кубацкого, с которым они уже исполняли новую сонату для виолончели. Отыграли хорошо. Утром он пошел на железнодорожную станцию купить свежий номер «Правды». Бегло просмотрел первую полосу, пробежал глазами две другие. Тот день, как говорил впоследствии он сам, был самым памятным в его жизни. Эту дату он решил отмечать ежегодно, до самой смерти.
Одна оговорка, упорствовали его мысли: ничто не начинается точно таким манером. Начиналось это в разных местах и в разных умах. Истинной отправной точкой послужила его собственная известность. Или его опера. А возможно, в начале был Сталин, который в силу своей непогрешимости мог критиковать и возглавлять все на свете. А возможно, истоки коренились в чем-то примитивном, как, скажем, расположение инструментов симфонического оркестра. В самом-то деле, лучше всего так и считать: композитора сперва заклеймили позором и смешали с грязью, потом арестовали и расстреляли – а все из-за рассадки оркестра.
Если же начиналось все действительно не здесь, а в чужих умах, то виноват, скорее всего, Шекспир, сочинивший «Макбета». Или Лесков, который перенес эту историю на русскую почву под заглавием «Леди Макбет Мценского уезда». Но нет, ничего подобного. Естественно, он сам виноват в создании этого произведения, оскорбительного для народа. А кто виноват, что опера своим успехом – и на родине, и за рубежом – вызвала пристальное внимание Кремля? Да сама же опера и виновата. Виноват и Сталин – не иначе как он инспирировал и одобрил редакционную статью «Правды», а возможно, и написал своей рукой: такой суконный слог подсказывал, что текст вышел из-под пера того, чьи огрехи править немыслимо. Сталин виноват прежде всего в том, что возомнил себя покровителем и знатоком всех искусств. Известно, что он не пропускает ни одного исполнения «Бориса Годунова» в Большом театре. Почти вровень с этой оперой стоят для него «Князь Игорь» и «Садко» Римского-Корсакова. Так почему бы ему было не послушать и новую оперу, «Леди Макбет Мценского уезда»?
А посему композитора обязали присутствовать на спектакле 26 января 1936 года. Ожидалось прибытие товарища Сталина, а также товарищей Молотова, Микояна и Жданова. Все они заняли места в правительственной ложе. Прямо под которой, к несчастью, располагались ударные и медные духовые. Чьи партии в опере «Леди Макбет Мценского уезда» не отличаются благостностью и скромностью.
Он отчетливо помнил, как, сидя в директорской ложе, смотрел на ложу правительственную. Небольшая штора загораживала товарища Сталина, и к этому незримому присутствию подобострастно развернулись высокопоставленные сопровождающие лица, зная, что за ними тоже наблюдают. В такой обстановке и дирижер, и музыканты, самой собой разумеется, нервничали. Во время оркестрового антракта к картине свадьбы Катерины деревянные и медные духовые, будто сговорившись, внезапно заиграли громче, нежели было предусмотрено у него в разметке. И это стало, как вирус, распространяться на другие группы инструментов. Если дирижер что-то и заметил, он оказался бессилен; всякий раз, когда под правительственной ложей грохотало фортиссимо ударных и медных духовых, да так, что едва не вылетали оконные стекла, товарищи Микоян и Жданов нарочито содрогались и, обращаясь к фигуре за шторой, отпускали какие-то насмешливые замечания. Когда в начале четвертого действия публика воззрилась на правительственную ложу, там уже никого не было.
После спектакля он забрал свой портфель и отправился прямиком на Северный вокзал, чтобы ехать в Архангельск. Правительственная ложа, как он помнил, усилена листовой сталью на случай покушения. А вот в директорской ложе такой защиты нет. Ему, между прочим, тогда не исполнилось и тридцати, а жена была на пятом месяце.
Тысяча девятьсот тридцать шестой: високосный год всегда внушал ему суеверный страх. Как и многие другие, он считал, что високосный год приносит несчастье.
Опять зарокотал механизм лифта. Когда стало ясно, что кабина миновала четвертый этаж и едет выше, он поднял с пола чемоданчик. И стал ждать, когда откроются двери, мелькнет суконная гимнастерка, последует кивок узнавания, а потом к нему потянутся руки и чья-то потная пятерня сомкнется у него на запястье. Причем без малейшей необходимости: он же не противится, а, наоборот, спешит увести их подальше от своей квартиры, подальше от жены с дочкой.
Тут открылись двери – и оказалось, что это вернулся домой припозднившийся сосед; последовал кивок узнавания, но совсем иного рода, призванный ничего не выражать, даже удивления от этой ночной встречи. В ответ он тоже склонил голову, зашел в кабину лифта, ткнул в первую попавшуюся кнопку, спустился на пару этажей вниз и, немного выждав, поднялся к себе на пятый, а там шагнул на площадку и продолжил ночное бдение. Такие встречи с соседями, словно под копирку, случались и раньше. Происходили они без слов, потому что в словах таилась опасность. Соседи, вполне возможно, считали, что его ночь за ночью издевательски выгоняет жена или что он сам ночь за ночью робко уходит от жены, чтобы вскоре вернуться. Но весьма вероятно, что со стороны выглядел он самим собой: одним из сотен горожан, что ночь за ночью ожидали ареста.
Много лет, много жизней назад, еще в прошлом столетии, когда его мама училась в Иркутском институте благородных девиц, она вместе с двумя другими воспитанницами танцевала мазурку из «Жизни за царя» в присутствии наследника престола, будущего императора Николая Второго. В Советском Союзе эта опера Глинки, естественно, не исполнялась, хотя ее сюжетная основа – поучительная история о том, как бедный крестьянин жертвует собой ради великого вождя, – пришлась бы, видимо, по вкусу Сталину.
«Мазурка для царя»: интересно, знал ли о ней Закревский. В давние времена случалось, что сын отвечал за грехи отца и даже матери. Нынче в самом передовом обществе на всем земном шаре за грехи молодых порой отвечали родители, и не только они, но еще и дядья, тетки, двоюродные братья и сестры, родня по мужу или жене, сотрудники, знакомые, а то и незнакомец, бездумно улыбнувшийся тебе в три часа ночи при выходе из лифта. Отточенная до совершенства карательная система значительно расширила свой охват.
Брак его родителей держался на матери, точно так же, как на Нине Васильевне держался его с нею брак. Отец, Дмитрий Болеславович, мягкий, душевный человек, много работал и все жалованье приносил в дом, оставляя сущие копейки себе на папиросы. Он обладал прекрасным тенором и любил игру на рояле в четыре руки. Исполнял цыганский репертуар, а также романсы, как, например, «Нет, не тебя так пылко я люблю» и «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Обожал всякие безделицы, разные забавы, детективную литературу. Мог часами возиться с новенькой зажигалкой или проволочной головоломкой. С внешним миром соприкасался опосредованно. Каждая книга у него на полках была проштампована специальной лиловой печатью: «Украдено из библиотеки Д. Б. Шостаковича».
Вопрос о Дмитрии Болеславовиче задал ему как-то один психиатр, изучавший процессы творчества. Тогда он ответил, что отец был «совершенно нормальным человеком». Ответил без тени надменности: это ведь завидное качество – быть нормальным человеком и каждое утро просыпаться с улыбкой. При всем том умер отец в расцвете лет: до пятидесяти не дожил. Трагедия для родных, для всех, кто его любил, но для самого Дмитрия Болеславовича, наверное, нет. Проживи он дольше – увидел бы, как загнивает революция, эта параноидная хищница. Впрочем, революция его не особо интересовала. Это, кстати, тоже было одним из отцовских достоинств.
Вдова осталась без средств к существованию, с двумя дочерьми и музыкально одаренным пятнадцатилетним сыном Митей. Софья Васильевна бралась за любую работу, чтобы прокормить детей. Устроилась машинисткой в Палату мер и весов, давала уроки музыки в обмен на продукты. Порой у него возникал вопрос: не начались ли их беды со смертью отца? Но верить в это не хотелось – так недолго и возложить вину на Дмитрия Болеславовича. А посему вернее было сказать, что в тот период все его беды удвоились. Сколько раз он согласно кивал в ответ на сказанные из лучших побуждений слова знакомых: «Ты теперь глава семьи». Эта фраза давила на него непомерным грузом долга и чужих ожиданий. А он, между прочим, всегда был слаб здоровьем: слишком хорошо знал, как прощупывают тело докторские руки, как тебя простукивают и прослушивают, что такое зонд, скальпель, санаторий. Он все ждал, когда же в нем разовьются хваленые мужские качества. Но знал за собой также и то, что легко отвлекается, что капризен и не всегда настойчив. А то бы ушел жить к Юргенсену.
Мама была несгибаемой женщиной, как в силу характера, так и в силу необходимости. Она его берегла, ради него устроилась на службу, возлагала на него все свои надежды. Конечно, он ее любил – а как же иначе? – но тут не обходилось без… трудностей. Сильные обычно идут напролом, а кто послабее – протискиваются боком. Отец, человек бесконфликтный, при столкновениях со своей благоверной и с житейской скверной прибегал к юмору и уклончивости. А посему сын, хотя и считал, что превосходит решимостью Дмитрия Болеславовича, редко шел против материнской воли.
Хотя и знал, что мама читает его дневники. Он выбирал какую-нибудь дату, скажем, за месяц вперед, и вписывал: «Самоубийство». Или: «Женитьба».
Мама тоже знала, чем припугнуть. Всякий раз, когда он порывался уйти из дома, Софья Васильевна говорила близким, причем неизменно в его присутствии: «Только через мой труп».
Ни мать, ни сын не знали наверняка о серьезности намерений друг друга.
Еще студентом он, униженный, на грани слез, стоял за кулисами Малого зала консерватории. Первое публичное исполнение его музыки прошло неудачно: слушатели явно отдавали предпочтение сочинениям Шебалина. Слова утешения пришли от возникшего рядом человека в военной форме: так началась дружба с маршалом Тухачевским. Маршал стал его покровителем, организовал для него финансовую поддержку через командующего Ленинградским военным округом. Помогал бескорыстно. А в последнее время рассказывал всем знакомым, что «Леди Макбет Мценского уезда» – это, по его мнению, первое произведение советской оперной классики.
И лишь однажды Тухачевский столкнулся с неподчинением. Когда решил, что для дальнейшей карьеры его подопечного необходим переезд в Москву, и пообещал самолично заняться этим вопросом. Но Софья Васильевна, естественно, воспротивилась: сын был слишком хрупок, слишком слаб здоровьем. Где гарантия, что без материнского догляда он будет пить молоко и есть кашу? За Тухачевским – власть, авторитет, финансовые возможности, но все же ключик от Митиной души хранился у Софьи Васильевны. А посему остался Митя в Ленинграде.
Как и его сестры, за рояль он сел в девятилетнем возрасте. Вот тогда-то мир и обрел для него четкие очертания. По крайней мере, определенный фрагмент этого мира, позволивший ему обеспечить себя до конца своих дней. Понимание рояля и самой музыки пришло к нему довольно легко, не то что понимание других материй. Он напряженно работал, ибо напряженная работа давала ему радость. Значит, планида такая, с годами все более походившая на чудо. Поскольку давала ему средства для содержания мамы и сестер. Человеком он был неординарным; да и весь их домашний уклад был неординарным, но тем не менее. Время от времени, после успешных концертов, довольный аплодисментами и гонорарами, он ощущал, что почти созрел для превращения в этого расплывчатого персонажа: главу семьи. Но бывало и по-другому: покинув родительское гнездо, женившись и став отцом, он нет-нет да и ощущал себя бесприютным ребенком.
Люди, которые не были с ним знакомы и не вдавались в подробности музыкальной жизни, считали, вероятно, что в тот раз его впервые постигла неудача. Что блистательный композитор, сочинивший в двадцать шестом году, еще девятнадцатилетним, свою Первую симфонию, которую тут же приняли Бруно Вальтер, Тосканини, Клемперер, прожил следующие десять лет на волне яркого, ничем не омраченного успеха. И люди такого сорта, убежденные, видимо, что известность зачастую влечет за собой тщеславие и заносчивость, соглашались, открыв свежий номер газеты «Правда», что отдельные композиторы склонны забывать, какой музыки ожидает от них народ. И далее: поскольку все композиторы получают зарплату от государства, то при любом отступничестве государство обязано вмешаться, одернуть зарвавшихся и добиться от них более гармоничного соответствия вкусам публики. Логично, не правда ли?
Но почему-то всегда, с самого начала выискивались те, которые точили когти о его душу: еще в студенческие годы группка ретивых однокашников добивалась, чтобы его сняли со стипендии, а потом и вовсе исключили. Почему-то Российская ассоциация пролетарских музыкантов и ей подобные объединения работников культуры с первых шагов развязывали кампанию против всего, за что ратовал он сам; точнее сказать – против всего, за что, как им грезилось, он ратовал. Они вознамерились разорвать буржуазные оковы искусства. Чтобы воспитывать композиторов из рабочих и чтобы музыка их сразу становилась понятной и близкой массам. Чайковского объявляли упадочническим композитором, а на любые экспериментальные направления навешивали ярлык «формализм».
Почему-то еще в двадцать девятом его официально раскритиковали за «отход от генеральной линии советского искусства» и не дали доучиться. Почему-то в том же самом году арестовали и расстреляли – первым из его друзей и единомышленников – Мишу Квадри, горячего сторонника его Первой симфонии.
Почему-то в тридцать втором году, когда партия распустила все независимые объединения и взяла на себя руководство вопросами культуры, это привело не к обузданию чванства, ханжества и невежества, а к их неуклонному росту. И если планы по превращению рабочего угольной шахты в сочинителя симфоний не вполне увенчались успехом, обратное происходило довольно часто. Считалось, что композитор, подобно шахтеру, обязан выдавать на-гора все больше своей продукции, а музыка его должна согревать сердце, как добытый горняком уголь согревает тело. Производительность творческого труда оценивалась бюрократами так же, как производительность любого другого труда: по выполнению или невыполнению спущенных сверху норм.
На железнодорожной станции в Архангельске, развернув закоченелыми пальцами газету «Правда», он нашел на третьей полосе заголовок, клеймивший позором невыполнение норм: «СУМБУР ВМЕСТО МУЗЫКИ». Сразу пришло решение: домой возвращаться через Москву, где есть возможность кое с кем посоветоваться. В поезде, оставляя позади заснеженные просторы, он перечитал статью раз пять-шесть. Нападки на оперу вначале потрясли его не меньше, чем отношение к его личности: после такого разноса Большой театр неминуемо должен быть снять постановку «Леди Макбет». За минувшие два года опера повсюду находила восторженный прием: от Нью-Йорка до Кливленда, от Швеции до Аргентины. В Москве и Ленинграде ее тепло встретили не только театралы и критики, но и партийно-правительственный аппарат. В ходе Семнадцатого съезда партии постановка была официально причислена к достижениям Москвы и Московской области, что ставило его работу в один ряд с производственными достижениями горняков Донбасса.
Теперь это ровным счетом ничего не значило: оперу пнули, как тявкающую собачонку, внезапно разозлившую хозяина. Попытки трезво проанализировать все составляющие этого разноса приводили к определенным выводам. В первую очередь сам успех оперы, в особенности за рубежом, обернулся против нее. Всего лишь за пару месяцев до этого «Правда» в патриотическом ключе освещала американскую премьеру в Метрополитен-опере. Теперь та же самая газета утверждала, что успех данного произведения Шостаковича за пределами Советского Союза объяснялся лишь тем, что опера «сумбурна и абсолютно аполитична», что она «щекочет извращенные вкусы буржуазной аудитории своей дергающейся, крикливой, неврастенической музыкой».
Далее, и в связи с этим, пошла, как он выражался про себя, критика из правительственной ложи – облеченные в слова ухмылки, зевки и подобострастные развороты в сторону отгороженного шторой Сталина. И вот теперь газета писала, что опера «крякает, ухает, пыхтит, задыхается», что эту «нервозную, судорожную, припадочную музыку» композитор заимствовал у джаза, что «на сцене пение заменено криком». Что опера – совершенно очевидно – слеплена для удовольствия «потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов», предпочитающих «нарочито нестройный, сумбурный поток звуков». Либретто, в свою очередь, демонстративно выхватывает из бытовой повести Лескова самые низменные эпизоды; вследствие этого все получается «грубо, примитивно, вульгарно».
Но грехи его были также политического свойства. Рецензия, написанная анонимным автором, который разбирался в музыке как свинья в апельсинах, пестрела хорошо знакомыми кислотными ярлыками. «Мелкобуржуазный», «формализм», «мейерхольдовщина», «левацкий». Композитор сочинил не оперу, а отрицание оперы, где музыка умышленно сделана «шиворот-навыворот». Она почерпнута из того же ядовитого источника, что и «левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке». Для доходчивости, никогда не лишней, левачество характеризовалось как бесконечно далекое «от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы».
«Имеющий уши да услышит», нередко повторял он сам. Но даже тот, кто глух, как пень, мог услышать, о чем вещала статья «Сумбур вместо музыки», и предугадать возможные последствия. Три фразы были направлены не столько против его теоретических заблуждений, сколько против него самого. «Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория». Тут впору прощаться с членским билетом Союза композиторов. «Опасность такого направления в советской музыке ясна». Тут впору прощаться с сочинительством и концертной деятельностью. И наконец: «Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо». Тут впору прощаться с жизнью.
Однако еще три дня назад он был молод, уверен в своем даровании, благополучен. И если даже у него хромала политическая подкованность – то ли в силу его характера, то ли в силу наследственной предрасположенности, – ему, по крайней мере, было к кому обратиться. Итак, в Москве он первым делом поехал к Платону Михайловичу Керженцеву. Для начала обрисовал ему свой план ответных действий, продуманный еще в поезде: описать разгром оперы, дать аргументированное опровержение критических замечаний и направить письмо в редакцию газеты «Правда». Например… Но Керженцев, всегда интеллигентный и доброжелательный, даже слушать не стал. Речь ведь шла не просто об отрицательной рецензии, подписанной критиком, который меняет свое мнение в зависимости от дня недели или несварения желудка. Речь шла о редакционной статье «Правды»: это не какое-нибудь проходное суждение, которое легко отмести, а политическое заявление, сделанное на самом верху. Можно сказать, священное писание. У Дмитрия Дмитриевича остается единственная возможность: публично покаяться, признать свои ошибки, объяснить такое отступление от генеральной линии безрассудством молодости. Помимо этого, следует декларировать свое твердое намерение погрузиться в песни народов СССР, которые помогут ему переориентироваться на все подлинное, популярное, мелодичное. Согласно Керженцеву, только так Дмитрий Дмитриевич мог бы вернуть себе утраченные позиции.
В Бога он не верит. Однако его крестили по православному обычаю, и время от времени, оказываясь у открытых дверей храма, он заходил поставить свечку за здравие близких. И Библию хорошо знает. Так что идея греха и механизмы его отпущения ему известны. Прегрешение, осознание причиненного зла, исповедь, покаяние, отпущение греха. Бывают, конечно, столь тяжкие грехи, что даже священник не может гарантировать их отпущения. Все это так, но он знал необходимые фразы и уложения, приемлемые для любой конфессии.
Вслед за тем он посетил маршала Тухачевского. Красному Наполеону еще не исполнилось пятидесяти; это был мужчина крутого нрава и приятной наружности, с четко очерченным мыском темных волос. Выслушав своего подопечного, он здраво проанализировал ситуацию и сделал стратегическое предложение, простое, смелое и великодушное. Он, маршал Тухачевский, обратится с ходатайством лично к товарищу Сталину. У Дмитрия Дмитриевича упала гора с плеч. С легким головокружением и легким сердцебиением он наблюдал, как маршал устраивается за письменным столом, как выравнивает приготовленный лист бумаги. Но стоило этому человеку в военной форме взять ручку и начать писать, как с ним произошла разительная перемена. Его прошиб пот, который струился от мыска темных волос по лбу, а сзади от шеи – за ворот. Одна рука суетливо промокала лицо носовым платком, другая, запинаясь, водила пером по бумаге. Такое немаршальское волнение сильно обескураживало.
В Анапе с них тоже катился пот. Крым плавился от зноя, а он плохо переносил жару. Они полюбовались пляжем «Малая бухта», но у него даже не возникло мысли окунуться. Во время прогулки по тенистой роще над городом его искусали комары. Потом их с Таней окружила и чуть-чуть не загрызла свора диких собак. Ну ничего, обошлось. Они вышли к маяку, и пока Таня стояла, запрокинув голову, он неотрывно разглядывал милую складочку кожи у основания ее шеи. Они побывали у древних каменных ворот, сохранившихся от османской крепости, а он думал лишь о том, как напрягаются при ходьбе Танины икры. В течение этих двух недель жизнь его полнилась только любовью, музыкой и тучами комаров. Любовь – в сердце, музыка – в голове, комариные укусы – на коже. Без насекомых не обходится даже в райских кущах. Но он не держал на них зла. Они ловко выбирали места, до которых самому не дотянуться; от укусов спасал одеколон «Гвоздика», содержащий цветочные экстракты. Если Таня прикасалась к его коже, завидев комара, и оставляла на ней запах гвоздики, мыслимо ли было злиться на какого-то кровососа?
Девятнадцатилетние, они верили в Свободную Любовь и с азартом исследовали не столько курортные достопримечательности, сколько тела друг друга. Отбросив закоснелые догматы церкви, общества, семьи, в этой поездке они стали жить как муж с женой, не связывая себя узами брака. Свобода будоражила их не меньше, чем сама близость; но скорее всего, эти вещи были неразрывно связаны.
Однако близость не могла продолжаться с утра до вечера. Если Свободная Любовь и решала самую насущную проблему, то не избавляла от всех прочих. Конечно, они любили друг друга, но постоянно находиться вместе – даже при его гонораре в триста рублей и ранней славе – было нелегко. В процессе работы он всегда знал, как поступить, и принимал верные решения, каких требовала его музыка. А когда дирижеры или солисты деликатно предлагали: может быть, лучше будет вот так и вот этак, он всегда отвечал: «Вы совершенно правы. Но давайте пока оставим как есть. А к следующему разу я учту ваше замечание». Все были довольны, включая его самого: он не собирался идти у них на поводу. Потому что собственная интуиция всегда подсказывала ему верные решения.
Но если сделать шаг в сторону от музыки… ситуация решительно менялась. Он начинал нервничать, путался в мыслях и нередко принимал решение только потому, что стремился поскорее закрыть сложный вопрос, а не потому, что твердо знал, чего хочет. Возможно, из-за рано проявившихся способностей он не приобрел полезный опыт нормального взросления. Так или иначе, практические житейские дела, включая дела сердечные, вызывали у него серьезные затруднения. А посему в Анапе он, наряду с восторженной влюбленностью и безудержной телесной близостью, открыл для себя неведомый мир, где царили неловкие паузы, неясные намеки, непродуманные планы.
Настало время уезжать: ему – в Ленинград, ей – в Москву. Но встречи продолжались. Однажды, дописывая какую-то пьесу, он попросил Таню с ним посидеть: в ее присутствии ему было спокойно. Через некоторое время в комнату вошла его мать. Глядя в упор на Таню, она изрекла:
– Выйди, дай Мите закончить работу.
А он возразил:
– Нет, пусть Таня сидит здесь. Это мне помогает.
Редчайший случай: он воспротивился материнской воле. Поступай он так чаще, жизнь могла бы сложиться по-другому. А может, и нет – как знать? Кому под силу тягаться с Софьей Васильевной, переборовшей самогó Красного Наполеона?
Отдых в Анапе превратился в идиллию. Но любая идиллия по определению распознается только задним числом. Да, ему открылась любовь, но постепенно стало открываться и кое-что другое: любовь отнюдь не помогает «найти себя», не обволакивает тебя целиком, как спасительный одеколон «Гвоздика», а, наоборот, влечет за собой стеснение и нерешительность. Любовь к Тане наиболее явственно чувствовалась на расстоянии. А когда они были рядом, с обеих сторон возникали некие ожидания, которые он либо не распознавал, либо оставлял без ответа. Вот, к примеру, отправились они на Кавказ, но отнюдь не как муж и жена, а каждый сам по себе – свободные, равноправные личности. Но с какой целью: покончить с игрой в мужа и жену? Вроде как-то нелогично.
Только обманываться не стоило. Несовместимость их заключалась среди прочего в том, что при совпадении произносимых ими фраз его любовь была сильнее Таниной. Чтобы вызвать у нее ревность, он рассказывал, как флиртовал с другими, даже крутил интрижки, реальные или придуманные; она, похоже, злилась, но совсем не ревновала. Не раз он грозился покончить с собой. Однажды объявил о своей женитьбе на балерине, чего в принципе не исключал. Таня со смехом отмахивалась. А потом взяла да и выскочила замуж. Отчего чувства его только укрепились. Он умолял ее подать на развод и стать его женой; опять грозил наложить на себя руки. Но все напрасно.
В начале их знакомства она с нежностью сказала, что ее привлекли в нем чистота и открытость. Но коль скоро эти его качества не укрепили Танину любовь, ему теперь захотелось поменяться с нею местами. Нет, сам он не видел в себе ни чистоты, ни открытости. Похоже, эти слова имели своей целью удержать его на привязи.
Мысли сами собой перешли к проблеме честности. Честности в жизни, честности в искусстве. Как они связаны и связаны ли вообще. И каковы у него запасы честности, и надолго ли этих запасов хватит. Своим друзьям он заявил: если они когда-нибудь услышат, что он «отмежевался» от «Леди Макбет», то пусть знают, что он это проделал на сто процентов честно.
Он считает, что способен на сильные эмоции, но плохо умеет их выражать. Тут, впрочем, видится слишком большая поблажка самому себе, а следовательно, нечестность. По правде говоря, у него всегда была предрасположенность к неврастении. Ему казалось, он знает, чего хочет, но, добившись желаемого, он терял всякий интерес; а выпустив желаемое из рук, стремился заполучить обратно. Его, конечно, избаловали, ведь он рос «маменькиным сынком» и братом двух сестер; а вдобавок стал еще и человеком искусства, от которого ожидается «артистический темперамент»; а вдобавок еще и знаменитостью, отчего появилось в нем высокомерие, какое дает стремительная слава. Малько в лицо упрекал его за «растущее самомнение». Но в основе всего лежала тревога. Это чистой воды неврастения. Нет, хуже: истерия. От кого ему достался такой характер? Явно не от отца и даже не от матери. Что ж, от своей натуры не уйти. Об этом тоже позаботилась судьба.
Умом он понимает, каков для него идеал в любви…
Тут лифт миновал третий этаж, четвертый – и остановился перед ним. Он поднял с пола чемоданчик; дверцы открылись, и на площадку вышел незнакомец, насвистывая «Песню о встречном». Вид автора музыки прервал мелодию на середине фразы.
Умом он понимает, каков для него идеал в любви. Как нельзя лучше выразил его чаяния Мопассан в новелле о молодом командире гарнизона некоего средиземноморского города. Антиба, кажется. Так вот: офицер этот уходил гулять в сосновый лес, где частенько встречал жену местного коммерсанта, мсье Париса. И естественно, влюбился. Женщина раз за разом отвергала его ухаживания, пока в один прекрасный день не сообщила, что ее супруг отбывает по делам. Они назначили свидание, но в последнюю минуту пришла телеграмма: завершив дела, муж собирался приехать домой тем же вечером. Сгорая от страсти, командир гарнизона объявил осадное положение и приказал до утра запереть городские ворота. Перед сошедшим с поезда мужем часовые скрестили штыки; пришлось ему вернуться на станцию и провести ночь в зале ожидания. И все это было устроено ради того, чтобы офицер мог насладиться быстротечными часами любви.
Если честно, вообразить себя на гарнизонной службе в крепости или хотя бы у полуразрушенных османских ворот в сонном курортном городе у Черного моря он не мог. Но здесь важен принцип. Вот так любят: не ведая ни страха, ни преград, ни тревог о завтрашнем дне. И ни о чем не жалея впоследствии.
Благородные слова. Благородные чувства. И все же такие поступки выходили за пределы его понимания. Он мог представить, что на такую выходку был способен молодой лейтенант Тухачевский, стань он командиром гарнизона. Что же касалось его собственной безумной страсти… тут совсем другая история. Как-то поехал он на гастроли вместе с Гауком: дирижер неплохой, но обыватель до мозга костей. Дело было в Одессе. За пару лет до женитьбы на Ните. В ту пору он еще не терял надежды разжечь у Тани ревность. К слову сказать, и у Ниты, пожалуй, тоже. После отличного ужина он, подцепив двух девушек, перешел в бар гостиницы «Лондонская». Не исключено, правда, что его самого подцепили. Во всяком случае, они еще в ресторане подсели к нему за столик. Обе – миловидные; его сразу потянуло к той, которую звали Розалия. За беседами о литературе и искусстве он оглаживал ее бедра. Потом вызвался отвезти девушек домой на извозчике и по пути беззастенчиво трогал Розалию всю, а подружка отводила глаза. Сомнений не было: он влюбился. На другой день красавицы собирались уезжать на пароходе в Батум, и он примчался их проводить. Но дальше причала девушки не уехали: подругу Розалии арестовали за торговлю собственным телом.
Такого поворота событий он не ожидал. Но успел безоглядно полюбить Розочку. Как он переживал: бился головой о стену, рвал на себе волосы, словно герой дешевого романа. Гаук сурово указывал, что от таких девиц лучше держаться подальше: они – шмары и редкостные прохиндейки. Но это лишь подхлестнуло его чувства. Не каждый день случаются такие приключения. Он до того раcпалился, что едва не заключил брак с Розочкой. Правда, на пороге одесского загса сообразил, что паспорт остался в гостинице. А потом каким-то образом… теперь даже не вспомнить, как и почему… история закончилась тем, что в три часа ночи под проливным дождем он убегал с парохода, который только-только пришвартовался в сухумском порту. А из-за чего был весь сыр-бор?
Но что самое главное: он не ведал никаких сожалений. Ни преград, ни тревог о завтрашнем дне.
Как вышло, что он едва не женился на профессиональной жрице любви? В силу обстоятельств, предполагал он: просто возникла некая folie à deux[1]. Ну и еще из духа противоречия. «Мама, это Розалия, моя жена. Ты ведь не удивляешься, правда? Разве ты не читала мой дневник, где я своей рукой написал: „Женитьба на проститутке“? Согласись, хорошо, когда у женщины есть профессия». Если что, развод получить – пара пустяков, так почему бы и нет? Влюбился он без памяти, через пару дней они едва не расписались, а еще через пару дней он убегал от нее под дождем. Тем временем престарелый Гаук, сидя в ресторане гостиницы «Лондонская», мучился дилеммой: одну заказать котлетку или две? И кто взял бы на себя смелость указывать ему, что лучше? Ответ приходит позже, задним числом.
Сам он – человек скованный, а тянется всегда к бойким женщинам. Не отсюда ли проистекают его неудачи?
Он закурил следующую папиросу. Между искусством и любовью, между гонителями и гонимыми всегда вклиниваются папиросы. Ему представилось, как сменивший Закревского сотрудник органов, сидя у себя в кабинете, протянет ему пачку «Беломора». А он откажется и в ответ предложит свой «Казбек». Тогда следователь, в свою очередь, тоже откажется, и каждый положит на стол свою пачку, завершив тем самым ритуальные жесты. Деятели искусства предпочитают «Казбек»: даже рисунок пачки наводит на мысль о свободе – горец на коне, летящий вдаль на фоне заснеженных вершин. Судачили, будто изображение утвердил не кто-нибудь, а Сталин, хотя сам Великий Вождь курит особый сорт. Папиросы изготавливаются для него по спецзаказу – нетрудно вообразить, с каким тщанием и благоговейным ужасом. Впрочем, Сталин не так прост, чтобы взять да и зажать в зубах «Герцеговину Флор». Нет, он привычно отламывает картонный мундштук и набивает трубку папиросным табаком. На его письменном столе, как рассказывали сведущие люди несведущим, вперемешку валяются клочки папиросной бумаги, обрывки картона и кучки пепла. Это каждый знает – вернее, многократно слышал, – поскольку даже самые банальные подробности о привычках Сталина передаются из уст в уста.
В присутствии Сталина никто не осмеливается курить «Герцеговину Флор», разве что угощает сам вождь, но и в этом случае посетитель робко норовит приберечь папиросу, чтобы впоследствии похваляться ею, как священной реликвией. Непосредственные исполнители приказов Сталина обычно курят «Беломор». Сотрудники НКВД обычно курят «Беломор». На пачке изображена карта Российской Федерации, а на ней красной линией обозначен Беломорско-Балтийский канал. В начале тридцатых годов это Великое Достижение Советской Власти строили заключенные. Сей факт, вопреки обычной практике, широко использовался в пропагандистских целях. Сообщалось, что на строительстве канала заключенные не только трудились на благо Родины, но и получали возможность «перековаться». Что ж, кое-кто из них пришел, вероятно, к нравственному совершенствованию, только поговаривали, что из ста тысяч строителей полегла примерно четверть – как видно, те, которые не перековались. Лес рубят – щепки летят; это и были щепки. А сотрудники НКВД закуривали «Беломор» и, выпуская дымок, прикидывали, где бы еще рубануть топором.
Наверняка у него во рту была папироса, когда перед ним возникла, уходя с теннисного корта, старшая из трех сестер Варзар – Нина, сиявшая от удовольствия, смеха и пота. Спортивная, уверенная в себе, окруженная поклонниками златовласка, – казалось, из-за отблеска волос даже глаза у нее лучились золотом. Будучи выпускницей физического факультета и любительницей фотографии, она устроила у себя дома небольшую фотолабораторию. Особой тягой к домашнему очагу девушка, правда, не отличалась, да и он, между прочим, тоже. На страницах какого-нибудь романа его жизненные тревоги, достоинства и слабости, некоторая склонность к истерии – все это закружилось бы в водовороте любви и прибилось к блаженству тихой семейной гавани. Но одно из множества житейских разочарований заключается в том, что жизнь – это не роман и не новелла Мопассана. Скорее, это сатирическая повесть Гоголя.
А посему они с Ниной встретились, сблизились, но он все равно пытался вернуть себе Таню, увести ее от мужа, и лишь когда Таня забеременела, они с Ниной подали заявление, однако в последнюю минуту он дрогнул, не явился в загс, сбежал и затаился; впрочем, они не расстались и через несколько месяцев все же оформили отношения, а дальше Нина завела роман на стороне, и решено было развестись, а дальше он тоже завел роман на стороне, и они разъехались, затеяли развод, дали объявление в газету, но после расторжения брака оба поняли, что совершили ошибку, и через полтора месяца расписались вновь, хотя сложности на этом не кончились. В разгар тех перипетий он написал своей возлюбленной, Елене: «Человек я очень слабохарактерный, и смогу ли я достичь своего счастья, не знаю». Потом Нита забеременела, и жизнь по необходимости худо-бедно вошла в привычное русло. С той только поправкой, что к началу високосного 1936 года Нита была уже на четвертом месяце, а на двадцать шестой день того же года Сталин решил послушать оперу.
Прочитав редакционную статью, он первым делом телеграфировал своему другу Гликману, чтобы тот поехал на ленинградский главпочтамт и оформил подписку на тематические вырезки из прессы. Эти вырезки, ежедневно доставляемые Гликманом ему домой, причем в большом количестве, они читали вместе. В купленный альбом, прямо на первую страницу, он поместил «Сумбур вместо музыки». Гликман усмотрел в этом ненужное самоедство, но он твердил: «Пусть будет, пусть будет». В тот же альбом вклеивались и следующие статьи, одна за другой, по мере их поступления. Никогда прежде у него не доходили руки до подшивки рецензий, но тут было совсем другое дело. Теперь не только созданная им музыка стала мишенью критики, но и его существование как таковое подвергалось редакционному неодобрению.
Бросалось в глаза, что музыковеды, которые в течение двух лет на все лады расхваливали «Леди Макбет», теперь вдруг перестали находить в этой опере что бы то ни было положительное. Некоторые откровенно признавались в своих прошлых заблуждениях и объясняли, что после статьи в «Правде» шелуха отпала от глаз их. Как можно было столь глубоко заблуждаться по поводу этой музыки и ее сочинителя! Наконец-то они узрели, какую опасность для истинной природы отечественной музыки несут формализм, космополитизм и левачество! Помимо этого, он про себя отмечал, кто из музыкантов теперь публично ратует против его творчества, кто из друзей и знакомых старается от него отмежеваться. С тем же видимым спокойствием читал он и письма от рядовых граждан, непонятно как заполучивших его домашний адрес. Многие советовали ему отрубить себе ухо, на которое медведь наступил, и желательно вместе с головой. А потом в газетах – причем в самых нейтральных фразах – замелькало выражение, от которого уже было не отмыться. Например: «Сегодня состоится концерт из произведений врага народа Шостаковича». Такие ярлыки никогда не навешивались просто так, без указания сверху.
Его мучил вопрос: почему советская власть вдруг вплотную занялась его музыкой и его персоной? Советская власть всегда больше интересовалась не нотами, а словами: не зря же именно писатели, а не композиторы звались инженерами человеческих душ? Писателей громили на первой полосе, а композиторов на третьей. Это что-нибудь да значило: порой дистанция в две газетные полосы знаменовала границу между жизнью и смертью.
Инженеры человеческих душ: холодный, механистический штамп. Но все же… чем еще заниматься деятелям искусства, если не человеческой душой? Речь, конечно, не о тех, кто играет сугубо декоративную роль или служит комнатной собачонкой для состоятельных и облеченных властью. Сам он всегда был далек от барства: и в чувствах, и в политике, и в подходе к творчеству. В минувшую оптимистическую эпоху (притом что минула она пару лет назад), когда пересматривались виды на будущее не только отечества, но и земного шара, создавалось впечатление, что все искусства вскоре сойдутся в славном едином порыве. Музыка и литература, театр и кино, архитектура, балет, фотография станут развиваться в динамическом содружестве, не просто отражая общество или критикуя и высмеивая его недостатки, но занимаясь созиданием этого самого будущего. А деятели искусства по собственной воле, без какого-либо политического принуждения будут способствовать формированию и расцвету человеческих душ.
Почему бы и нет? Это же извечная мечта любого художника. Или, как ему теперь думалось, извечная иллюзия. Ибо партийно-правительственный аппарат не замедлил взять такое содружество под свой контроль, чтобы свести на нет свободу и фантазию, многозначность и нюансировку, без которых искусство выхолощено. «Инженеры человеческих душ». С ними связаны две проблемы. Во-первых, есть немало людей, которые премного благодарны, но не нуждаются в обработке своих душ. Каждому из них неплохо живется с той душой, которая вместе с ним пришла в этот мир; а если таких пытаются рихтовать, они вечно упираются. На открытой эстраде состоится такой-то концерт, приходите, товарищ. Да-да, есть мнение, что ваше присутствие обязательно. Ну разумеется, дело это сугубо добровольное, но, по нашему глубокому убеждению, не появиться там будет ошибкой…
И во-вторых, есть проблема еще более существенная. Откуда возьмутся инженеры по обработке уже имеющихся инженеров?
Ему запомнился концерт в городском парке Харькова. Его Первая симфония взбудоражила свору бродячих собак. В толпе зазвучали смешки, оркестр все прибавлял громкости, собаки заливались еще пуще, слушатели откровенно веселились. А теперь его музыка взбудоражила совсем другую свору. История повторилась дважды: первый раз в виде фарса, второй – в виде трагедии.
Становиться персонажем такой исторической драмы ему не улыбалось. Но порой, когда бессонными предрассветными часами в голове проносились самые разные мысли, он думал: вот, стало быть, каков финал. Все чаяния, идеалы, надежды, успехи, наука, искусство, совесть – все приходит к такому концу: ты стоишь у лифта с чемоданчиком, в котором папиросы, смена белья и зубной порошок, и ждешь, когда тебя заберут.
Усилием воли он направил свои мысли к другому композитору, с совершенно другим чемоданом. Прокофьев сразу после революции уехал из России на Запад и впервые вернулся на родину только в двадцать седьмом году. Сергей Сергеевич – светский лев, ценитель дорогих удовольствий. Принадлежит, между прочим, к секте христианской науки, хотя это к делу не относится. Таможенники на границе с Латвией светскими львами явно не были, да к тому же умы их занимали шпионы, саботаж и контрреволюция. Открывают они чемодан Прокофьева, а там, прямо сверху, непонятно что: пижама. Развернули ее, вытащили на свет, повертели так и этак, недоуменно переглянулись. Сергей Сергеевич, надо думать, смутился. Во всяком случае, объясняться пришлось его жене. Но Пташка после долгих лет на чужбине забыла, как будет по-русски «одежда для сна». Кое-как объяснились жестами, и супружескую чету пропустили через границу. Так или иначе, эта история точно характеризовала Прокофьева.
Альбом. Кто будет покупать альбом, чтобы вклеивать туда разносные статьи о самом себе? Помешанный? Сатирик? Простой русский человек? Ему вспомнился Гоголь: тот, бывало, подходил к зеркалу и неприязненно, как чужой, окликал себя по имени. Разве это признак помешательства?
Официальный статус его звучал так: «беспартийный большевик». Сталин любил повторять, что большевика украшает скромность. Да-да; а Россия – родина слонов.
Когда родилась Галина, они с Нитой в шутку обсуждали, не назвать ли ее Сумбуриной. Вот это был бы жест иронической бравады. Нет, самоубийственной глупости.
Письмо, написанное Тухачевским Сталину, осталось без ответа. Рекомендации, данные Керженцевым Дмитрию Дмитриевичу, остались без внимания. Не стал он делать никаких заявлений, извиняться за юношеский максимализм, публично каяться. Правда, отозвал свою Четвертую симфонию, в которой тот, кто имеет уши, да не слышит, без труда обнаружил бы возмутительное кряканье, уханье и пыхтение. Между тем все его оперы и балеты исключили из репертуара. Композиторская стезя резко оборвалась.
А позднее, весной тридцать седьмого, состоялся его Первый Разговор с Властью. Нет, с Властью он, конечно, беседовал и прежде; точнее, Власть беседовала с ним: официальные лица, чиновники, идеологи давали советы, выдвигали предложения, ставили ультиматумы. Власть беседовала с ним и публично, через печатные органы, и приватно, нашептывая на ухо. За последнее время Власть его разгромила, отняла средства к существованию, приказала каяться. Объяснила, как он должен работать и как жить. А теперь, по зрелом размышлении, давала понять, что и жить-то ему совсем не обязательно. Власть решила поговорить с ним лицом к лицу. У Власти было имя: Закревский; Власть эта, в том обличье, в каком являла себя гражданам вроде Дмитрия Дмитриевича, обитала в Большом доме на Литейном проспекте. Многие из побывавших у нее на приеме как в воду канули.
Повестка предписывала явиться в субботу утром. Своих домашних и друзей он заверил, что это простая формальность, которая предпринимается автоматически, по следам разгромных статей в «Правде». Верилось в это с трудом – и ему самому, и, наверное, близким. Мало кого вызывали в Большой дом для обсуждения вопросов музыковедения. Естественно, он проявил пунктуальность. Власть поначалу держалась в рамках приличий, даже вежливо. Закревский расспрашивал о работе, о профессиональных делах, поинтересовался творческими планами. В ответ он выпалил, почти непроизвольно, что пишет симфонию о Ленине – это прозвучало вполне убедительно. Затем счел возможным упомянуть травлю в прессе и приободрился, когда следователь почти небрежно отмахнулся от таких проблем. Далее был задан вопрос о его друзьях, о тех, с кем он встречается чаще всего. Он затруднился с ответом. Тогда Закревский подсказал:
– Вы, как я понимаю, знаете маршала Тухачевского?
– Да, знаю.
– Расскажите, как вы познакомились.
Он вспомнил, как произошло их знакомство за кулисами Малого зала. Объяснил, что маршал, известный ценитель музыки, часто посещает его концерты, сам играет на скрипке и в свободное время даже мастерит скрипки своими руками. Маршал не раз приглашал его к себе домой, они вместе музицировали. Это хороший скрипач-любитель. В каком смысле «хороший»? Бесспорно, одаренный. И притом постоянно совершенствуется.
Но Закревского мало интересовали успехи маршала в области аппликатуры и смычковой техники.
– Вы часто у него бывали?
– Время от времени заходил.
– Время от времени за какой период? За восемь лет, за девять, десять?
– Да, примерно так.
– Получается четыре-пять посещений в год. Стало быть, в общей сложности раз сорок-пятьдесят?
– Нет, меньше. Я не считал. Меньше.
– Но вы с маршалом Тухачевским – близкие друзья?
Задумавшись, он ответил не сразу.
– Нет, мы не близкие друзья, мы просто хорошие знакомые.
Он умолчал о том, что маршал пробивал для него материальную помощь, давал советы, обращался с ходатайством к Сталину. Возможно, Закревский и так об этом знал, а нет – и не надо.
– Кто еще бывал у вашего хорошего знакомого во время ваших сорока или пятидесяти визитов?
– Почти никого. Одни родственники.
– Одни родственники? – с понятным сарказмом переспросил следователь.
– Ну, музыканты. Музыковеды.
– А из партийного руководства никто, случайно, не захаживал?
– Нет, никогда.
– Уверены?
– Понимаете, у него иногда собиралась довольно большая компания. И мне точно не… Я же просто на рояле играл…
– А разговаривали о чем?
– О музыке.
– И о политике.
– Нет.
– Да ладно, ладно вам: кто бы упустил возможность потолковать о политике с самим Тухачевским?
– Встречи же происходили, так сказать, на досуге. Он просто общался со знакомыми, с музыкантами.
– А партийные работники не заходили пообщаться на досуге?
– Нет, никогда. В моем присутствии разговор вообще не касался политики.
Следователь долго сверлил его взглядом. А затем сменил тон, будто для того, чтобы собеседник осознал всю серьезность и даже опасность своего положения.
– А вы подумайте, припомните. Быть такого не может, чтобы вы, по собственному признанию, десять лет ходили к маршалу Тухачевскому домой как «хороший знакомый» и не вели разговоров о политике. Ну, например, вы слышали, как он обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина? Что вам об этом известно?
Тут он понял, что это конец. «И чей-нибудь уж близок час». Он попытался растолковать самыми простыми словами, что в доме у маршала Тухачевского никогда не велись политические дискуссии, что там устраивались сугубо музыкальные вечера, а государственные дела оставлялись у порога, вместе с верхней одеждой. Возможно, он выбрал не самые удачные выражения, но Закревский так или иначе слушал вполуха.
– А я вам настоятельно рекомендую вспомнить тот разговор, – процедил следователь. – Некоторые из тех, кто бывал с вами в гостях у Тухачевского, уже дали нам показания.
Тогда до него дошло, что Тухачевский определенно арестован, что маршальская карьера закончена и жизнь тоже, но следствие только начинается и скоро все окружение маршала будет стерто с лица земли. А виновен или нет какой-то там композитор – неважно. Насколько правдивы его ответы – неважно. Решение уже принято. И если им потребуется доказать, что заговор – недавно раскрытый или недавно выдуманный – успел так широко раскинуть свои зловещие сети, что в них попался даже известнейший – хотя и намедни разжалованный – композитор, то они это докажут. Отсюда и будничность следовательского тона при завершении допроса.
– Ладно. Сегодня суббота. Двенадцать часов дня. Можете идти. Я даю вам двое суток на размышление. К понедельнику, ровно к двенадцати дня, советую вам вспомнить все. Каждую подробность заговора против товарища Сталина – вы один из главных свидетелей.
Это конец. Содержание допроса он пересказал Ните, и в ее участливых словах прочел то же самое: это конец. Его долгом было защитить близких, а для этого требовалось сохранять присутствие духа, но им овладело неистовство. Он сжег все бумаги, которые могли показаться компроматом; да только если заклеймили тебя как врага народа и как сообщника пресловутого убийцы, компроматом становится все, что вокруг тебя. Хоть всю квартиру сжигай. Он боялся за Ниту, за мать, за Галю, за всех, кто открывал или закрывал двери его дома.
И от судеб защиты нет. А посему в тридцать лет он сгинет. Старше, конечно, чем Перголези, но моложе Шуберта. И даже самого Пушкина, к слову. Как имя, так и музыка его канут в небытие. Даже следов не останется – будто никогда и не существовало. Будто он – допущенная, но тотчас же исправленная ошибка; лицо на фотографии, которое было, да сплыло при последующей печати. А если, паче чаяния, в будущем его извлекут на свет, что при нем окажется? Четыре симфонии, один фортепианный концерт, пара оркестровых сюит, две пьесы для струнного квартета, но при этом законченных струнных квартетов – ни одного, какие-то фортепианные сочинения, соната для виолончели, две оперы, кое-какая музыка к фильмам и балетам. Чем он запомнится? Оперой, которая принесла ему позор, симфонией, которую осмотрительно отозвал сам? Разве что Первой симфонией, которая будет исполняться в качестве жизнерадостной прелюдии на концертах зрелых композиторов, коим повезет его пережить.
Но даже это, как он понимал, самообман. Его собственные суждения никакой роли не играют. Как будущее решит, так и решит. Например, что музыка его не имеет веса. Что он, возможно, и добился бы чего-нибудь как композитор, если бы под влиянием уязвленного самолюбия не примкнул к предательскому заговору против главы государства. Кто знает, чему поверит будущее, а чему нет? На будущее мы возлагаем слишком уж большие надежды, все ждем, что оно поспорит с настоящим. Он представил, как Галя, шестнадцатилетняя, выходит из детского дома где-нибудь в Сибири, считая, что жестокие родители бросили ее на произвол судьбы, и ни сном ни духом не ведая, что отец ее написал какую-то музыку, хотя бы одну строчку.
Когда в его адрес впервые зазвучали угрозы, он сказал друзьям: «Я буду писать музыку всегда, всегда, пока я буду жив. Если я потеряю обе руки, я возьму перо в зубы!» В этой фразе прозвучал вызов, имевший целью поднять общий дух, в том числе и его собственный. Однако отрубать ему руки, его маленькие, «не пианистические» руки никто не планировал. Вероятно, для него планировались пытки; в таком случае он тотчас же согласится на все, что ему велят, – боли он не переносит. Ему предъявят список имен, и он потянет за собой всех. Сначала коротко скажет «нет», но тут же спохватится: «да, да, да и еще раз да». Да, я в это время находился в квартире маршала; да, я слышал все, что, по вашим сведениям, он говорил; да, военачальник такой-то и государственный деятель такой-то были участниками заговора, я сам все видел и слышал. И никакого тебе драматического отрубания рук, а просто, по-деловому – пуля в затылок.
Эти его слова – в лучшем случае глупое бахвальство, а в худшем – не более чем фигура речи. Но Власть не интересуют фигуры речи. Власть интересуют голые факты, и язык ее состоит из таких фраз и эвфемизмов, которые призваны либо пропагандировать, либо маскировать эти факты. В сталинской России нет композиторов, которые пишут музыку, взяв перо в зубы. Композиторы нынче бывают только двух сортов: либо живые и запуганные, либо мертвые.
Совсем недавно он ощущал в себе несокрушимость юности. Более того, ее нетленность. А за этим, под этим скрывалось убеждение в истинности и правоте своего дарования, уж какое есть, и своей музыки – уж какую сочинил. Это убеждение нисколько не пошатнулось. Оно просто сделалось полностью никчемным.
В субботу вечером, а затем и вечером в воскресенье он выпил, чтобы поскорее уснуть. Требовалось ему немного. Он быстро хмелел: от пары рюмок уже тянуло прилечь. Но эта слабость давала определенное преимущество. Выпил – и отдыхай, пока другие напиваются. Зато утром встаешь со свежей головой, работа спорится.
В Анапе практиковалось лечение виноградом и виноградным соком. Однажды он в шутку сказал Тане, что предпочел бы лечение водкой. А посему теперь два вечера кряду назначал себе алкогольную терапию.
Наутро в понедельник он поцеловал Ниту, на прощанье прижал к себе Галю и поехал автобусом в сторону мрачного серого здания на Литейном. Как всегда пунктуальный, он и на встречу со смертью отправился к назначенному часу. Окинул беглым взглядом Неву, которая переживет их всех. В Большом доме обратился к дежурному. Солдатик сверился со списком, но фамилии Шостакович не нашел. Переспросил. Пришлось повторить. Солдатик вновь углубился в изучение списка.
– Вы к кому? По какому вопросу?
– К следователю Закревскому.
Чекист медленно покивал. И, не поднимая головы, сказал:
– В списке вас нету. Закревского сегодня не будет, так что заниматься вами некому. Можете идти.
Так окончился его Первый Разговор с Властью.
Он пошел домой. Заподозрил подвох: за ним теперь будут следить, чтобы разом взять всех его друзей и знакомых. Но оказалось, что ему выпало небывалое везенье. В промежутке от субботы до понедельника Закревский сам вышел из доверия. Следователь под следствием. Тюремщик в тюрьме.
А если из Большого дома человек отпущен без подвоха, значит имела место какая-то недоработка. Дело Тухачевского уже не закроют, а значит, отсутствие Закревского – лишь небольшое промедление. Скоро придет новый Закревский, а следом и новая повестка.
Три недели спустя после ареста маршал был расстрелян вместе с другими военачальниками. Направленный против товарища Сталина заговор армейской верхушки успели раскрыть вовремя. Из ближайшего окружения маршала был арестован и расстрелян их общий друг, Николай Сергеевич Жиляев, выдающийся музыковед. На очереди, как видно, было раскрытие заговора музыковедов, потом – композиторов, потом тромбонистов. А что такого? «Иногда вовсе нет никакого правдоподобия».
Казалось бы, совсем недавно они все смеялись, когда профессор Николаев определил, кто такой музыковед. Вообразите, говорил профессор, что мы едим яичницу. Приготовила ее моя домработница Паша, и вот мы едим. Тут появляется человек, который эту яичницу не приготовляет и не ест, но говорит о ней, – вот это и есть музыковед.
Но теперь, когда и музыковедов начали расстреливать, шутка уже казалась совсем не смешной. Николаю Сергеевичу Жиляеву инкриминировали целый ряд преступлений: монархизм, терроризм и шпионаж.
А посему начались эти ночные бдения на лестничной площадке. И он был в этом не одинок. В городе нашлось немало таких, кто хотел избавить близких от зрелища своего ареста. Каждую ночь он действовал заведенным порядком: опорожнял кишечник, целовал спящую дочку, целовал неспящую жену, принимал у нее из рук чемоданчик и затворял входную дверь. Как будто собирался в ночную смену. В каком-то смысле так и было. А потом стоял и ждал, размышляя о прошлом, опасаясь за будущее, скрашивая недолгое настоящее папиросами. Чемоданчик прижимался к ноге, словно хотел приободрить и его, и других; выполнял он и сугубо практическую задачу: показывать окружающим, что ты – не жертва обстоятельств, а хозяин положения. Считалось, что человек, уходящий из дома с чемоданчиком, вернется. В отличие от человека, которого вытаскивают из постели в пижаме. Так это или не так – не важно. А важно другое: ты своим видом показываешь, что страха нет.
К этому сводился один из тех вопросов, которые вертелись в голове: ждать у лифта, что сейчас за тобой придут, – это смелость или трусость? Или ни то ни другое, а просто здравый смысл? Найти ответ он не надеялся.
Интересно знать: преемник Закревского тоже начнет с любезных подходцев, потом заговорит жестче, с угрозой в голосе, и потребует явиться в назначенный день со списком имен? Неужели кому-то нужны дополнительные улики против Тухачевского, если тот уже допрошен, осужден и расстрелян? Нет, скорее, грядет более масштабное расследование, охватывающее дальний круг знакомств, поскольку с ближним кругом уже покончено. Ему будут задавать вопросы о политических убеждениях, о родственниках, о профессиональных связях. Что ж, он вспомнит, как в детстве, с приколотым к пальтишку красным бантом, гордо стоял перед своим домом на Николаевской; как подростком бежал с одноклассниками на Финляндский вокзал встречать возвращавшегося в Россию Ленина. Вспомнит свои ранние сочинения, «Траурный марш памяти жертв Революции» и «Гимн свободе», написанные еще до Опуса номер один.
Но чем дальше, тем больше факты перерождались в обычные сообщения, открытые для неоднозначных толкований. Например, он учился в школе с детьми Керенского и Троцкого: вначале это было предметом гордости, затем превратилось в любопытную подробность, а теперь, наверно, в постыдную тайну. Или еще: его дядя, Максим Лаврентьевич Кострикин, старый большевик, сосланный в Сибирь за участие в революции девятьсот пятого года, первым пробудил у племянника революционные настроения. Но старые большевики, некогда гордость и благо для родных, теперь все чаще становились проклятьем.
Сам он в партию не вступал и не стремился. Не мог он связать себя с партией, которая творит насилие, вот и все. Но в роли «беспартийного большевика» позволял считать себя горячим сторонником партии. Он писал музыку к фильмам, а также балеты и оратории, прославлявшие дело Революции. Его Вторая симфония, кантата в честь десятой годовщины Великого Октября, была написана на совершенно неудобоваримый текст Александра Безыменского. А чего стоили опусы, которые превозносили коллективизацию и клеймили саботаж на производстве. Его музыка к фильму «Встречный» – про заводских рабочих, с ходу придумавших, как повысить производительность труда, – имела невероятный успех и остается популярной по сей день: ее насвистывают и напевают по всей стране. Теперь у него начата – и, видимо, будет в работе еще долго, то есть ровно столько, сколько потребуется, – симфония памяти Ленина.
Вряд ли эти доводы убедят новоявленных Закревских. Он хоть сколько-нибудь за коммунизм или против? Конечно за, если выбор стоит между коммунизмом и фашизмом. Вот только не верит он в утопию, в совершенствование человечества, в инженерию человеческих душ. После пяти лет НЭПа он написал одному знакомому: «Царство Истины наступит через 200 000 000 000 лет». Вероятно, это чрезмерный оптимизм.
Теория всегда чиста, убедительна и прозрачна. Жизнь беспорядочна и несуразна. Он претворил в жизнь теорию Свободной Любви, сначала с Таней, потом с Ниной. Честно сказать, с обеими одновременно: в ту пору обе слились воедино у него в сердце; даже теперь нет-нет да и случалось нечто похожее. До уяснения того факта, что теория любви разбивается о житейские реалии, нужно пройти долгий и болезненный путь. Это все равно что взяться писать симфонию, наскоро прочитав пособие по композиции. А кроме всего прочего, человек он слабохарактерный, нерешительный, хотя порой и проявляет решимость. Но не всегда принимает верные решения. Так что в душе у него… как бы поточнее выразиться… сумбур вместо музыки. Он безрадостно усмехнулся. Действительно, сумбур вместо музыки.
Его влекло к Тане; мать возражала. Его влекло к Нине; мать возражала. С месяц он молчал, что расписался с Ниной, чтобы туча недоброжелательства не заволокла их безмятежного счастья. Допустим, это было не самое героическое деяние в его жизни. Когда же он открылся матери, та и бровью не повела, будто сама все знала (не иначе как нашла свидетельство о браке), но просто не видела причин для одобрения. Нину мать вроде бы нахваливала, но на самом деле осуждала. Возможно, когда его не станет – по всей вероятности, ждать осталось недолго, – они заживут одной семьей. Мать, невестка, внучка: три поколения женщин. В России все больше становилось таких семей.
Наверно, у него есть какие-то заблуждения, но не совсем же он наивен и туп. С младых ногтей понимал, что должен воздавать кесарю кесарево. Так чем же он прогневал кесаря? Может, работать ленится? Да нет, пишет быстро, договорные сроки, считай, не нарушает. Способен выдавать яркие, мелодичные произведения, которые с месяц будут радовать его самого, а публику – лет десять. Но в том-то и загвоздка. Кесарь не просто взимает дань, он еще и назначает валюту. Почему, собственно, товарищ Шостакович, ваша новая симфония совершенно не похожа на «Песню о встречном»? Почему сталевар, возвращаясь домой после трудовой смены, не насвистывает первую тему вашей симфонии? Мы знаем, товарищ Шостакович, что вам вполне под силу сочинять музыку, которая нравится массам. Так зачем же вы, на потребу самодовольной, буржуазно настроенной публике, до сих пор заполняющей концертные залы, упрямо возвращаетесь к своему формалистическому кряканью и уханью?
Да, в отношении кесаря он проявил наивность. Точнее, ориентировался на устарелые правила. В прежние времена кесарь взимал дань в таких размерах, чтобы только обозначить свою власть: установленный процент, соразмерный твоим возможностям. Но время не стоит на месте, и новые кремлевские кесари усовершенствовали эту систему: теперь дань равняется ста процентам твоих возможностей. Это как минимум.
В студенческие годы – радостные, радужные, ранимые – он три года вкалывал кинопианистом. Аккомпанировал немым фильмам в «Пикадилли» на Невском, в «Светлой ленте» и в «Сплендид-Паласе». Работа была тягостная и унизительная: скряги-владельцы подчас предпочитали тапера уволить, лишь бы не платить. Но он напоминал себе, что даже Брамс подрабатывал игрой на пианино в матросском борделе Гамбурга. Впрочем, там, наверное, было повеселее.
Как мог, он задирал голову к экрану, чтобы решить, какая музыка соответствует кадрам. Публика предпочитала знакомые романтические мелодии, но он со скуки то и дело переходил на собственные вещи. Их принимали без восторга. Кино – это тебе не концертный зал: если публика тебя захлопывает, значит что-то ей не по нраву. Однажды на вечернем сеансе он аккомпанировал фильму «Болотные и водоплавающие птицы Швеции», от которого проникся более желчным, чем обычно, сарказмом. Сначала имитировал птичьи крики, затем, по мере того как болотные и водоплавающие птицы взмывали все выше к небу, прибавлял громкости. Раздались хлопки; он по наивности отнес их на счет этого нелепого фильма и заиграл еще азартнее. А зрители повалили с жалобами в дирекцию: тапер, дескать, напился, его игру даже музыкой считать нельзя, это же оскорбительно и для такого прекрасного фильма, и для публики. Владелец тут же отстранил его от работы.
А ведь в этом, как он сейчас понял, словно в капле воды отразился весь его путь. Напряженная работа, определенный успех, пренебрежение музыкальными нормами, осуждение свыше, задержка гонорара, отстранение. Правда, сейчас он уже обретался в мире взрослых, где отстранение от работы равносильно приговору.
Ему представилось, как в зале сидит мама, а перед ней на экране сменяются кадры девушек. Таня: мать хлопает. Нина: мать хлопает. Розалия: мать истово бьет в ладоши. Клеопатра, Венера Милоcская, царица Савская: мать равнодушно аплодирует, ни разу не улыбнувшись.