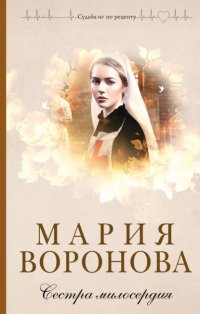Читать онлайн Сестра милосердия бесплатно
- Все книги автора: Мария Воронова
Глава 1
Элеонора проснулась с давно забытым предчувствием счастья. В прежней жизни бывали такие дни, когда она знала – должно случиться что-то очень хорошее. Обычно ничего не происходила, Элеонора понимала, что не будет и сейчас, но все же весь день провела с этим детским чувством. Скупой на похвалы профессор Знаменский, с которым она отстояла сложнейшую операцию по удалению осколка из плевральной полости, вдруг заметил:
– С вами сегодня было необыкновенно приятно работать!
– Благодарю вас, – она сделала реверанс. Это получилось машинально и вызвало мимолетную неловкость. Хирурги отвели глаза, а Элеонора притворилась, будто страшно занята инструментами.
Но эта оплошность не испортила ей настроения. Она почти физически чувствовала, как в крови у нее пульсирует радость. Бледный-бледный апрельский вечер ласкал ее лицо теплым ветерком. О, это всего лишь аромат приближающейся весны… Под его коварным влиянием в сердце распускаются бутоны надежды, чтобы потом оказаться прибитыми заморозками действительности!
– Ничего не будет! – строго сказала себе девушка.
Но радость, редкая гостья, не спешила покидать ее сердце… И, пока шла домой, Элеонора чувствовала, что люди оборачиваются ей вслед.
Элеонора на секунду остановилась и зажмурилась от странного чувства нереальности происходящего. Вдруг сейчас она откроет глаза и окажется… где? В дортуаре Смольного? Или в брезентовой палатке полевого госпиталя?
Или, напротив, сном была ее прежняя жизнь пансионерки Смольного института?
Она рано осиротела и не знала родителей. Первые годы, которые помнила плохо, росла в семье тетушки, а потом поступила в Смольный институт. За душой у девушки ничего не имелось, кроме титула княжны, поэтому получить хорошее образование было крайне необходимо.
Элеонора поймала свое отражение в тусклом оконном стекле и улыбнулась. Дело было не только в ее бедности. К сожалению, она не блистала красотой, что умаляло и так достаточно призрачные шансы на удачное замужество. Институтки поддразнивали ее, говорили, что она похожа на индейца, и Элеонора нехотя признавала, что доля истины в этом наблюдении есть. Порой классные дамы напоминали ей о том, что девушке необходимо следить за собой: мол, если она задумается, у нее становится слишком суровое выражение лица, которое может быть превратно понято.
Словно в насмешку ей достались прекрасные каштановые волосы, настоящее богатство, и необыкновенно тонкая талия. Но чтобы заслужить репутацию красавицы, этого было явно недостаточно.
Кроме непривлекательной внешности Господь, увы, наделил ее острым умом, Элеонора шла первой по всем дисциплинам. Она готовилась к поприщу классной дамы, но тетя взяла ее в свой дом по окончании курса, считая своим долгом хотя бы попытаться найти для племянницы хорошую партию. Ну а коль не выйдет, что ж…
Казалось бы, судьба ее была предрешена, но Элеонора неожиданно сблизилась с тетиным мужем, известным хирургом Петром Ивановичем Архангельским. Он тоже расположился к племяннице и мало-помалу пробудил в ней интерес к медицине. Она поступила на курсы сестер милосердия, а чтобы быстрее овладеть профессией, по протекции дяди пришла в самое сердце Клинического института, в его операционную. Ее взяла под свое крыло Александра Ивановна Титова, старшая сестра операционного блока, бессменная помощница Петра Ивановича, и обещала научить девушку всему, что знает и умеет сама.
Знакомство с Титовой состоялось в институте. Элеонора думала, что их представят друг другу как полагается, в доме Архангельских, за обедом или простым визитом, но Ксения Михайловна наотрез отказывалась принимать у себя простолюдинку, какой бы верной помощницей мужа та ни была. «Если уж приходится водить знакомство с подобными людьми, главное – всегда соблюдать дистанцию», – поучала она племянницу.
Вспоминая это, Элеонора невольно улыбнулась. Как смешно и беспомощно выглядели теперь эти незыблемые прежде правила! Но тогда, впервые попав в операционную, она согласилась с теткой и дала себе зарок держать дистанцию настолько большую, насколько это возможно. Это была совсем другая среда, совершенно другие люди, и Элеонора сначала ужаснулась нравам своих новых коллег. После чопорной вежливости и безукоризненных манер смолянок доктора и сестры показались ей настоящими чудовищами. Особенно один, любимый ученик Архангельского, Константин Георгиевич Воинов.
Элеонора улыбнулась. О, как же она была молода и наивна! Воинов, еще совсем молодой человек, считался опытным доктором. Он приехал с фронта в отпуск и сразу объявился у своего учителя и благодетеля. Константин Георгиевич был подкидышем, рос в приюте и, вероятно, стал бы рабочим, если бы не заболел и не попал в Клинический институт. Петр Иванович вылечил его, а мальчик раз и навсегда влюбился в медицину и с тех пор уже не отходил от профессора Архангельского. Петр Иванович помог юноше выучиться и потом с удовольствием передавал ему все свои знания. Наверное, он привел бы его в семью на правах приемного сына, если бы не яростное сопротивление жены. Она терпеть не могла Воинова, называла не иначе как «парвеню» и говорила, что если такой дурно воспитанный человек подлого происхождения по какому-то недоразумению выучился на доктора, то это еще не значит, что нужно принимать его в обществе. Пусть лечит мужиков! «Он и лечит мужиков. На полях сражений!» – отвечал Петр Иванович, убедившись, что жена его не слышит.
Стыдно вспомнить, но сначала Элеонора полностью разделяла мнение Ксении Михайловны. Этот молодой человек, сильный, стремительный, с хищным лицом и жестким взглядом зеленых глаз, пугал ее настолько, что она побаивалась находиться с ним в одной комнате. Она постоянно ожидала от доктора какой-то полошности и была настороже. А самое ужасное сотояло в том, что Воинов прекрасно видел ее страх и жалел ее – мол, она слишком молода и невинна для поприща сестры милосердия.
Константин Георгиевич решил использовать свой отпуск для работы с наставником: перенять новый опыт, да и просто вспомнить, что хирургия – это не только огнестрельные ранения. Каков же был ужас Элеоноры, когда Александра Ивановна назначила ее помогать молодому доктору на операциях! Худшего испытания она представить не могла, но отступать было не в ее характере. Когда она увидела, как бережно Воинов обращается с пациентами, как старается им помочь, как умеет собраться в критической ситуации и вырвать у судьбы тот единственный шанс из тысячи, предубеждение ее рассеялось.
Обычно перемены в человеке совершаются незаметно, исподволь. Он живет, погруженный в свои заботы, и лишь случайно замечает, что стал выглядеть иначе и совсем по-другому думает о многих вещах.
С ней было не так.
В тот день они закончили плановые операции и сели готовить материал. В Смольном Элеонора считалась одной из лучших рукодельниц и сейчас освоила искусство приготовления марлевых шариков и салфеток без малейшего труда. Александра Ивановна один раз показала ей необходимую последовательность движений, и у Элеоноры дело пошло быстро и аккуратно. Кажется, она немножко разочаровала этим остальных сестер, которые называли ее «белоручкой», не слишком заботясь, слышит она их или нет.
Работа была механической, и между сестрами завязывался разговор, тягостный и пошлый, в основном касающийся мужей и возлюбленных. Иногда Александра Ивановна внушительно кашляла, сестры с неудовольствием поглядывали на Элеонору и замолкали, но после небольшой паузы беседа возобновлялась в том же духе.
Элеонора старалась не вслушиваться. Это была совсем другая жизнь, другой круг, и если следовать совету Ксении Михайловны и соблюдать дистанцию, то эта пошлость никогда ее не коснется.
Приготовление салфеток было обязательным для всех сестер, но Элеонора решила, что попросит Титову сажать ее где-нибудь отдельно от других, так чтобы ни ей не пришлось слышать эти душные речи, ни сестрам сдерживаться.
Вдруг раздался характерный стук распахнувшейся двери в операционное отделение и сразу вслед – грохот колес по коридору.
Александра Ивановна отложила марлю и выпрямилась.
– Саша! Открывай операционную быстро! – кричал Воинов.
Титова выбежала из материальной комнаты, Элеонора последовала за наставницей.
– Быстро, быстро! – повторял Воинов.
Он распахнул дверь в ближайшую операционную, схватил на руки лежащее на каталке тело и перенес его на операционный стол.
– Давай, Сашенька, милая, времени нет совсем!
Не произнеся ни слова, Титова открывала биксы с бельем и инструментами.
Подумав, что времени на классическую обработку рук не будет, Элеонора словно по наитию взяла склянку со спиртом и полила на руки Саше, Константину Георгиевичу и молодому ординатору, прибежавшему вместе с ним.
Коротко кивнув, Воинов растер спирт по рукам и молниеносно нырнул в стерильный халат, который ему подала Саша.
Тем временем Сашина помощница, полная женщина средних лет, одна из немногих кто искренне симпатизировал «белоручке», налаживала внутривенное вливание физиологического раствора и готовилась дать эфир.
– Что здесь, хоть в двух словах? – отрывисто спросила Саша, подавая Воинову корнцанг со спиртовой салфеткой для обработки операционного поля.
– Падение с высоты. Внутреннее кровотечение, а что именно, сейчас узнаем, – быстро обработав поле, Константин Георгиевич выбросил корнцанг в таз и взял скальпель.
Тут в операционной возник профессор Крестовоздвиженский:
– Что вы творите, доктор!
– Что? Хочу остановить кровотечение!
– Тут же все ясно, коллега. Пациент, как говорится, уже убит, но еще не умер. Зачем вы идете на фатальную операцию, которая ничем не поможет этой несчастной?
Неужели это женщина? Элеонора впервые набралась храбрости и посмотрела на то, что лежало на операционном столе, прикрытое стерильным бельем. Да, женщина, причем молодая и, кажется, красивая… Но как страшно было ее лицо! До этого Элеонора присутствовала только на простых вмешательствах, и пациенты выглядели совсем иначе. Да, недуг накладывал свой отпечаток на их внешность, многие были бледные, или, наоборот, желтушные, истощены или болезненно отечны, но такого она не видела никогда раньше. На лице этой девушки лежала тень смерти, это было видно совершенно ясно. Элеонора не смогла бы сказать, в чем тут дело и почему ей стало жутко, но живой человек так выглядеть не мог.
Воинов тем временем сделал разрез на животе девушки.
– Я действую по принципу Пирогова, – буркнул он, не глядя в сторону профессора, – когда больше нечего терять!
– Ах, доктор, доктор, – Крестовоздвиженский покачал головой, – вечно вы устраиваете какие-то авантюры за пределами здравого смысла и даже гуманности…
Но Воинов его больше не слушал, полностью сосредоточившись на операционном поле. Когда он вошел в брюшную полость, Элеонора с ужасом заметила, как кровь, скопившаяся внутри, медленно переливается через края раны и по операционному белью стекает на пол. Почувствовав, что теряет сознание, она приказала себе собраться. Сейчас каждая секунда на вес золота, каждое движение, и она должна сделать все, что может, а если ничего не сможет, то хотя бы не мешать!
– Черт, не могу найти источник! Полный живот крови! Саша, давай салфетки все что есть!
Элеонора побежала в соседнюю операционную и принесла большой бикс с салфетками.
Она еще совсем неопытная сестра, и толку от нее мало, но пусть Титова видит, что она здесь и готова выполнить любое ее распоряжение.
Встав в углу, она вытянулась в струнку, сжала кулачки и стала молиться, чтобы у Воинова все получилось. Краем глаза она заметила, что профессор все еще стоит на пороге со скептической усмешкой, насколько можно понять выражение лица, когда оно наполовину закрыто хирургической маской, и не делает никаких попыток помочь Воинову.
– Есть!!! – крикнул Константин Георгиевич. – Зажим в руку!
Через минуту в таз полетел какой-то синий сгусток.
– Разрыв селезенки, – сказал Воинов гораздо спокойнее, – ну, кажется…
Он принялся салфетками осушать брюшную полость и осматривать все органы, чтобы проверить, только ли в селезенке дело или повреждено что-то еще.
– Пот со лба! – приказала Саша, и Элеонора быстро подскочила к Воинову и одним движением отерла ему лоб. Ту же операцию повторила для ассистента и для Саши.
– Гемостаз есть! – Константин Георгиевич перевел дыхание. – Сейчас капайте ей как можно больше физиологического раствора. Проверьте там, поднимается ли давление хоть немного, а мы начинаем обратный ход.
– Все будет хорошо, Константин Георгиевич, – сказала Сашина помощница, – хорошо что взялись, не послушали маститых профессоров.
– Рутинная, в сущности, операция, – хмыкнул Воинов, принимая от Саши иглодержатель, – первую спленэктомию выполнил Жюль Пеан еще в 1867 году, а мы тут сомневаемся, стоит делать или не стоит. Особенно если альтернатива понятно какая.
Набравшись смелости, Элеонора посмотрела на пациентку. Она все еще была очень бледна, но уже не страшной мертвенной белизной.
Когда Воинов начал ушивать кожу, в операционную снова заглянул Крестовоздвиженский.
– Пока жива? Удивительное дело, – едко заметил он, – особенно если учесть, что девушка хотела покончить с собой. Что ж, если артериальное давление держится, возможно, ее планам и не суждено будет сбыться. Но исходно дело представлялось совершенно безнадежным.
Воинов рассмеялся:
– Когда надежда есть, невелика заслуга победить…
Девушку увезли в палату послеоперационного наблюдения, а Элеонора осталась помочь Саше навести порядок.
Рассудив, что Титова очень устала на операции, она сказала, что сделает все сама, пусть Саша скорее идет отдыхать. Наставница не стала возражать, расцеловала Элеонору в обе щеки и со словами «умница ты моя» побежала по своим делам.
Элеонора провозилась больше часа, прибирая операционную со всей тщательностью, на какую была способна.
Проверив каждый уголок и напоследок окинув все помещение придирчивым взглядом, она отправилась в кабинет Титовой доложить о выполнении задания.
Открыв дверь, она увидела только Константина Георгиевича. Он стоял у окна и курил в форточку.
– Элеонора Сергеевна? – сказал он, не оборачиваясь. – Что, досталось вам сегодня? Испугались?
Она кивнула, забыв, что Воинов на нее не смотрит.
– Что поделать, милая Элеонора Сергеевна, такая у нас служба. Бывают такие моменты, а бывают еще и хуже, – последний раз глубоко и жадно затянувшись, он погасил папиросу и обернулся к ней. – С этой девушкой, думаю, обойдется. Окажись на ее месте мужчина, шансов действительно не было бы ни одного, но женщины, слава богу, более совершенные существа.
Он вдруг очень простым жестом взял ее за локоть, и продолжал:
– Так и живем… Трудные победы пополам с горькими поражениями. Я бы хотел посоветовать вам выбрать какое-нибудь другое поприще, но вы так замечательно держались!
– Что вы, Константин Георгиевич! Я просто наблюдала, и все, – Элеонора мягко высвободила свою руку.
– Не скажите! Вы были очень полезны нам, а ваше остроумное решение по обработке рук… Не исключено, что на благоприятный исход повлияло именно это. Мы бы с Сашей начали обработку по Альфельду, потеряв на этом кучу времени! А вы не растерялись, такая молодец!
Благодарно улыбнувшись, она перевела взгляд на его руки. Рукава халата были закатаны, обнажая сильные предплечья с рельефно выступающими мышцами, а сами кисти оказались неожиданно небольшими, изящными, с желтыми от йода кончиками пальцев. Эти руки сейчас вытащили человека из лап смерти, подумала Элеонора и поняла, что отныне будет доверять Воинову безгранично.
Константин Георгиевич был не только талантливым хирургом, но и превосходным учителем. Спокойно и тактично он помогал ей осваивать премудрости работы операционной сестры, а она старалась не оплошать. Как же счастлива и безмятежна она была в те дни, выйдя из замкнутого мирка Смольного института! Началась новая, настоящая жизнь, а будущее казалось невероятно интересным…
Видя, как юная сестричка сближается с доктором Воиновым, Александра Ивановна сочла своим долгом предупредить ее, мол, Константин Георгиевич пользуется репутацией ловеласа и распутника, и репутация эта более чем заслужена. Поэтому Элеоноре следует быть с ним очень осторожной.
Такое предостережение позабавило княжну Львову. Что ж, нельзя требовать от Титовой тонкости натуры, она просто не может понять, что происхождение и воспитание не позволяют Элеоноре «заводить интрижки», тем более с простолюдином. Каким бы хорошим человеком ни был Воинов, он ей не ровня. О, как же потом судьба наказала ее за эту самоуверенность…
После этого разговора ей на минуту стало неспокойно. Вдруг Константин Георгиевич действительно испытывает к ней чувства? Имеет ли она тогда право работать с ним? Может ли пользоваться его поддержкой? К счастью, вскоре выяснилось, что Воинов влюблен в дочь Архангельских, красавицу Лизу.
Ей пришлось стать поверенной этого романа, о чем до сих пор вспоминалось с каким-то темным чувством. Лиза вскружила Воинову голову, несколько раз встречалась с ним наедине, и Элеонора гнала от себя мысли о том, что происходило во время этих встреч.
Почему-то она была уверена, что роман этот закончится браком, представляла, в какой ужас от зятя придет Ксения Михайловна, но Лиза вдруг вышла замуж за промышленника Воронцова. Более прекрасной партии трудно было себе представить, ничего удивительного, что она предпочла миллионера нищему доктору.
Константин Георгиевич ничем не показывал своей сердечной боли, но Элеонора понимала, как он страдает, и от всей души сочувствовала ему.
В то время она сама полюбила и знала, как это тяжело и больно…
Она вдохнула воздух, в котором аромат молодой листвы уверенно пробивался сквозь тяжелый городской запах. Так не хотелось идти домой, там она окажется совсем одна среди четырех стен, а вечные склоки соседей по коммуналке за дверью только подчеркивают одиночество. Когда она поступила в госпиталь, ей дали крохотную комнатку в квартире, населенной разным сбродом. Она ничего не рассказывала про себя соседям, но те сразу определили, что она «из бывших», и не упускали случая ей мелко напакостить или просто напомнить, что время ее прошло. Что, впрочем, не мешало им обращаться к Элеоноре за медицинской помощью.
Она вышла на набережную Фонтанки и остановилась возле чугунной решетки. Черная маслянистая вода медленно текла, отбрасывая на гранитные плиты солнечную тень своих волн… Чуть подальше росла старая ива; перекинув через ограду свой узловатый ствол, она тянула к воде ветви в молодых, но уже седых листьях…
Теперь, когда мир рухнул, когда ветер войн и революций разметал людей по свету и когда остались только воспоминания, она почему-то все время думает о Константине Георгиевиче, а мыслей о своей любви избегает. Почему?
Может быть, потому, что эта любовь оказалась совсем не такой, как ей мечталось в Смольном? Потому, что ради этой любви она сделала то, чего совсем не хотела делать, то, что было противно ее натуре?
Элеонора полюбила поручика Алексея Ланского с первого взгляда, как только увидела. Был такой же весенний день, такая же солнечная погода, воздух полнился любовью и надеждой… И она была такая же светлая и радостная, как весенний денек, и смело отдала свое сердце этому красивому молодому человеку.
Алексей ответил ей взаимностью, но предложение делать не спешил. Элеонора, в мечтах уже нарисовавшая себе и скромную церемонию венчания, и семейную жизнь, и материнство, изводилась, мучилась и ничего не понимала. Наконец, они объяснились, Алексей признался, что так же беден, как и она, и просто не имеет права жениться, особенно теперь, когда идет война и он может быть убит. Оставить Элеонору молодой вдовой с младенцем и без ясных перспектив было бы слишком безответственно с его стороны. Надо подождать, сказал Алексей.
Это объяснение совершенно уничтожило Элеонору. Неужели он не видит, как она его любит? Неужели не чувствует в ней сил вынести любые испытания ради него? Главное – быть вместе перед Богом и людьми, тогда все под силу. Не страшны ни бедность, ни лишения. А если, не дай бог, Алексей погибнет, она достойно воспитает его сына, он во всем может на нее положиться.
Неужели он считает, будто она такая же легкомысленная, как Лиза, и деньги имеют для нее хоть малейшее значение?
Со стороны решение Алексея выглядело благородным и самоотверженным, она пыталась себя убедить, что так оно и есть, но против своей воли чувствовала привкус предательства…
Ей было очень тяжко, и, окончив курсы Красного Креста, Элеонора поступила в подвижной фронтовой госпиталь, начальником которого был Константин Георгиевич. Он долго сопротивлялся, не хотел ее брать, но Элеонора сказала, что все равно уедет, не с ним, так с кем-нибудь другим, и Воинов покорился.
Они служили плечом к плечу, переживали вместе все тяготы фронтовой жизни. Воинов спасал самых безнадежных раненых, и Элеонора ему помогала, как могла.
Он работал как проклятый, иногда не спал трое суток подряд, но всегда находил для нее слово одобрения. Как ей теперь было стыдно за свои мысли о том, что он «не ровня»!
Элеонора восхищалась им, его ежедневным подвигом, тихим героизмом, когда он совершал почти невозможные вещи для спасения солдат и в то же время вел себя так, будто не делает ничего особенного.
Может быть, если бы она раньше поняла величие этой натуры… Но когда в редкие свободные минуты Константин Георгиевич садился возле печки и, держа в ладонях кружку с очень крепким чаем, смотрел на тлеющие угли, Элеонора понимала, что он думает о Лизе и тоскует по ней. Как знать, может быть, надеется на встречу… В такие моменты приходилось напоминать себе о том, что она любит Алексея Ланского и обещала хранить ему верность.
В мерцающем свете керосиновой лампы тени на стенах палатки казались огромными и пугающими, и так уютно было думать, что за брезентом – темнота и звездное небо…
Элеонора беззвучно молилась, чтобы Господь хранил Алексея, чтобы они соединились, когда кончится эта война.
Очнувшись от молитв и мечтаний, она ловила на себе взгляд Константина Георгиевича, спокойный и добрый, и верила, что все сбудется и они будут очень счастливы. Ей рисовались замечательные картины будущего, прекрасное лето, сирень и кружевные зонтики, жизнь на дачах в соседних домиках, Воиновы и Ланские… Вот они с Алексеем сидят на веранде, у нее на руках малютка, и тут возле калитки появляются Константин Георгиевич с Лизой, машут им, приглашая на прогулку.
А между тем в мире происходили перемены такие страшные, что Элеоноре было трудно в них поверить. Может быть, в Петрограде жизнь менялась более явственно, а у них были все те же заботы, все те же раненые. В войсках падала дисциплина, образцовые солдаты вдруг начинали вести себя совершенно недопустимо, и Воинов запретил Элеоноре отлучаться из госпиталя без сопровождения.
Потом она заболела тифом, и Константин Георгиевич, не слушая возражений, отправил ее домой, под крылышко Ксении Михайловны. Если бы он только знал, что дома давно уж нет, гнездо разорено, и Архангельские живут у Александры Ивановны…
Элеоноре просто фантастически повезло получить место старшей операционной сестры в госпитале. Теперь ее вряд ли приняли бы на такое хорошее место, с ее-то происхождением!
И Ланской… Элеонора вздохнула. Когда она вернулась из госпиталя и обнаружила, что в доме тетушки живут совершенно чужие люди, которые то ли не знают, то ли не хотят говорить, где можно найти Архангельских, девушка совершенно растерялась.
И, ни на что не надеясь, она отправилась на Васильевский остров, где жил Ланской. Казалось, ей станет легче, если она просто постоит рядом с его домом. Но в его окнах горел свет, и Элеонора с замирающим сердцем поднялась к нему, готовая снова увидеть чужие равнодушные лица.
Но случилось чудо, и ей открыл Алексей! «Какое удивительное везение, что ты меня застала, – сказал он, целуя ее, – послезавтра я должен ехать к себе в часть. Проходи скорее!»
Она была так счастлива, что Алексей здесь, жив и по-прежнему ее любит! Все остальное не имело никакого значения, они уцелели в этой страшной войне, чтобы быть вместе. Господь соединил их, иначе как объяснить, что они встретились?
Она совсем не хотела того, что произошло потом, и теперь вспоминала свое падение со жгучим чувством стыда. Может быть, лучше бы не было этой последней встречи? Они любили друг друга, Алексей уходил, может быть, на верную смерть, и она должна была соединиться с ним не только душой, но и телом. В тот момент ей казалось правильным, что она отдает то, что берегла для него, и ничего не требует взамен.
Но это сделало ее любовь тягостной, какой-то нечистой. Она все так же молилась за Алексея, так же ждала от него известий, но появилась в душе какая-то червоточинка, чувство презрения к себе.
Ради любви ей пришлось переступить через себя, сделать то, что она ни при каких обстоятельствах не хотела делать, то, чему противилось все ее существо. Если бы Господь благословил нас, он послал бы мне дитя, думала она, малютка стал бы мне утешением, памятью о любимом. Но нет, грех совершен напрасно.
С реки вдруг подул холодный ветер, Элеонора заметила, что небо тускнеет, а вода стала совсем черная и матовая, как бархат. Поздно, пора домой, к своему одиночеству. От Алексея давным-давно нет вестей, наверное, уже и не будет. Может быть, удалось бежать из страны? Дай бог, если так! Дай бог…
Больших операций сегодня не предвиделось, но Знаменского попросили сделать дренирование у больного гнойным плевритом. Раскладывая необходимые инструменты, Элеонора улыбалась под маской. Дренирование было первой операцией, на которой ей доверили подавать самостоятельно. Как она боялась, пока в операционную не зашел Константин Георгиевич с таким убедительным видом, что страх тут же исчез. Как все же ей необыкновенно повезло с наставниками! Александра Ивановна Титова, после рафинированной атмосферы Смольного показавшаяся Элеоноре простой и распущенной женщиной, со временем стала почти родным человеком, научила ее всему, что знала сама, и мягко оберегала от ошибок и ударов. А Воинов… как знать, если бы он тогда не ободрил ее, не дал понять, что она обязательно справится, достигла бы она таких успехов? Смогла бы поверить в свои силы? Ведь можно получить прекрасную подготовку, но в ней не будет ровно никакого толку, если ты не веришь в себя!
Чем дальше время уносило их последнюю встречу, тем чаще она вспоминала Воинова. Когда долго ничего не знаешь о близком человеке, в памяти всплывает то одно, то другое, но всегда есть какой-то момент, или ситуация, или фраза, ставшая чем-то вроде визитной карточки. Для Элеоноры такой «карточкой» было поразительное умение Константина Георгиевича носить воду на коромысле. Странно, гораздо чаще они проводили время в операционной или за осмотром раненых, но стоило ей подумать «Воинов», как в памяти всплывала его стройная фигура с коромыслом на плечах. Носить воду для госпиталя было обязанностью санитаров, но Элеоноре нужна была вода и для себя, и Воинов всегда помогал ей, если был свободен. Бормоча «ах, я страшно спешу, спешу, спешу», он мчался к колодцу, набирал ведра и бежал с ними обратно к палатке совершенно особенным мелким шагом, так что вода не выплескивалась из болтающихся на коромысле ведер. Это зрелище противоречило всем законам физики и потому завораживало.
Воинова совершенно не смущало, что он, начальник госпиталя, бегает, как мальчишка по мелким поручениям.
Было еще одно воспоминание, которое Элеонора хранила в тайниках души как фамильную драгоценность. В минуты особенно сильной грусти и безнадежности она закрывала глаза и словно переносилась в тот серенький февральский день…
Поступила большая партия раненых, так что они с Константином Георгиевичем не выходили из операционной. Почти сутки они провели на ногах, освежаясь глотком воды, пока санитары уносили одного раненого и укладывали на стол другого. Обычно Элеонора старалась быть внимательной к солдатам, разговаривала с ними, но тут все лица слились в один сплошной поток, она словно оглохла, не слышала жалоб и стонов, стояла, как автомат, послушно выполняя все распоряжения Константина Георгиевича. Лишь ближе к вечеру он вывел ее из палатки. В накинутых на плечи тулупах они стоя съели по куску хлеба. Элеонора искоса смотрела на Воинова, в спускающихся сумерках его лицо казалось злым от усталости. Он молчал, хмурился, и ей вдруг показалось, что Константин Георгиевич недоволен ее работой, что предпочел бы видеть на ее месте опытную сестру, а не романтичную дурочку, которая считает, что совершает героический поступок, а у самой не хватает даже душевных сил сочувствовать раненым как должно.
Быстро доев, они вернулись к работе. Чтобы делать все как следует, Элеонора сосредоточивалась на ранах, совершенно не думая о человеке, который лежит на операционном столе и полностью зависит от Воинова и ее действий. «Я черствая и жестокая», – думала она с горечью.
Наконец помощь была оказана всем пострадавшим. Врачи разошлись, санитары под ее руководством сделали уборку и тоже ушли. Она осталась в палатке одна.
Теперь трудно было представить, что еще час назад здесь кипела работа, страдали люди… Стало темно и холодно, все звуки стихли, и Элеоноре вдруг показалось, что она совсем-совсем одна на земле. Это было не страшное, а скорее какое-то свободное чувство, будто стоит ей откинуть легкую брезентовую дверь и оттолкнуться от истоптанного, в кровавых пятнах снега, как она полетит в вечность и пустоту, где нет ни страданий, ни горя, ни одиночества.
Улыбаясь этим странным мыслям, она привычно занялась инструментами. Их надо было тщательно вымыть и простерилизовать, чтобы завтра докторам было чем работать. Кто знает, как сложится день завтра?
Захлопотавшись, она не заметила, как вошел Воинов.
– Устали, Элеонора Сергеевна? – спросил он мягко. – Разрешите, я помогу вам?
– О, вы только все запутаете! – сказала она с улыбкой, которую он, верно, не заметил в полумраке. – Прошу вас, отдыхайте, вы и так сегодня трудились сверх человеческих возможностей!
– А вы? Вы все время были рядом со мной, не так ли?
Она покачала головой:
– Я всего лишь выполняла ваши приказы, а это совсем другое дело.
Не слушая ее, он стал складывать чистые инструменты в большой стерилизатор.
– Видите, я ничего не путаю, – засмеялся Воинов, – не так я безнадежен, как вам кажется… А вы покамест выпейте чай.
Он показал на огромную железную кружку, которую принес с собой и поставил на столик с медикаментами. Элеонора присела на табурет, с наслаждением обхватила горячие бока ладонями, вдохнула поднимающийся от чая парок и только в этот момент поняла, как же она замерзла!
– Там еще кусок рафинада в бумажке я принес, съешьте скорее, а то упадете в обморок, – сказал Константин Георгиевич не оборачиваясь. – Вот я смотрю на вас, Элеонора Сергеевна, и удивляюсь: откуда столько силы и стойкости в хрупкой девушке?
Она промолчала. Положила в рот кусок сахара и зажмурилась от наслаждения. Ах, если бы Воинов обучался в Смольном институте, он бы не удивлялся ее выносливости. Умывание ледяной водой в любую погоду, хождение с палкой за плечами, чтобы осанка стала идеальной, и прочая и прочая… Детство, проведенное в суровых условиях, прекрасно подготовило ее к фронтовой жизни.
Может быть, рафинад, или горячий чай, а вернее всего, доброта Воинова неожиданно растрогали ее, так, что на глазах появились слезы, и Константин Георгиевич, как раз закончив укладывать инструменты, заметил это в темноте.
– Ну что такое? Что? – он вдруг опустился перед ней на корточки, положил свои ладони поверх ее рук, сжимавших кружку, и заглянул ей в глаза. – Не плачьте, прошу вас! Если бы я только мог передать вам всю свою силу, если бы только мог!
Константин Георгиевич покачал головой, и Элеонора улыбнулась сквозь слезы.
– Это горячий чай виноват, – сказала она.
– Да-да, я так и подумал.
Он поднялся, достал носовой платок и каким-то очень простым и естественным движением промокнул ей глаза, а потом вдруг порывисто и в то же время осторожно притянул ее голову так, что щекой она оказалась прижата к его животу.
– Милый мой солдат! Вы никогда не сдадитесь, я знаю. Но если бы вы разрешили мне отправить вас домой…
– Нет, Константин Георгиевич, – буркнула она. То, что происходило сейчас, конечно, совершенно недопустимо, но так хорошо было прижиматься к нему и чувствовать тепло его ладони на своей макушке. – Разве я не справляюсь? Неужто вы хотите избавиться от меня?
– Вы сами знаете, что никто не сможет превзойти вас в мастерстве. Я счастлив, что вы рядом, но еще счастливее был бы, зная, что вам не грозит никакая опасность. Что вы дома, под крылышком Архангельских, здоровы и спокойны и не убиваете себя непосильным трудом. Я молюсь за вас, чтобы с вами ничего не случилось, но, видит бог, это такая ненадежная защита…
– Это самая надежная защита, – Элеонора собралась с силами и мягко отстранила его руку.
Отступив, Константин Георгиевич засмеялся своим низким глуховатым смехом:
– Сомневаюсь, что Господь слушает такого греховодника, как я. Так что, Элеонора Сергеевна, не слишком уповайте на силу моих молитв! Ах, если бы это было в моей власти, сделать вас самой счастливой…
– Я счастлива сейчас, – неожиданно призналась она и, вдруг поймав острый взгляд Воинова, торопливо продолжала: – Я счастлива, что приношу пользу, что я на своем месте. Это ведь счастье, правда?
– Да, счастье. – он помолчал, а потом весело спросил: – Так не поедете домой?
– Нет, не поеду.
– Что ж, тогда заканчивайте здесь и бегите скорее отдыхать.
«Если бы я мог передать вам свою силу!» – сказал тогда Константин Георгиевич, и теперь Элеонора всякий раз, вспоминая о нем, чувствовала, что у нее действительно прибавляется сил!
Подали пациента, и Элеонора тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Будет ужасно, если она, замечтавшись, сделает ошибку, тем более в ходе такой простой операции. Элеонора была очень собранной сестрой и все же за работой все время думала о Воинове. Как бы он сделал разрез, какое бы ободряющее слово нашел для больного…
Дома ее ждал прекрасный обед – суп из целой картофелины и ржаной сухарь.
Чем скуднее становился паек, тем больше значения Элеонора придавала сервировке стола. Так казалось, что еды немножко больше.
Она достала полный столовый прибор и расправила салфетку на коленях. Перед тем как начать обедать, немножко помолилась. Этот обычай, усвоенный ею в Смольном институте, почему-то был не принят в семье Архангельских, на фронте ели как придется, а теперь она снова к этому вернулась.
Поначалу она молилась своими словами, но потом проговорила «Отче наш», и на душе стало легче. И Элеонора взяла за правило каждый день вспоминать по молитве, которых в Смольном институте было выучено великое множество.
– …не оставь меня грешную и не отступи от меня за все грехи мои, – тихонько говорила Элеонора, как тут ее прервал дверной звонок.
Девушка прислушалась: если кто-то есть в кухне, то и откроет дверь. Это все равно не к ней.
Элеонора не считала возможным приглашать к себе гостей. Во-первых, просто неприлично, чтобы живущая одиноко девица «принимала», а главное, квартира была так густо заселена, что Элеоноре было просто неловко перед соседями посягать на и без того скудное пространство.
Она закончила молитву, и несколько секунд царила прекрасная тишина, но тут в дверь постучали.
– Сами открывайте своим гостям, – прошипела бледная акушерка Солодкая, но Элеонора не ответила.
На пороге стоял Алексей Ланской…
Возможно ли? Не сон ли это? Сердце колотилось как сумасшедшее, а все вокруг виделось, словно в радужном тумане. Алексей стоял, кажется, улыбался, а Элеонора не могла даже увидеть его лица. Стало нечем дышать, и не верилось, что это все происходит наяву.
Сколько раз она представляла себе их встречу! Сколько раз видела Алексея во сне…
Он шагнул к ней, обнял крепко, но от волнения она не чувствовала любимых рук. Такое долгожданное и такое внезапное счастье! Все слова куда-то исчезли, кажется, она забыла даже собственное имя… И только чувствовала, как глаза наполняются слезами, а она совсем не хотела плакать.
– Дорогая, что ты… – Алексей ласково целовал ее. – Не плачь, не плачь! Все хорошо, я вернулся!
Элеонора отстранилась, пытаясь хоть немного сосредоточить взгляд и рассмотреть любимого. Это получилось с большим трудом, и Элеонора так и не смогла понять, сильно ли Алексей переменился. Просто любимый, вот и все.
Он был в штатском и вдруг показался ей, привыкшей видеть Ланского в мундире, немного чужим.
Наконец ей удалось справиться с волнением. Молодые люди снова крепко обнялись, губы их слились в поцелуе.
Боже, она ведь стала забывать вкус его поцелуев… Почти не помнила тепло его ладоней и ту нежность, с которой он обнимал ее. И как она слушала стук его сердца, склонив голову ему на грудь…
– Алексей, как ты меня нашел?
– Ты же оставила свой адрес на моей старой квартире. Там теперь живут совсем другие люди, так странно… Я даже удивился, что они вспомнили о твоей записке.
Элеонора вздрогнула, подумав, на какой тонкой ниточке висело ее счастье. Не надеясь на человеческую память и обязательность, она оставила свои координаты везде, где Алексей мог бы ее искать: на прежней квартире Архангельских, в Клиническом институте, даже всунула бумажку с адресом профессору Крестовоздвиженскому, притворяясь, что не замечает его недовольства. И все же как хорошо, что нынешние жильцы квартиры на Васильевском оказались ответственными людьми!
Опомнившись, Элеонора усадила Ланского обедать, радуясь, что у нее есть чем его покормить. Сама она не смогла бы проглотить ни кусочка. Он, смеясь, отнекивался, тянулся к ней, но Элеонора с напускной строгостью отводила его руки.
И чувствовала почти физическое наслаждение, глядя, как он ест… В Смольном их учили домоводству: как готовить изысканные кушанья, делать запасы на зиму и экономно вести хозяйство. Элеонора знала, что все прочат ей участь старой девы, с грустью разделяла эту точку зрения и поэтому не слишком увлекалась домоводством, хотя и учила предмет на отлично, чтобы не потерять звание первой ученицы. Теперь у нее вдруг открылся странный талант – из скуднейшего набора продуктов она стряпала вполне съедобные блюда, изумляя даже такую искушенную хозяйку, как Ксения Михайловна.
А этот суп особенно удался…
– Правда, вкусно? – спрашивала она, а Алексей только восхищенно закатывал глаза, и не было в ту минуту счастливее людей на земле!
Выйдя в кухню заварить чай, она без сил опустилась на табурет. Все еще не верилось, что это происходит с ней, слишком быстрая и внезапная перемена. Еще утром она была одинокой девушкой, тоскующей о без вести пропавшем женихе, и вдруг одна секунда, и все изменилось! Это было так трудно принять, что, возвращаясь с чаем, Элеонора секунду помедлила перед дверью, опасаясь, что сейчас она откроет, а в комнате никого нет…
Но Алексей сидел за столом и внимательно смотрел, как она наливает чай.
– Морковный? – улыбнулся он, кивая на чашку.
– Копорский! – гордо ответила Элеонора. – Мы с Ксенией Михайловной сами собирали. Она меня научила, что лес – большое подспорье! Мы осенью с ней набрали и ягод, и грибов… – Элеонора осеклась. Давно подмечено, что люди, встретившиеся после долгой разлуки, часто говорят о всяких мелочах. – Алексей, расскажи же о себе!
Он пожал плечами:
– Это печальная и скучная повесть для любимой женщины. Не хочу тебя огорчать.
– И все же… Расскажи, я слишком люблю тебя, чтобы ты меня щадил.
– Моя судьба ничем не отличается от судьбы большинства русских офицеров, – Алексей поморщился, – разброд и шатание в войсках, потом этот позорный Брестский мир… Потом я попал в Новочеркасск к Алексееву. Ну, а потом моя часть перешла на сторону красных, мне едва удалось бежать.
Элеонора изо всех сил стиснула его руку.
– Я мог бы перейти вместе со своей частью, – криво усмехнулся Алексей, – этим ордам нужны кадровые военные, на одной жажде крови много не навоюешь. Некоторые мои товарищи так и сделали.
– К сожалению, так поступают многие, – вздохнула Элеонора, – даже я, если вдуматься. Я ведь служу в госпитале.
– Дорогая, это совсем другое дело. Ты всегда была слишком строга к себе.
– Господи, какое счастье, что ты вернулся! Ты же насовсем? – с замиранием сердца спросила она. – Ты не должен возвращаться в армию?
– Сейчас такое время, что никто ничего не должен, – грустно заметил Ланской, – наверное, мне, как русскому офицеру, следует пробираться к своим и биться до последней капли крови… Но, Элеонора, чем больше я думаю, тем меньше вижу в этом смысла. Воевать за счастье народа с ним же самим?! Господи, да этот народ, который чуть не расстрелял меня за то, что я не хотел вместе с ним грабить и пьянствовать, пусть он живет как хочет и сам ищет свое счастье! Народ-богоносец… Ты бы видела, какие вещи он творит… Свинство, пакость!
Она молча смотрела на Алексея. Бог знает что ему пришлось пережить…
– Раньше мне все было ясно. Я – русский офицер и защищаю свое отечество от врага. Выполняю святой долг. А теперь, после этого предательского мира, я марионетка в чужих руках, ничего больше. За Русь святую, как бы не так! Даже в Белой армии, там такой клубок темных интересов, что я не понимаю, если отдам жизнь за родину, принесет ли это ей пользу или наоборот. Монархию не вернешь, а все эти прохиндеи, большевики, меньшевики, кадеты – между ними разницы гораздо меньше, чем они думают.
Элеонора украдкой вздохнула. Она очень переживала, узнав о расстреле царской семьи, тоскуя по Николаю Второму, Александре Федоровне и детям так, словно они были ее родными.
Она несколько раз видела императрицу, когда та приезжала в Смольный на Рождество, и даже была ей представлена, как лучшая ученица. Бережно храня в памяти улыбку Александры Федоровны, обращенную лично к ней, Элеонора не могла представить себе, что теперь эта женщина похоронена где-то в общей могиле. А безвинно убитые дети! Элеонора знала, что, как бы человеколюбива, как бы разумна ни оказалась власть большевиков, она не сможет искупить этого страшного преступления.
Вдруг показалось, что они разговаривают слишком громко, но она сразу устыдилась этой малодушной мысли.
– Ну хватит об этом! – решительно воскликнул Алексей, поднимаясь. – Мы снова вместе, вот что важно. Я так скучал по тебе, дорогая! А ты? Столько не виделись, я уж боялся, что ты меня забыла!
– Господи, что ты говоришь! Я жила только мыслями о тебе… Когда у меня почти не оставалось надежды, что ты вернешься, я вспоминала, как мы были вместе, и мне становилось легче.
Алексей притянул ее к себе:
– Ох, как же я скучал! Если бы ты знала, сколько счастливых минут подарили мне мысли о нас с тобой! Сколько раз я представлял, как упоительно пахнут твои волосы…
Они встали возле окна, глядя в густые весенние сумерки. Электричества снова не было, дома высились темными слепыми громадами, лишь кое-где сочился слабый свет керосиновых ламп. Внезапно зарядил дождь, прибив обычный городской шум, быстро разливающиеся лужи весело кипели под крупными каплями. Стена воды словно отрезала их от остального мира, сделала происходящее там далеким и не важным. Главное то, что они теперь вместе – два любящих человека.
Сегодня за этой стеной дождя ничего нет. Они, взявшись за руки, словно на миг заглянули в вечность… «И покинув этот мир, мы соединимся вновь, как сейчас», – вдруг подумала Элеонора и прижалась к Алексею крепко-крепко.
Его руки обвились вокруг нее нежным и теплым кольцом, щекой она почувствовала грубую ткань его рубахи. От Ланского пахло ветром скитаний.
– Больше не надо разлук… – прошептала она, истово надеясь, что Господь слышит ее сейчас.
Его ласки становились все смелее. Элеонора на секунду замерла. Но разве сейчас время думать об условностях, боже мой… Они чудом остались живы, и рука Господа соединила их!
Думать иначе – просто ханжество и жеманство.
И она упала в его объятия…
Глава 2
Алексей быстро уснул, а Элеонора все не могла унять волнение. Неужели это все? Кончились муки ожидания и неизвестности, и наступило счастье. Так быстро, что она пока не поняла этого.
Теперь они вместе и смогут преодолеть все – голод, гонения, что угодно.
Когда соединяются любящие люди, их сила возрастает не вдвое, а стократ!
А то, что произошло между ними сейчас… В следующий раз оно произойдет уже совсем по-другому. И будет не тягостной уступкой, а чем-то совсем-совсем другим! Настоящим слиянием душ.
Мысль повернула в практическое русло. Предстоящее дежурство очень кстати, эту ночь они проведут врозь, как настоящие жених и невеста. Утром она пойдет на службу, а вечером будет несколько свободных часов, и они с Алексеем навестят Архангельских, испросят благословения. Заодно попросит Сашу быть подружкой невесты. Сейчас такое время, что пышная свадьба – просто дурной тон, но обряд есть обряд!
Она не тревожилась, что Ксения Михайловна откажется благословлять. Когда-то тетя была категорически против Ланского, но это было еще в прошлой жизни. Сейчас все изменилось, изменилась и сама Ксения Михайловна. Она стала гораздо добрее к племяннице… Нет, не так. Она и раньше была добра, строго перебила себя Элеонора, просто держала дистанцию, как и следует между воспитанницей и опекуншей. Сейчас мы на равных, я чувствую, что стала ей другом, несмотря на разницу в возрасте. Тетушка очень обрадуется завтра – девушка улыбнулась своим мыслям, – она так переживает, что я выйду за кого-то из «этих плебеев», а тут настоящий русский офицер.
Он мог бы перейти к красным! – от этой мысли у Элеоноры пересохло во рту. О, она бы все равно приняла Алексея, но все же как хорошо, что он этого не сделал! От избытка чувств Элеонора прижалась к любимому, он, не просыпаясь, потянулся к ней губами.
…Сон все не шел, мысли текли какие-то простые и мелкие, совсем не подходящие ее счастью. Где они будут венчаться, в какой церкви? И следует ли регистрировать гражданский брак? Это не принято в их кругу, но в том обществе, где ей приходится вращаться, не будет ли их союз воспринят как простое сожительство? Правда, сейчас это в моде, но Элеонора не собиралась уподобляться женщинам, исповедующим теорию «стакана воды».
Потом она подумала, что сейчас, если придерживаться одних фактов, невольно последовала этой теории, и покраснела. На грех мастеров нет…
Почему же у нее такие мелкие мысли? Может быть, она просто слишком счастлива, и если самозабвенно переживать это счастье, сердце не выдержит? Наверное, это как автоклав (недавно Элеонора, преодолев сопротивление начальства, которое считало, что новые методы – непозволительная роскошь в голодное время, внедрила автоклавную стерилизацию инструментов и операционного белья и очень этим гордилась), если давление слишком возрастает, то пар тонкой струйкой сбрасывается через специальный клапан.
И она дала волю суетным мыслям, раздумывая о том, что ей надеть в церковь, чтобы понравиться Алексею, и не заметила, как заснула.
С наступлением весны в госпитале перестали топить, и теперь в просторных залах операционного блока было холоднее, чем на улице. Не то чтобы очень холодно, но промозгло.
Элеонора вышла в коридор. Там яростно делал зарядку доктор Калинин.
– И-раз, и-два! – командовал он себе, приседая в диком темпе. У нее закружилась голова от этого зрелища.
– Николай Владимирович!
– И-раз! – Калинин выпрямился, шумно выдохнул и улыбнулся, открыв ряд крепких, но неровных зубов. – Слушаю вас, Элеонора Сергеевна.
– Прекратите, пожалуйста! – Элеонора невольно улыбнулась ему, заметив, как напряглись колени молодого доктора в предвкушении приседаний. – В операционной не полагается заниматься спортом.
– Да я только согреться! – смех Калинина звучал неподобающе громко, но ей вдруг тоже стало весело.
– И все же, – она старалась говорить строго, – не полагается.
Калинин заметил, что «микробы, чай, не разлетятся», но приседать перестал.
Это был доктор из так называемых «кухаркиных детей». Благодаря усердию и природным способностям он получил образование, но манеры его оставались далеки от совершенства.
Калинин заглянул ей в глаза:
– Элеонора Сергеевна, а вы будете?
– Если вы спрашиваете, буду ли я на вашей операции, то нет. Не волнуйтесь, я назначу вам опытную сестру.
– Но это моя первая аппендэктомия!
– Я знаю и уверена, что вы справитесь блестяще.
– Пожалуйста!
Хлопнула дверь, и в коридоре появился Знаменский с планом операций на следующую неделю.
– Послушайте, Калинин! Будьте хоть немного аккуратнее! А то не поймешь, то ли доктор рецепт написал, то ли электрокардиограмма снята!
– Кардиограмма – что вы, откуда! – Калинин широко ухмыльнулся. Он обладал поразительной способностью отводить упреки, даже справедливые. – Роскошь по нынешним временам. Потом, сейчас свобода слова, а у меня – свобода букв!
– Я могу пойти еще дальше и объявить в госпитале свободу от вас, – сказал Знаменский сурово, пряча улыбку. – Что, доктор, уговариваете Элеонору Сергеевну встать с вами на аппендэктомию?
Это обращение вдруг неприятно царапнуло. Всех врачей Знаменский называл по имени и отчеству, а бедного Николая Владимировича – доктор Калинин или просто доктор, невольно подчеркивая разницу в, как теперь говорят, «социальном происхождении». Это вдруг показалось Элеоноре несправедливым. Калинин очень умный и способный врач, а чтобы овладеть профессией, ему пришлось преодолеть неизмеримо больше трудностей, чем детям из благородных семейств. А маститые доктора обращаются с ним свысока, и, если бы не революция, никогда бы Калинину не подняться выше земского врача!
– Хорошо, я помогу вам, Николай Владимирович, – неожиданно для самой себя сказала она, – только если вы не будете тянуть. Я сегодня не могу задерживаться.
– Надеюсь, мой дорогой, вы оцените эту честь, – буркнул Знаменский, – спасибо, Элеонора Сергеевна, теперь я спокоен за больного, а то без пригляда доктор Калинин такое натворит, что господи помилуй.
Элеонора засмеялась:
– Николай Владимирович опытный хирург! Я уж так, на счастье.
– Да, всем известно, что у вас необыкновенно легкая рука. Боюсь показаться старым брюзгой, но вижу тут проявление не высших сил, а высшей квалификации. Что ж вы стоите, доктор? Скорее подавайте больного, пока Элеонора Сергеевна не передумала!
Калинин умчался, а Элеонора пошла в операционный зал проверить, все ли готово. Что ж, все на месте, только очень холодно. Сейчас бы поприседать по методу Калинина! Но нельзя… Она знала, что с началом операции забудет о холоде, полностью сосредоточится на пациенте. На фронте в такие минуты она даже не слышала разрывов снарядов…
Хуже всего пациенту, хоть и говорят, что охлаждение во время операции полезно. Но человека и так знобит от волнения, а тут еще и мороз в операционной! И Элеонора решилась на святотатство – использовать одеяла. Не шерстяные, разумеется, байковые, и перед каждым использованием прожаренные раскаленным утюгом, но все равно это вопиющее нарушение санитарного режима.
– Элеонора Сергеевна, – Знаменский вошел в операционную вслед за ней, – что случилось?
– Ничего.
– Правда? Но сегодня ваши глаза так сияют! Меня так и тянет выглянуть в окно и проверить, действительно ли там все как так, как обычно.
– Все так…
– Разве? Вы уж простите старого дурака за прямоту… Я всегда считал вас удивительной девушкой, но сегодня вы светитесь прямо-таки неземным светом.
Она тихо улыбнулась, опустив взгляд. «Нет, ничего не случилось».
Просто завтра она придет на службу и тихо, буднично объявит, что вышла замуж. И Знаменский будет подтрунивать: «Ах, вот оно в чем дело!» А доктор Калинин отпустит какую-нибудь грубоватую шутку и первый захохочет своим плебейским смехом, от которого у всех почему-то улучшается настроение.
И сестры порадуются за новобрачную, даже те, кто ее недолюбливает. Ведь жизнь продолжается, несмотря ни на что.
Знаменский вот удивился, что она радуется жизни, когда все так плохо. Да, наступили страшные времена. Жестокое время, когда ты в одночасье можешь лишиться всего, что у тебя есть, а то и самой жизни. Но есть одно, что никто отобрать не может, – это любовь. Этот бесценный дар остается с тобой навсегда, и он важнее всего остального, даже самой смерти.
Элеонора посмотрела в окно. В по-весеннему бледном небе висело огромное белое облако. Оно было похоже на великана, готовящегося поглотить город. Дул небольшой ветер, облако двигалось быстро и как-то деловито.
И на Элеонору вдруг снизошло удивительное ощущение счастья. Пронзительная минута, когда она поняла: все, что происходит вокруг, – это нужно и правильно; и горе, и разлука, и смерть – это тоже счастье. А жизнь – краткий миг, когда ты видишь, часть чего ты есть…
Ей вдруг показалось, что Алексей не слишком рад визиту к Архангельским. Нет, не может быть! Просто он волнуется, это совершенно естественно.
Элеонора надеялась, что Ланской все решил, пока она была на службе: договорился в церкви и в отделе регистрации браков. Правда, там теперь, кажется, не нужна предварительная запись, просто приходишь с документами, и все. Но надо хотя бы узнать, где это находится и часы работы.
Она едва не поддалась разочарованию, узнав, что он ничего не сделал. Но Алексей прошел трудный и опасный путь, ему нужно время, чтобы прийти в себя.
Будь она на его месте, разумеется, первым же делом бросилась бы готовить свадьбу, но мужчины устроены иначе. Ничего, Ксения Михайловна с удовольствием возьмет практическую сторону дела в свои руки, улыбнулась Элеонора. Она обожает подобные вещи.
Не исключено, что завтра утром у меня будет настоящее свадебное платье! – она с нежностью подумала о своей энергичной и властной тетушке.
Ах, если бы только она не была в тот день такой счастливой и уверенной! Если бы заметила, как нехотя Алексей идет с нею к тетке! Если бы правильно поняла его молчание…
Им открыла Александра Ивановна. Кажется, она не очень обрадовалась непрошеным гостям, потому что замешкалась в дверях.
В Сашиной жизни произошли удивительные перемены, какие обычно бывают только в сказках. Зимой из скитаний вернулся Шварцвальд, причем вернулся самым неожиданным образом. Он перешел на сторону большевиков! Когда Петр Иванович рассказал об этом, Элеонора не поверила, решив, что дядя разыгрывает ее или просто шутит. Но нет. Новая власть, получив лежащую в разрухе страну, отчаянно нуждалась в специалистах, а барон, безусловно, был великолепным организатором и блестящим эпидемиологом. Он умел вникнуть в суть проблемы и найти остроумное решение. Элеонора помнила, как прекрасно и слаженно работал Клинический институт под его началом. В то время ей не с чем было сравнивать, но многие доктора, перешедшие в институт из других мест, говорили, что нигде больше нет такой приятной атмосферы для работы.
Элеонора не знала подробностей того, как Шварцвальд принял такое решение и кто составил ему протекцию, но теперь он снова занял пост директора института, параллельно войдя в состав разных комиссий. Обычно клиницисты недолюбливают организаторов, но от сотрудников госпиталя она слышала о бароне только хорошие отзывы. Даже Знаменский признавал, что его программа борьбы с испанкой позволила избежать многих жертв.
Вернувшись в Петроград, Шварцвальд сразу женился на Саше. Была в этом какая-то горькая ирония, что революция, отобрав у барона все, подарила влюбленным настоящее счастье.
И Александра Ивановна жадно, вопреки всему наслаждалась этим счастьем…
Она столько лет была любовницей барона, родила ему двоих детей, которые успели вырасти, прежде чем их мать обвенчалась с их отцом. Но барон был представителем старого рода, а Саша – простолюдинка, да еще и считающаяся замужней. Элеоноре как-то случайно пришлось стать невольной свидетельницей их объяснения, и она, хоть была в то время совсем юной и неопытной девушкой, тем не менее поняла, что это великая любовь.
И все же при прежнем порядке барон не решался на брак с разведенной дамой из самых низов. А теперь то ли мировоззрение его действительно переменилось, то ли перенесенные страдания сделали его мудрее, но он наконец соединился с любимой женщиной.
Когда барон вновь стал директором института, Саше пришлось уйти со службы, муж и жена не могут работать в одном учреждении на руководящих должностях, поэтому она с головой окунулась в роль хозяйки дома.
– Ксения Михайловна с Петром Ивановичем уехали, – сказала Саша неприветливо.
– Как? Куда? – у Элеоноры подкосились ноги. Она слишком хорошо знала, что это может значить. – Их что… взяли?
Последнее слово она произнесла одними губами.
– Нет. Нет, дорогая, не бойся, – смягчилась Саша, видя ее отчаяние, – они просто уехали.
– Но куда?! Саша, пожалуйста…
– Если вернутся, они сами тебе расскажут, а нет, так тебе и знать не надо!
Резкий тон подруги напугал Элеонору еще больше. Она крепко стиснула руку Алексея. Что случилось? Почему Саша говорит загадками?
– О, какие приятные гости! – барон вышел в прихожую и добродушно приобнял жену, отодвинув ее с порога. – Проходите, дорогие мои! Элеонора, э… Алексей Владимирович, если не ошибаюсь… Милости просим.
От волнения Элеонора еле нашла в себе силы поздороваться.
– Саша, прошу тебя, скажи, где Архангельские? И почему они ничего мне не сказали?
– Мне кажется, Сашенька, Элеонора имеет право знать, – негромко произнес барон, – Петр Иванович с женой уехали на съезд Королевского хирургического общества в Лондон. Ну что ж вы стоите? Проходите скорее, будем пить чай.
Элеонора была так ошеломлена, что не нашла предлога отказаться.
У Шварцвальдов были гости, судя по громким голосам и насквозь прокуренной гостиной, люди того круга, в котором теперь приходилось вращаться бедному барону.
Шла яростная дискуссия о политике. Если бы Саша была настоящей великосветской дамой, она бы знала, что разговоры о политике – дурной тон, и направила бы беседу в другое русло. Все же какая удивительная штука – любовь, соединяет совсем разных людей…
Шварцвальд представил их собравшимся, но Элеонора выделила только двоих – молодую даму, мрачные глаза которой странно не вязались с кукольно-красивым личиком, и широкого плотного мужчину средних лет. Остальные слились в серую безликую массу.
Алексей ввязался в разговор, а она приняла свою чашку с желудевым кофе и стала думать. Надо же, Архангельские уехали в Лондон! Понятно, что они не вернутся. Там Лиза, да она просто не отпустит родителей. Слава богу, что у них получилось соединиться с дочерью. И нужно радоваться, раз им так повезло, а не обижаться, что дядя с тетей ничего ей не сказали и не простились с ней. Боялись, что она донесет? Или, наоборот, что у племянницы начнутся неприятности, когда они не вернутся? А может, просто забыли о ней в предвкушении встречи с родной дочерью? Каковы бы ни были эти причины, она не имеет права сердиться! Это низко и недостойно, Архангельские всегда были к ней добры.
Получается, теперь некому выдать ее замуж за Алексея… Саша? Вот она хлопочет, подливает чай своим гостям, а на Элеонору даже не смотрит.
Шварцвальда теперь почти нигде не принимали, и трудно сказать, что послужило более веской причиной – его переход к красным или женитьба на простушке.
И Саша завоевывала то общество, которое было ей доступно.
Элеонора обвела взглядом гостиную. Барону вернули его старую квартиру, они с Сашей и детьми со дня на день переедут, Архангельские останутся в Англии. Ей больше не придется здесь бывать. Дом, в котором столько всего пережито, станет чужим…
Она так остро почувствовала одиночество, что взяла Алексея за руку и крепко стиснула. Он удивленно повернулся к ней, но сразу вернулся к разговору.
– Правильно говорит товарищ Ленин: или вошь победит социализм, или социализм победит вшей! – горячилась девушка с мрачными глазами. – Особенно в войсках! Мы не можем позволить себе потери еще и от сыпного тифа. Борьба должна быть такой же ожесточенной, как с классовым врагом.
Шварцвальд вдруг улыбнулся Элеоноре, наверное, вспомнил, что она болела сыпным тифом.
– Действительно, очень обидно, – сказал он мягко, но все прислушались к нему, – вот человек, венец творения, всемогущий царь природы. А потом вдруг заражается испанкой, например, и все. Конец. Бесконечно великое уничтожается бесконечно малым.
Элеонора поняла, что это намек на Свердлова, санкционировавшего расстрел царской семьи, и погибшего недавно от испанки. Правда, среди докторов ходили упорные слухи, что в его смерти виноваты организмы несколько крупнее, чем вирус гриппа. Якобы его избили до смерти рабочие. Но Элеонора не интересовалась ни жизнью, ни смертью пролетарских вождей. Чем грандиознее становилось творимое ими зло, тем более ничтожными людьми казались они сами. И ненавидеть их… слишком много чести!
Она совсем не таким представляла себе этот вечер. Казалось, родные станут радоваться за нее, а теперь Саша не обращает внимания на них с Алексеем.
– А я много о вас слышал, – плотный человек передвинул венский стул и сел рядом с нею. – Николай Васильевич вам предлагал должность главной сестры института, если не ошибаюсь?
– Нет, не ошибаетесь.
– Что ж не пошли? Я вижу, вы человек серьезный.
– Во-первых, это было бы кумовство. Все знают, что мы очень близки с Александрой Ивановной. Кроме того, я недостаточно подготовлена для этой работы.
– Ах, моя дорогая, – засмеялся человек. Элеонора вспомнила, что его зовут Сергей Антонович, – человек совершает великие дела именно тогда, когда он недостаточно подготовлен.
Она дежурно улыбнулась, не зная, как отвязаться от собеседника. Думала, ей поможет Алексей, но тот увлекся общим разговором. С эпидемиологических проблем беседа перешла на роль искусства в современной жизни. Но в разговоре по-прежнему лидировала товарищ Катерина, девушка с мрачными глазами. Чем банальнее были ее суждения, тем резче и категоричнее она высказывала их.
А Сергей Антонович все расспрашивал ее о службе в госпитале и о том, как она была на войне. Элеонора отвечала так скупо, как только позволяли приличия, и считала минуты до ухода.
Но, когда она наконец поднялась, ее ждал новый удар. Сергей Антонович вызвался довезти ее до госпиталя, а Алексей почему-то не возразил ему. Он ввязался в жаркую дискуссию о современной поэзии. Зачем? Стихи либо находят отклик в твоем сердце, либо нет, и спорами тут ничего не изменишь. Элеонора не увлекалась поэзией, и ее потрясло, как много в этой области знает Алексей и как хорошо декламирует, сдержанно и точно передавая смысл стихотворения.
И как-то так вышло, что Ланской оставался в гостях, а ее провожал Сергей Антонович. Алексей нежно простился с ней, мол, в автомобиле ей будет гораздо приятнее, чем идти пешком в такую даль. Кажется, его не смущало, что она остается наедине с незнакомым мужчиной.
Элеонора кинула Саше отчаянный взгляд, надеясь, что старшая подруга защитит ее, но та ответила лишь многозначительной улыбкой.
Смысл ее был вполне ясен – Сергей Антонович слишком влиятельный человек, и если он предлагает подвезти, нужно соглашаться, чтоб не было неприятностей ни у нее самой, ни у хозяев дома.
Ах, если бы Саша была настоящей баронессой! Она бы ни за что не допустила этой поездки. С другой стороны, Элеонора сама нарушила правила, явившись в гости в сопровождении молодого человека. Жених или не жених, а это дает повод смотреть на нее косо и избавляет Сашу от забот об ее добродетели. Ах, скорее бы уже пожениться, чтоб не было таких двусмысленностей.
Помощь неожиданно пришла от Шварцвальда. Извинившись перед гостями, он сказал, что проводит Элеонору сам. Мол, ему необходимо проветриться от папиросного дыма.
Лиза не понимала, что все позади и авантюра Макса удалась. В его плане виделось столько препятствий – просто не верилось, что они будут преодолены. Во-первых, приглашение на конгресс. Разумеется, Королевское хирургическое общество было бы очень радо видеть Петра Ивановича Архангельского в числе участников, но никому в голову не могло прийти, что для этого нужно делать официальный запрос. Обычно достаточно было личного приглашения.
Но вот ходатайство было отправлено, и оно не затерялось, пришло по назначению и было удовлетворено.
И настал день, когда Лиза встречала родителей! Она до последней минуты не верила, что это происходит в самом деле, и волновалась так, что Макс не пустил ее на вокзал.
Она осталась дома (на время конгресса они переехали в Лондон вместе с детьми) и бестолково металась по огромной квартире, запрещая себе верить, что сегодня увидит папу с мамой.
И когда раздался звонок, она сама побежала открывать, чувствуя, что сердце сейчас разорвется.
Она едва их узнала! На пороге стояли двое стройных молодых людей с живыми, резкими лицами. Куда делась степенная стать мамы и папина дородность! Только серый дорожный костюм Ксении Михайловны был прежним, да и тот почти вдове ушит.
Увидев ее растерянность, родители разом обняли дочь. Она прижималась к ним, все еще не веря, и плакала, и смеялась, и никак не могла их отпустить.
И Лиза вдруг подумала, что они ведь действительно молоды! Матери еще далеко до пятидесяти, а у отца юбилей был только в прошлом году. Они вовсе не замшелые древности, которые приехали доживать свой век под крылом у дочери. Впереди еще много дел!
– Господи, господи, – только и повторяла она, всхлипывая, – как же я соскучилась! Мы теперь всегда будем вместе?
И мать крепко-крепко обнимала ее, потому что не было слов выразить переполнявшую их любовь.
Только Максу удалось их разнять, и то не сразу. Он занес чемоданы, показал Архангельским их комнату и предложил освежиться с дороги. Распорядился подать обед через час, хотя это было Лизиной обязанностью.
Девочки спали, и решено было их не будить, но Ксения Михайловна не утерпела, заглянула в детскую и вышла со слезами на глазах.
– Какие красавицы, – умилялся Петр Иванович. Он хотел держать сразу обеих внучек на руках, но потерпел неудачу и расположился с девочками на ковре у камина, разрешая им ползать по нему и всячески терзать. Казалось, он абсолютно счастлив, Лиза даже немного приревновала. Сама она прижалась к матери, положила голову ей на плечо, и ничего другого было не нужно. Как она могла раньше ненавидеть мать и злиться на нее? Лиза горько раскаивалась, сердце болело, но это была правильная боль.
– Детки – вылитый отец.
– О нет, – засмеялся Макс, – потакая моему отцовскому тщеславию, вы очень расстраиваете меня. Надеюсь, они пойдут в Лизу. Я-то не слишком удался.
– А вот и нет. У вас, Макс, абсолютно правильные черты лица. Носик, например, гораздо изящнее, чем у супруги. У нас в роду ни у кого не было идеальных носов, – засмеялась Ксения Михайловна, – и у Петра Ивановича, к сожалению, тоже.
– Глядя на Лизу, так не о чем жалеть, – Макс подмигнул жене.
– Я тоже очень рада, что дочь не похожа на меня, – вдруг сказала Ксения Михайловна, – в роду Львовых никогда не было очень красивых женщин. Я даже в юности не была хороша собой, как и моя дорогая племянница Элеонора. Лизе просто повезло.
– Вы наговариваете на себя, – галантно возразил Макс, – и на Элеонору тоже. Насколько я помню, она очень мила.
– Но не так, как это нравится молодым людям! Ей нужно выходить замуж, а как? Женихов почти не осталось. Сердце кровью обливается, когда я думаю, что она останется старой девой. Не скрою, раньше я боялась за нее, особенно когда она отправилась на фронт… – Ксения Михайловна тихонько вздохнула. – Только теперь, когда мы вместе пережили все эти ужасы, я по достоинству оценила ее благородство!
Лизе вдруг стало грустно. Какой-то червячок шевельнулся в душе, зависть – не зависть, но что-то очень на нее похожее. Неужели Элеонора стала родителям ближе, чем она сама? Мама так восхищается ею, вдруг она и полюбила ее больше, чем Лизу, которая стала совсем обычной женщиной и жила так, что у нее просто не было случая проявить сильные стороны своей натуры?
Она посмотрела, как отец играет с внучками на светлом пушистом ковре, как ровно, уютно потрескивая, горит огонь в камине… Как он отражается в глазах мужа, счастливых и немного печальных. Что ж, пусть они совсем разные с сестрой. Элеонора – свет, а она, Лиза – тепло. Каждому свое, и нельзя сердиться.
– Не такие уж и ужасы, – вдруг проворчал с ковра Петр Иванович. Лиза удивилась, что он их слышал, отец казался полностью поглощенным девочками. – Я знаю, ходит много слухов про нашу действительность. Некоторые из них совершенно адские, а некоторые не соответствуют действительности. Вы не слишком-то пугайтесь.
– Дорогой мой, – вскинулась Ксения Михайловна, но он жестом остановил ее.
– Я не буду отрицать то, чего не знаю, но и не могу говорить о том, чего не было, – произнеся эту несколько туманную фразу, Петр Иванович встал. – Тебе не кажется, Лиза, что детям пора спать?
Она вызвала няню, та увела упирающихся девочек.
– Петр Иванович, – подал голос Макс, – в наших кругах говорят такое, что просто не верится. Мозг отказывается все это принимать. Но потом думаешь, что нормальный человек такое сочинить тоже не может, значит, получается, это правда.
– Да, многое правда. Но я могу говорить только о том, что произошло с нами. Да, нас выселили из дома, отобрали все имущество, но мы живы и здоровы. Знаем, что ты в порядке, а что еще нужно? Барахло – да не жалко, все эти бриллианты, столовое серебро, оно ж мертвое все! Родные люди, дети рядом… Руки-ноги целы, голова на месте, новый день – вот в чем счастье! Нет, дорогие, вы меня поймите правильно, – рассмеялся отец, глядя на озадаченную физиономию Макса, – я не в восторге от нового правительства и от всех этих потрясений. Я просто хочу сказать: как бы ни была трудна жизнь, она все равно лучше смерти. А теперь, когда мы с тобой, Лиза, так нам просто грех жаловаться.
Лиза понимала, что отец успокаивает ее, не хочет, чтобы она мучилась, думая о тех страданиях, которые им пришлось пережить. Голод, лишения, а главное – страх. Вернее, беззащитность. Знать, что в любую минуту тебя могут «забрать», держать в тюрьме или убить… И нет правил, которые позволили бы тебе избежать этого.
Как сказала сегодня мама, с приходом большевиков поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» обрела совершенно новый смысл.
Слава богу, все позади, думала Лиза, без сна лежа рядом с мужем. Родители теперь рядом, а бог даст, скоро эта безумная власть падет. Макс говорит, шансов удержаться у них не так и много. Все вернется, и наступит день, когда они все поедут в Петербург. Дочери увидят город, в котором родились все их предки…
Вдруг Лиза вспомнила доктора Воинова. Он так непрошено и резко вторгся в ее мысли, что она даже растерялась и покосилась на мужа, спит ли, не заметил ли, как она вздрогнула.
Она ведь почти забыла о нем… О том восторге, который он для нее открыл…
Если бы она решилась выйти за него замуж, у нее была бы совсем другая судьба. Не такая спокойная и благополучная, а, наоборот, полная испытаний. Как знать, хватило бы у нее сил их преодолеть? Но зато у нее не было бы сейчас неловкого чувства, что она отсиделась в сторонке и уклонилась от предназначенной ей ноши.
Лиза прижалась к мужу, он что-то пробормотал и обнял ее, не просыпаясь. Родной, уютный… Он так же не похож на Воинова, как Элеонора не похожа на нее саму.
Им с Костей было очень хорошо вместе. Он был прекрасным любовником, страстным, нежным и… И чужим, безжалостно закончила мысль Лиза. Он всегда оставался мне чужим, даже в момент высшего единения. Так что нечего жалеть.
Глава 3
Дежурство выдалось на редкость хлопотным, она не прилегла ни на секунду, но Элеонора была этому даже рада. После бессонной ночи у нее почти не осталось сил волноваться и нервничать.
И все равно она переживала, почему Алексей позволил ей уйти от Саши в сопровождении этого чертова большевика! Слава богу, Шварцвальд защитил ее доброе имя, но Алексей должен был сделать это сам!
Почему-то сердце грызла еще какая-то неясная обида на Александру Ивановну, смутное чувство, в котором Элеонора не хотела давать себе отчета. Саша выстрадала и в полной мере заслужила нынешнее свое счастье, но… Кажется, теперь у нее совсем не находилось сил для нежности к прежней воспитаннице, да и вообще все на свете стало для нее не важным.
Она очень надеялась, что Алексей зайдет за ней на службу и они отправятся регистрировать брак, но его не было, и Элеонора побежала домой.
Комната была пуста…
Ни записки, ничего. Только «сидор» Алексея подтверждал, что его возвращение не было сном.
Где он, куда ушел? А вдруг его взяли? – от этой мысли Элеонора похолодела. В их огромной коммунальной квартире кто только не живет… Вполне могли донести куда следует.
Она опустилась на кровать, стиснув лоб ладонями. Нет, нет, нельзя об этом думать! Мало ли какие у него дела.
Несмотря на все разумные доводы, что Алексей ищет работу или пошел повидаться с кем-нибудь из старых друзей, холодный страх не отпускал ее.
Элеонора так волновалась, что не могла ничего делать, ни порядок наводить, ни готовить. Все валилось из рук.
Вспомнив, что не спала ночью, она решила прилечь. Во сне время летит незаметно, а когда проснется, Алексей будет уже дома. Но ничего не вышло, она смотрела в потолок, а сердце колотилось как бешеное.
Он вернулся в десятом часу вечера, Элеонора бросилась в его объятия и сразу устыдилась своих страхов. Как не стыдно быть такой мнительной!
– Дорогой, как мы теперь поступим? – спросила она, когда они, скудно пообедав пшенной кашей, приступили к чаю.
– Прости?
– Я думаю, просто пойдем и повенчаемся, вот и все. Пусть это будет событие только для нас двоих, правда?
Алексей поставил чашку на стол.
– Видишь ли, любимая, – начал он мягко, – я думаю, нам не стоит пока этого делать.
– Этого чего? – она все еще не понимала.
– Венчаться!
Время словно замерло на секунду, а потом с размаху ударило ее в лицо.
– Ты… Повтори, пожалуйста, кажется, я тебя не поняла, – у нее все еще оставалась тень надежды.
– Элеонора, прошу тебя, не делай трагедии на пустом месте. Я всего лишь считаю, что сейчас не время венчаться. Это формальность, и пока лучше обойтись без нее.
– Формальность? – ей было так больно, что сердце разрывалось. О, лучше умереть, чем переживать эти минуты. – Самое важное в жизни для тебя формальность?
– Послушай, мы вместе, и это главное! Я вернулся к тебе, я с тобой, что еще нужно? – горячился Алексей. – Зачем подвергать себя лишней опасности ради пустого обряда?
– Без этого пустого обряда я стану падшей женщиной, – она удивилась, как глухо звучит ее голос.
– Ой, не усложняй! Все изменилось, сейчас другая жизнь, другие законы, другая мораль. Никто не посмотрит на тебя косо.
– Да, всего лишь я сама себя возненавижу…
– Милая, я все понимаю. Но рассуди сама… Мне нужно устраиваться на службу, тебя тоже могут перевести на более высокую должность. Будучи у Шварцвальдов, я слышал, что это почти решенный вопрос. Нам дадут анкеты, и что нам придется в них писать, если мы поженимся? По сути, донос друг на друга. Зачем это нужно? В первую очередь тебе зачем муж – белый офицер?
– Опомнись, что ты говоришь, – простонала она, – я люблю тебя, я ждала тебя все это время, и сердце мое с тобой! Кто бы ты ни был, я не откажусь от тебя!
– Я тоже, любимая! – Алексей взял ее за руки. – Мы соединились наконец и всегда будем вместе, но зачем оповещать об этом власть, которую мы не приемлем? Достаточно, что мы с тобой уверены друг в друге. Сейчас очень тяжелые времена, Элеонора, власть в руках подонков, а на благородных людей идут страшные гонения. Мы должны затаиться, должны выживать любой ценой.
– Если мы будем выживать любой ценой, то перестанем быть благородными людьми.
– Ах, не играй словами.
– Это не слова. Ты хочешь, чтобы мы просто жили вместе? Чтобы я была твоей любовницей? Это невозможно, Алексей! Просто невозможно.
– Не любовницей, а фактически женой. Мы просто обойдемся без формальностей. Сейчас такое время, что все нас поймут, и Бог, и люди.
– Такое время, что, наоборот, надо себя соблюдать! – воскликнула она. – Алексей, мне трудно это объяснить… Понимаешь, когда заходит солнце, люди зажигают свечи, и тьма не наступает.
Она смотрела на него, умирая от любви, но понимала, что все кончено. Мир обращался в пепел, а сама она – в камень.
– Я не могу продолжать этот унизительный разговор, – сказала она спокойно, – последний раз прошу тебя, одумайся. Иначе между нами все кончено.
– Любимая, это я тебя прошу! Я ведь забочусь о нас обоих, если мы сейчас поженимся, с нашими-то биографиями, то медовый месяц проведем в ЧК, причем порознь. Подождем немного. Мне кажется, скоро все переменится, Юденич идет на Петроград. Эта безумная власть падет, и мы сразу же обвенчаемся.
– Довольно! – каждое его слово жгло ее, словно кислота. – Замолчи. Если мы не женимся, мы должны немедленно расстаться. Уходи, пожалуйста!
– Куда же я пойду? Мне некуда идти.
– Хорошо, останься до утра. Я переночую на службе, но когда вернусь, прошу, чтобы тебя здесь не было.
Элеонора схватила жакетик и убежала.
Выскочив на улицу, она глубоко вдохнула холодный ночной воздух.
Если бы она осталась дома хоть минутой дольше, она бы закричала.
Боль была почти невыносимой, будто в сердце воткнули раскаленный прут, а она не могла его выдернуть. Надо терпеть…
Это был не просто холодный удар судьбы. Сейчас рана была заражена гноем предательства, и она будет болеть и дергать очень долго, а вернее всего, не заживет никогда.
Можно еще все исправить, достаточно поверить, что Алексей прав. Убедить себя, будто опасность действительно так велика. Решить, будто их любовь выше условностей, а брак – просто пережиток прошлого, как говорят теперь. Будто, не связанные обязательствами, они только крепче станут любить друг друга, зная, что связывает их настоящая любовь и желание быть вместе, а не ложный долг и пустые клятвы.
Не так уж трудно убедить себя в этом, особенно когда твоя душа кричит – уступи! Любой ценой, любым способом облегчи мои муки, убери этот раскаленный прут, убивающий меня!
Браки совершаются на небесах, а не на земле… И Алексей не так уж преувеличивает, точнее, говорит чистую правду. Сейчас нужно сообщать в отдел кадров обо всей своей семье, это верно, а ничего хорошего с точки зрения новой власти они друг о друге написать не могут.
Венчаться – тоже риск, если кто-нибудь увидит и донесет.
Любому человеку с неподходящей биографией стало жить опасно, а женатому – опасно вдвойне. Новая власть придумала совершенно удивительную практику – за грехи жены забирать мужа и наоборот.
Алексей любит ее и хочет, чтобы они были вместе, чтобы жили, а не погибли в ЧК.
И так хочется согласиться с ним! Бежать назад, в его объятия. Обменяться клятвами в вечной верности и решить, что этого достаточно.
И кто ее упрекнет? Архангельские уехали и никогда не узнают, что она пала. Саша… Ей будет приятно узнать, что благородная княжна так же грешна, как и она сама.
Элеонора остановилась. Несмотря на поздний вечер, на улице было очень оживленно.
Проезжающий трамвай был туго набит, люди торопились по своим делам, пробегали мимо нее, толкали… На секунду у Элеоноры возникло чувство, будто она заброшена сюда из какого-то другого мира и впервые в жизни видит эти пыльные стены домов, окна, уходящие под тротуар, нарядно-красную коробку трамвая и людей, таких разных… Вот они идут, кто-то мрачный, кто-то наоборот. Человек в толстовке и с вытертым добела кожаным портфелем, может быть, спешит по делам, а может, торопится домой, к стакану чая в серебряном подстаканнике. Юноша с девушкой идут, взявшись за руки. Они молчат, даже не улыбаются. О чем они думают? Или этот пожилой человек с эспаньолкой. Есть ли у него семья или он совершенно одинок и сам гладил свой костюм, безуспешно пытаясь скрыть, что тот стал ему сильно велик?
Страна переживает великие и страшные перемены, но каждый проживает свою собственную жизнь. Бог дал человеку высшее сокровище – свободу воли, и нельзя из страха отказываться от нее.
Вернуться к Алексею и зажить с ним как любовница? Каждую минуту ожидая, что он уйдет, когда станет опасно? Скажет, что они должны расстаться ради ее же спасения, и исчезнет… Какую боль испытает она тогда? Стократ сильнее, чем сейчас, или, наоборот, облегчение, ибо каждый лживый поцелуй Алексея будет больнее, чем удар ножом?
Их жизнь будет ложь!
В каком-то смысле брак действительно условность, и беда совсем не в том, что, не связанный обязательствами, Алексей в любую минуту оставит ее одну. Она не искала в их союзе никаких выгод, никакого облегчения своей участи.
Элеонора была готова к любым невзгодам, даже к смерти, лишь бы только они стали «плоть едина». И когда они первый раз были вместе, это было правильно. Смерть притаилась тогда совсем рядом, готовая выскочить из-за любого угла и забрать или ее, или его, или их обоих. Тогда это было правильно – соединиться, впечататься друг в друга, чтобы потом хранить в сердце всего любимого целиком, если уж не получится пройти жизнь вместе с ним… Тогда это было действительно не важно, она стала любовницей любви.
Теперь ей предстоит стать любовницей страха.
Проходя мимо, люди задевали ее, с раздражением думали, что за странная женщина застыла посреди улицы. Нужно решать, возвращаться ли. Боль пройдет, а к стыду она привыкнет. И ночь, которой она не стыдится сейчас, станет воспоминанием распутной девки.
Господи, как же больно! Если она сейчас откажется от Алексея, душа просто не выдержит этой боли и умрет… Но если останется – сгниет заживо!
Ради любви можно пережить все, только не унижение.
Элеонора шагнула в сторону госпиталя. Это был трудный и болезненный шаг, но за ним последовал второй.
Она шла, хоть каждый шаг будто отрывал кусок от ее сердца.
Дежурил доктор Калинин, он как раз закончил операцию и записывал ее в журнал. Элеонора хотела проскользнуть незамеченной в маленький закуток возле автоклавной. Там стояла кушетка, и сестры частенько ночевали на ней, особенно зимой, когда дома было так холодно, что приходилось оставаться в пальто.
Благодаря предыдущей ночи на дежурстве она чувствовала, что сможет уснуть. Хоть во сне, хоть ненадолго избавиться от боли.
А если бы он погиб? Ей было бы больнее… и легче! Ее любовь, ее душа осталась бы жива, а не издыхала бы сейчас в муках унижения, как бродячая собака.
Так тяжело узнать, что ты отдала душу, да и тело недостойному человеку. Что твой герой – не герой, любовь – не любовь, да и ты – не ты.
– Элеонора Сергеевна, здравствуйте! – Калинин симпатизировал ей, и сейчас засмеялся от удовольствия, что ее видит. – А вы разве дежурите? Ой, что с вами?
Николай Владимирович поставил в журнале большую кляксу, и Элеонора удивилась, почему ее это огорчило.
– Ничего, все в порядке. Просто у меня дома соседи… Решила, спокойнее переночевать здесь.
– А почему у вас лицо такое опрокинутое? Что случилось, милая Элеонора Сергеевна? Кто-то умер?
– Я.
– Что?
– Ох, простите. Никто, слава богу.
– Тогда что? Заболел? Вы скажите, я помогу!
Она думала, что разучилась плакать. Но дружеское участие Калинина вдруг лишило ее самообладания, она почувствовала, как глазам становится горячо… Чтобы не расплакаться, она сильно закусила губу и покачала головой:
– Нет, ничего. Все здоровы, – еле удалось прошептать, но слезы покатились по лицу, а она не могла их остановить.
Калинин был простой и невоспитанный парень, но он сделал вид, будто не заметил ее слез!
– Ну, раз никто не умер и все здоровы, то жизнь продолжается, – сказал он задумчиво, – остальное – это мелкие неприятности, я как врач говорю.
Она на секунду отвернулась, вытерла слезы и улыбнулась. Бог знает каких усилий ей стоила эта улыбка.
– А давайте я вас чаем напою! – продолжал Николай Владимирович, как ни в чем не бывало. – У меня есть немножко самого настоящего чая.
Элеонора покачала головой.
– Давайте, давайте! Чаем, конечно, горю не поможешь, но от всяких штучек судьбы это лучшее лекарство, по себе знаю. Особенно если с сахаром, а у меня как раз есть.
– Николай Владимирович, вы так хлопочете обо мне, между тем ничего не случилось. Все в порядке.
– Знаю, знаю! Пусть это будет взятка, ладно? Чтобы вы еще раз потом встали со мной на операцию? Пожалуйста! Вы когда помогали мне на аппендиците… Я так раньше никогда не оперировал! Это было как волшебство, я другого слова не найду.
Она кивнула и почувствовала, что натянутая улыбка становится искренней.
Черт возьми, она не погибла! Она может дышать!
У нее есть дело, которое она любит. Она нужна людям, нужна больным, нужна доктору Калинину, который теряется без ее подсказок, нужна сестрам, которых может научить всему, что умеет сама.
А счастье… Да бог с ним, слишком тяжело оно дается.
Она вздохнула. Боль никуда не делась.
Больно, значит живой! – говорил доктор Воинов солдатам, когда в госпитале не хватало лекарств.
И он был прав.
Глава 4
Она еще надеялась, что Алексей одумался. Что малодушие, овладевшее его сердцем, пройдет, и он встретит ее дома.
Элеонора даже помолилась украдкой, чтобы Господь укрепил его душу.
Но Ланской ушел, когда она вернулась домой, там было пусто. Исчезла его шинель без знаков различия, исчез «сидор», и даже запах папирос испарился без следа. Будто Алексея здесь не было и ей приснилось и счастье, и отчаяние.
Однако ложиться в постель, где они были вместе, Элеонора не могла. Она подарила кровать соседке, а сама устроилась на полу, на тощем тюфяке.
А сон не шел к ней и на полу, мучительные воспоминания, как они были вместе с Алексеем, не отпускали.
Элеонора почти переселилась на работу, кушетка за автоклавной стала ее постоянным ложем, благо с наступлением весны желающих ночевать на службе резко поубавилось.
Она работала, как сумасшедшая, набрала еще больше дежурств и подавала на сложных операциях, даже когда была свободна. Во время работы она забывала обо всем.
Но через неделю Знаменский выгнал ее, приказав три дня не появляться на службе. Мол, загоняя себя таким образом, она приносит не пользу, а вред.
С этим было трудно не согласиться.
День она промаялась дома, надеялась отоспаться, но ничего не вышло, как она и предполагала. Сон покинул ее, кажется, навсегда.
Элеонора боялась засыпать, ибо в эти минуты приходили самые горькие мысли, а просыпаться резко, будто от толчка, было еще хуже.
Сидеть дома – невыносимо, а пойти некуда. Недавно появилось новое развлечение – кинематограф, но Элеоноре оно совсем не понравилось.
Вдруг ее навестила Саша.
Шварцвальды переезжали, барону вернули его прежнюю квартиру на территории института. По прежним понятиям это была холостяцкая квартира, но по нынешним временам трех комнат на четырех человек считалось более чем достаточно.
Саша пригласила ее на новоселье.
– Будут только самые близкие друзья, – сказала она и, смутившись, добавила: – Сергей Антонович тоже будет. Он мне, кстати, замечал, что очень хотел бы тебя видеть.
– Тогда я, пожалуй, не приду. Поздравлю вас в неофициальной обстановке, если позволишь.
– Элечка, послушай меня! Сергей Антонович – очень влиятельный человек, и мы очень ему обязаны. Страшно подумать, что было бы с Николаем, если бы не помощь Кострова.
– О! Это и есть сам Костров? – фамилия была на слуху, но в подробности Элеонора, естественно, не вникала.
– Да, моя дорогая, это он и есть! А ты просто не хочешь знать, что он не только очень важный чин в правительстве, но и хороший человек! Ты считаешь, что раз большевик, значит дьявол, но это не так! Совершенно не так!
Саша горячилась, значит, не верит в то, что говорит, отметила Элеонора хладнокровно.
– Он давно знает о тебе, еще заочно. Николай рассказывал о твоих подвигах, он тоже восхищается тобой, просто у меня не было случая сказать тебе, – тараторила Саша, – и он очень, очень жалеет, что ты отказалась перейти на мою должность. Ты была бы идеальной главной сестрой.
– Сашенька, я слишком молода, никто не поверит, что меня назначили за истинные заслуги. Начались бы всякие грязные сплетни, а я этого не хочу.
Александра Ивановна с досадой махнула рукой:
– А всегда сплетни, привыкай. И чем ты чище, тем они грязнее. В любом случае приходи. Такое знакомство будет тебе очень полезно.
Элеонора выпрямилась на стуле:
– Полагаю, Костров рассчитывает на иное знакомство.
– Ну да, ты ему понравилась! Но он же взрослый человек и прекрасно видит, что с тобой нельзя просто… Ну, ты понимаешь. Он не женат, и ничего плохого, если он за тобой немного поухаживает.
Поухаживает…
– Эля, он хороший человек. Не какой-то там оголтелый. Они с Николаем знакомы давно, вместе ездили на эпидемию чумы в Маньчжурии в десятом году.
– Так он врач? – удивилась Элеонора.
– Нет, конечно! Был обычным делопроизводителем, но Николай тогда заметил его способности. А Костров тоже оценил мужа по достоинству. Шварцвальду ведь пришлось бороться не только с бактерией чумы, но и с косностью наших чиновников, что гораздо хуже. Еле удалось выбить разрешение на вакцинацию, правительство долго сопротивлялось, и знаешь почему? Потому что автор вакцины – иудей! Я не говорю о том, что этот иудей, Владимир Хавкин, родился в Одессе, и если бы ему позволили работать в России, то вакцина была бы нашей, нам не пришлось бы закупать ее в Англии.
Элеонора пожала плечами:
– Он мог креститься.
– А он не хотел! Ты бы приняла иудаизм ради работы? А почему он должен? Вот и уехал в Швейцарию! Николай говорил, что эта потеря сравнима с потерей части территории страны. Когда знаешь такие вещи, перестаешь считать революцию порождением ада.
Не хотелось ссориться, поэтому Элеонора промолчала и пошла в кухню за кипятком. У нее был маленький примус, мощности которого вполне хватало для ее скромных потребностей, она вообще старалась занимать в квартире как можно меньше места.
Саша сетует, что евреям не разрешали работать, где они хотят. Ну да, ужасно, когда ты не волен в своих убеждениях и должен предать их ради того, чтобы заниматься любимым делом. Это страшная несправедливость. Но разве сейчас иначе? Разве ты можешь исповедовать любую веру? Нет, стало только хуже. Саша спросила, приняла бы она иудаизм ради службы. Не такой уж праздный вопрос, если подумать. Людям постарше еще позволяется «политическая незрелость», а с молодых спрос особый. Придумали какой-то «комсомол», к ней уже подъезжал фельдшер Шура Довгалюк, мол, образцовая сестра, все берут с нее пример, а она до сих пор не в комсомоле. В любой момент скажут: или вступай к нам, или пошла вон. Только уехать придется не в Швейцарию, а несколько севернее. На Соловки.
Чайник уютно зашумел. Элеонора поискала глазами рукавичку. Да, вот она, валяется на соседском столе, и снова опалена. Бесцеремонные соседи часто хватают ее вещи, пользуясь тем, что она никогда не скандалит. Брать рукавичку стало противно, и она взяла ручку через полотенце.
– Саша, я очень хочу поздравить вас с новосельем, – мягко заметила Элеонора, подавая подруге дымящуюся чашку, – но, боюсь, мне не следует поощрять Кострова. Так я не приду, и он обо мне забудет, а иначе… Он потребует то, что я не смогу ему дать, и тогда он сильно разозлится. И на тебя в том числе.
– А на меня-то за что?
– Ну как же! Прости за резкость, но ты получаешься сводней.
Саша поджала губы:
– Интересно рассуждаешь. У меня приличный семейный дом.
– Вот именно. И в приличных домах не приводят одиноких девушек по просьбе мужчин.
– Н-да? – хмыкнула Саша. – А как же ваши великосветские балы и приемы?
– Не знаю, я никогда там не была, – Элеонора улыбнулась, стараясь шуткой смягчить разговор, – дорогая моя Сашенька, ты ведь не должна принимать всех этих людей! Они всего лишь деловые партнеры барона, пусть он сам их принимает у себя в кабинете, если это нужно. Совершенно нет необходимости устраивать эти вечера и сближаться с ними больше, чем этого требует служба Николая Васильевича.
– Почему же? – по проступившему на щеках румянцу видно было, что Саша рассердилась. – Почему я не должна их принимать? Недостаточно благородное общество? А ты не забыла, что я сама не из благородных? Все твои аристократы нос воротят от меня, даже Архангельские. Уж куда там, голубая кровь, а я для них ничтожество последнее! Пока их пригрела, кормила-поила, когда их вышвырнули на улицу, так Сашенька-Сашенька, а как я вышла за Николая, так губы стали поджимать. Прислуживать им хороша была, а в баронессы Шварцвальд рылом не вышла!
Элеонора протянула руку, желая остановить подругу, но та гневно отмахнулась:
– Николая не принимают, ах, женился черт знает на ком да перешел к красным! Преступление, можно подумать! А почему Николаю предложили должность? Разве потому, что он гад и предатель? Нет! Потому что, пока они бездельничали, состояния свои проматывали, он трудился как каторжный и принес много пользы стране и людям! Уверяю тебя, если бы твоим любимым аристократам предложили, так они бы помчались задрав штаны еще впереди барона, только вот они никому не нужны, поэтому и бесятся!
– Мне кажется, ты немножко неправильно воспринимаешь…
– Черта с два! Высшее общество, подумаешь! Чем оно так уж прекрасно? Принимало изящную позу, сидя на шее у народа? Вот мы теперь и посмотрим, особенные они или нет, когда им придется жить так же, как простым людям. Я тебе так скажу, Элеонора. Пусть мои гости недостаточно изысканное общество для тебя, но это хорошие люди, которые всего добились собственным трудом, как и я. И я скажу, чтобы тебе понятно было: это аристократия нового общества. Мы с Николаем всю жизнь работали и завоевали право быть среди этих людей. Не по праву рождения, не из-за денег, а только по своим заслугам. Мы слишком много перенесли и заслужили право жить, и я не собираюсь от этого отказываться из-за замшелых предрассудков!
Элеонора только кивнула. Что тут возразишь? Она чувствовала, что все это неправильно, но не могла сформулировать ответ даже для себя, не то что для воодушевленной революционной моралью подруги.
– И ты могла бы их отринуть, ведь тоже всю жизнь своим трудом жила! Переходи к Николаю на мою должность, ты прекрасно справишься. Я помогу, если что. Нужно пользоваться возможностями, которые открывает новая власть, а не рыдать об утраченном.
– Я и не рыдаю.
– Ну и молодец. Все же приходи к нам на новоселье, присмотрись к Сергею Антоновичу. Я тебе точно говорю, он порядочный человек, что плохого, если я, как старая мамаша, хлопочу о выгодной партии для тебя?
– Саш, но он в отцы мне годится, – засмеялась Элеонора.
– Милая моя, ты должна смириться, что нравишься зрелым мужчинам. Только умудренный жизнью человек способен оценить твою прелесть. Помнишь, за тобой ухаживал какой-то старый граф, и мой барон, кстати, от тебя без ума, я даже ревную. Тебе, мне кажется, тоже интереснее с умными людьми, чем с молокососами. Присмотрись, может, что и получится. Не буду скрывать, нам сейчас очень нужно расположение Кострова. Архангельские уехали, а Николай-то за них поручился, что вернутся! Если бы не его хлопоты, шиш бы их пустили на этот конгресс. Видишь, какие благородные твои дядя с теткой, милостиво дозволили Николаю устраивать их дела. Оказали такую честь, не побрезговали! А то, что у нас будут крупные неприятности, им дела нет! Или они считают, что для нас, недостойных, честь страдать ради их счастья?
Элеоноре вдруг стало очень тоскливо, почти физически трудно слышать Сашин голос. По-житейски она права, но, боже мой, какая это грязная и скучная правота.
Или это намек? Мол, раз твои родственники подвели моего мужа, искупай их вину, сойдись с могущественным большевиком…
Но это же Саша! Саша, которая терпеливо учила ее, благодаря которой она стала лучшей операционной сестрой в Петрограде! Которая подарила ей первое рабочее платье! Которая приютила у себя Архангельских и делилась с ними каждым куском хлеба! Которая всегда помогала ей и утешала ее…
Она просто очень измучилась. Долгожданное счастье досталось ей слишком тяжело.
Две недели конгресса пролетели очень быстро. Лиза была счастлива, как никогда в жизни, купаясь в лучах родительской любви. Утром муж отправлялся в Сити по делам, папа – на научное заседание, а они с мамой оставались нянчить девочек.
– Господи, какое счастье! – как-то воскликнула Ксения Михайловна. – Я могу больше не воспитывать ни тебя, ни внучек! Могу просто любить…
Добросовестно отсидев утреннее заседание, Петр Иванович частенько сбегал после перерыва, и от этого школярского поступка просто неприлично молодел, становясь действительно больше похожим на гимназиста-прогульщика, чем на маститого профессора.
Он очень любил дочь, но истинными королевами его сердца стали все-таки внучки. Вся любовь мира, возведенная в квадрат, и то будет мало, говорил Макс.
Иногда Лиза думала, почему родители не оформляют документы на жительство, но сразу прогоняла эти мысли. Максу лучше знать, вероятно, он все уже устроил. Кончится конгресс, и они все вместе поедут в Грэндж, родители отдохнут, опомнятся после страшных испытаний. А потом… Да все что угодно! С его опытом и репутацией отец украсит любой госпиталь! А если не захочет работать, еще лучше! Гонорары от издания монографий позволят родителям чувствовать свою независимость, Лиза знала, что для них это очень важно.
Словом, будущее виделось ей в спокойных, светлых тонах.
Каким же ударом стало известие, что родители собираются обратно в Россию!
Лиза сначала не поверила, посчитала это неудачной шуткой и искренне рассмеялась:
– Папа, не пугай меня, я уже не маленькая!
Но лица родителей оставались серьезными.
Они собрались у Макса в кабинете, как обычно поздними вечерами. Топили небольшой камин, играли в карты или просто смотрели на тени, отбрасываемые огнем на каминный экран. Вели тихие, неспешные разговоры, делились воспоминаниями. И вдруг такое известие.
– Но это невозможно, – сердце забилось как сумасшедшее, – просто невозможно! Вы погибнете…
– Что ж… Империи рождаются, живут и умирают, и долг гражданина умереть вместе со своей страной.
– Петр Иванович, оставь этот пафос! – досадливо воскликнула Ксения Михайловна и обняла дочь. – Ты готов и сам мучиться, и всех измучить! Лиза, милая, будь моя воля, я бы осталась!
Мать крепко обняла ее, а Лизу затопила боль предстоящей разлуки. Неужели есть что-то важнее, чем быть вместе?
– Действительно, Петр Иванович, – вступил Макс, – вы врач и ученый с мировым именем, не пропадете здесь. И, к слову, принесете гораздо больше пользы людям и науке, чем если вернетесь в Россию, где вас унижают, заставляя пользовать всякий сброд.
– Это высшее призвание врача, пользовать всякий сброд, – буркнул Петр Иванович, – не буду скромничать, я действительно неплохой хирург, именно поэтому я нужнее там. Именно в России мои знания необходимы, а здесь таких, как я, полно!
Ксения Михайловна отвела Лизину руку, встала и подошла к окну, делая вид, что разглядывает вечерний лондонский пейзаж, прибитый к земле плотным туманом. Значит, все это время они спорили, поняла Лиза. Мама так хотела остаться с нею и делала вид, что останется, чтобы не омрачать радость известием о скорой разлуке. И до последней минуты надеялась, что муж передумает… Лиза тихонько заплакала.
– Не надо, пожалуйста, – отец протянул ей руку, – не рви нам сердце, ведь сейчас мы еще вместе.
– Папа…
– Действительно, Петр Иванович, – Макс открыл ящичек с сигарами, мужчины закурили, – эти ваши пациенты, которым вы так нужны, что готовы к разлуке с семьей… Они ведь не просят вас им помогать.
– Совершенно точно! – резко заметила Ксения Михайловна. – Это Петру Ивановичу приходится доказывать, что он достоин лечить больных, а не разгребать снег! Благодарности от этих плебеев ждать не приходится. Ладно гонораров, я уж за тридцать лет привыкла к его бескорыстию, но и обычной человеческой благодарности тоже нет! Зачем метать бисер перед свиньями?
– Затем, что такая судьба, – отец добродушно усмехнулся, выпустил дым, и Лиза подумала, как же мало она знает его. – Вы, Макс, уехали, так как у вас были деловые интересы. Лиза последовала за мужем, это совершенно естественно. Так сложилось, что вы не можете вернуться, это тоже судьба, ни о каком предательстве тут речи быть не может. У вас маленькие дети, их нельзя подвергать опасности. Ну а мы с Ксенией Михайловной принадлежим больше прошлому, чем будущему. И должны быть рядом с нашим прошлым.
– Если уж философствовать, дорогой тесть, то все мы живем в настоящем.
Петр Иванович грустно покачал головой:
– Мы просто не можем остаться. За нас поручился Шварцвальд, нельзя подвести его.
– Неужели он не понимал, что вы не вернетесь?
– Понимал. И сказал, что готов к такому повороту.
Мать тяжело вздохнула:
– Лиза, мы не можем нарушить слово. Будь я одна, смогла бы ради тебя, а Петр Иванович – нет. И когда ты станешь взрослее, ты поймешь, что это тоже ради тебя и ради девочек.
– Не плачь! Еще неизвестно, долго ли продлится это безумие. Надеюсь, в конце лета все решится, к власти придут нормальные люди, и мы сможем ездить друг к другу в гости, сколько захотим.
Мать прижалась щекой к ее мокрой щеке:
– У нас впереди еще целый день! Давай проведем его радостно.
– Да, Лизонька… – отец взял ее за руки, совсем, как в детстве. – Я сердцем чувствую, мы расстаемся ненадолго.
– А если нет? – всхлипнула она.
– А если нет, то дети все равно рано или поздно теряют своих родителей, – тихо сказал Петр Иванович, – поэтому в случае чего у тебя будет одно преимущество – ты будешь думать, что мы живы.
Глава 5
Элеонора долго раздумывала, идти ей к Шварцвальдам или не стоит. Гости будут все больше того пошиба, после визита которых хозяйки пересчитывают столовое серебро, да и праздник какой-то странный. Барону милостиво возвращают его исконную собственность, чему тут радоваться? А тут еще Костров… Судя по тому, что он спрашивал о ней у их партийного активиста Шуры Довгалюка, вечно ошивающегося в горкоме, интерес его не угас. Теперь весь госпиталь знает, что Элеонора водит знакомства с партийными бонзами, а это совсем нехорошо. Те, кого она уважает, получили повод ее презирать, а остальные – завидовать.
С другой стороны, Саша ее наставница и подруга и, похоже, единственный близкий человек на этом свете, ведь Архангельские уехали. Разве правильно отталкивать ее из-за неподобающих знакомств? Допустим, она не придет, Саша ее, конечно, простит, но прежней открытости между ними уже не будет.
Если уж на то пошло, аристократический мирок, частью которого она себя считает, тоже не очень-то привечает ее. После отъезда Ксении Михайловны с Петром Ивановичем она не получила ни одного приглашения. Все как раньше: без красоты, состояния и связей она никому не интересна. Ты сама виновата, сразу возразила себе Элеонора, ни с кем не сблизилась, с девушками тебе было скучно, а молодые люди… Да, они тебя не замечали, так ведь ты и не старалась их привлечь. Смирись с тем, что ты больше сестра милосердия, нежели аристократка, и не чуждайся таких же сестер, как ты сама.
И только она решила идти, даже связала в подарок прелестную накидку для кресла, как Саша внезапно навестила ее сама. Вид у старшей подруги был понурый и слегка виноватый.
– Как хорошо, что ты пришла, – улыбнулась Элеонора, – располагайся, будем пить чай.
– Нет, спасибо, – Саша крутила в руках свою модную шляпку, переделанную, очевидно, из старого котелка барона. Даже в голодные времена эта женщина ухитрялась выглядеть элегантно, частью благодаря природной грации, а в основном за счет умелых рук и изобретательности. Элеонора, увы, была совершенно лишена этого дара. Аккуратность – вот главная характеристика ее внешнего облика.
– Чем же мне тебя угостить?
– Ничего не надо, я по делу. Хотела сказать… Черт, как неудобно, – замялась Саша, – но все равно придется. В общем, Элечка, если ты решила не ходить к нам, так и не ходи. Я пойму.
– Нет, что ты! – Элеонора была очень тронута. – Я, наоборот, приду и прошу тебя не обижаться на мой… снобизм, что ли.
Саша поморщилась, как от зубной боли, и опустилась на стул, безжалостно комкая шляпку:
– Дело не в тебе. Я так и знала, что ты передумаешь, верное сердечко. Просто… Ладно, ты все равно бы узнала! Твой бывший жених сошелся с этой Катькой, и она притащит его с собой. А вам, как я понимаю, встречаться не с руки.
Сначала Элеонора подумала, что ослышалась. Потом – что Саша ошиблась и считает ее бывшим женихом кого-то другого.
– Ты хочешь сказать, Алексей Ланской ухаживает за товарищем Катериной?
Саша засмеялась:
– Во всяком случае, он с ней живет, а уж ухаживает ли, я не знаю.
Эта пошлая шуточка очень больно ударила Элеонору. Да нет, это не может быть правдой. Просто смешно. Русский офицер и эта большевичка с мрачными глазами, люди из разных миров.
– Не переживай, я думаю, эта любовь ненадолго. Катька у нас сторонница свободных отношений. Хотя в наше время это называлось иначе, – едко сказала Саша. – Постоянно лекции читает девчонкам, мол, раньше они были рабынями рабов, а теперь – гуляй сколько хочешь. Но, знаешь ли, революция революцией, а себя соблюдать тоже надо.
Стало так тоскливо слушать эту убогую мораль! Элеонора невольно подумала, на какой тонкой нитке держалось ее счастье. Если бы они не пошли к Архангельским в тот вечер, Алексей не узнал бы Катерину, не влюбился бы в нее… Да полно! Разве это любовь? Просто она открыла ему глаза на то, что с женщинами возможны гораздо более приятные и менее обременительные отношения, чем брак. Если бы не тот вечер, Алексей бы женился на ней. И она стала бы счастливой новобрачной. Но как долго бы продлилось это счастье?
Слава богу, что все получилось именно так! Если человеку суждено предать тебя, пусть он сделает это как можно раньше.
– Саша, ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы предполагать, будто я способна устроить скандал, верно? Ну а для этой дамы, если я правильно понимаю суть свободных отношений, провести вечер с бывшей возлюбленной своего любовника тоже не составит труда.
Саша вымученно улыбнулась:
– Так-то оно так, но все же не хотелось бы ее злить. Она для нас очень нужный человек.
– А я нет? – засмеялась Элеонора.
– Ты тоже, но пойми правильно, ты своя, родная. А она та еще штучка! В партии чуть ли не с детства, героиня Гражданской войны. Вроде бы должность скромная, всего лишь парторг института, но она что-то вроде богини у своих большевиков. Дверь ногой открывает в любые кабинеты. Сама понимаешь, очень не хочется злить такую фигуру. Вдруг сам Ланской что-нибудь отчебучит, когда увидит вас вместе, уверенности-то в нем нет, после всего, что он намутил.
– Хорошо, я не приду, – быстро оборвала Элеонора. От Сашиных пошлостей у нее начала кружиться голова. – Давай, моя дорогая, все же попьем чаю?
У тяжелых и радостных дней есть одно общее свойство – они проходят. Время бежало в хлопотах и заботах, и только увидев пожелтевшие листья на деревьях, Элеонора поняла, что лето прошло.
У нее почти не было времени грустить. В мае началось наступление Белой армии на Петроград, и поначалу казалось, что падение большевиков неизбежно. Все замерли в ожидании, в аристократических кругах только и было разговоров о победе Юденича. Элеонора же сутки напролет проводила в госпитале: его мощностей не хватало для помощи всем раненым. Доктора в буквальном смысле жили на работе, неунывающего Калинина забрали на передовую, хирургов не хватало, поэтому Элеонору определили в гнойную операционную. Вообще гнойная и «чистая» хирургия, это как христианство и ислам: нельзя исповедовать и то и другое, хоть суть одна и та же. Врач, вскрывший гнойник или обработавший гнойную рану, временно становится парией и не может появиться в чистой операционной до следующего дня. При полном штате хирурги обычно работали попеременно то в чистом, то в гнойном отделении, не пересекаясь, ну а когда она служила в подвижном госпитале, большинство больных отправлялось в тыл до того, как у них начинались нагноения, а если все-таки до этого доходило, то ими занимались в конце дня, когда была сделана вся остальная работа.
Теперь, когда все силы были брошены на прием раненых и больных, Элеонору посчитали достаточно опытным специалистом, чтобы она управлялась в гнойной операционной без врача. Она чистила страшные раны, промывала раздутые воспалительным процессом культи, удаляла гниющие участки мышц и костей, стараясь не слышать стонов раненых и не смотреть им в лицо, а в голове крутилась мысль: неужели стоит платить такую цену? Неужели все это нужно?
Пусть бы не было никакого наступления, никакого подвига и святого дела, лишь бы все эти юноши были живы и здоровы…
Она совсем не думала о том, что это бойцы Красной армии, враги, люди, стоящие на стороне зла. Они были просто ее пациентами, и Элеонора всей душой сочувствовала им.
Правда, иногда у нее просыпалась совесть. Ах, не здесь она должна сейчас быть! Не отсиживаться во вражеском тылу, а помогать тем, кто воюет за правое дело. Ведь линия фронта совсем близко, нужно пробираться к своим.
Но какие-то непонятные ей самой соображения удерживали ее от этого шага. Это была не трусость, нет. Может быть, женский стыд или чувство ответственности за свой родной операционный блок. Если она уедет, все развалится, это совершенно точно.
Мешала и родственная обязанность перед Ксенией Михайловной. В положенный срок Архангельские вернулись из Англии, чрезвычайно удивив всех. Шварцвальды были шокированы, а барон так и вовсе расстроен: неужели он недостаточно ясно дал понять Петру Ивановичу, что тот ничем не обязан ему за поручительство?
Петр Иванович говорил, что все равно не смог бы жить на чужбине, и, собственно, когда же быть патриотом, как не в тяжелую для родины годину. Что главное не общественный строй, а земля и люди. Элеонора подумала и решила, что тоже не смогла бы жить в эмиграции.
Они делали вид, что все хорошо, и бодрились, но у обоих был потухший взгляд людей, утративших надежду.
Особенно плох был Петр Иванович. Ксения держалась службой и светской жизнью, она, как и прежде, была стержнем их маленького островка, оставшегося от прежнего мира, наносила визиты, принимала, взбадривала отчаявшихся, подкармливала голодных и прочее. Именно она нашла для Элеоноры дело, позволившее той не чувствовать себя дезертиром. Некоторым раненым офицерам удавалось перейти линию фронта и добраться до жен и матерей. Но обратиться за медицинской помощью им было некуда, врачей теперь обязали сообщать в ЧК обо всех случаях огнестрельных ран. И бесполезно было протестовать против этого позорного правила, придуманного полицейскими властями во времена Парижской коммуны. Умолчавший об огнестрельной ране неизвестного происхождения рисковал головой.
Пострадавшие офицеры находились дома на нелегальном положении, и Элеонора ходила в эти семьи якобы в гости, а на самом деле обрабатывать раны. И Ксения Михайловна, даже в такое тяжелое время пекущаяся о приличиях, ходила вместе с ней. А потом приноровилась и сама стала очень ловко делать несложные перевязки, когда Элеонора не успевала всех обойти. Наверное, это была их родовая черта – в горе загонять себя работой до бесчувствия.
А Петр Иванович после службы приходил домой и покорно ждал свою половину из «тайных рейдов милосердия», как он это называл. Лицо его, прежде доброе, но волевое, теперь словно обмякло, он выглядел растерянным ребенком.
Как-то Элеонора забежала к ним, когда Ксении Михайловны не было дома, и поразилась, насколько дядя стал беспомощным. Он хотел угостить ее чаем, но не смог даже разжечь примус. Начал искать заварку и на полпути забыл, что ищет.
Элеонора задержалась возле комода, на котором стояли большие фотографии Лизы и девочек. Петр Иванович перехватил ее взгляд:
– Если бы ты знала, как я их люблю! – воскликнул он с такой силой, что у Элеоноры сжалось сердце.
Вдруг собственные переживания насчет Ланского показались ей фальшивыми, словно ненастоящими. Разве можно сравнивать ее детскую истерику с горем родителей, навеки разлученных с дочерью и внучками? Как не стыдно ей было думать, что у нее самое горькое горе на земле, погружаться в бездну отчаяния только из-за того, что ее сказочные фантазии не сбылись?
Однако, строго сказала себе Элеонора, ты влюбилась в прекрасного рыцаря, а грешила с обычным мужчиной из плоти и крови, к тому же, кажется, подлецом!
Тоска по Алексею вдруг прошла, уступив место гораздо более мучительному чувству – чувству стыда. Как могла она грешить, решив, что ей позволено больше, чем другим? Любовь не искупает позор…
Благодаря Ланскому она стала падшей женщиной. Нельзя больше лукавить перед самой собой, пора назвать вещи своими именами. Она – грешница, а за то, что считала себя выше греха, – грешница вдвойне.
Теперь ей могут помочь только самые лучшие помощники человека – труд и молитва.
После того как Саша переехала к Шварцвальду, у Архангельских появился новый сосед. Кто бы вы думали – Костров!
Элеонора оторопела, увидев его в общей кухне по-домашнему, с белоснежным вафельным полотенцем на шее и взъерошенными мокрыми волосами.
Увидев ее растерянность, Костров внезапно быстро улыбнулся ей, сверкнув острыми татарскими глазами, так неподходящими его широкому спокойному лицу. Элеонора вдруг все поняла о нем и перестала бояться. «Ты мне нравишься, – сказала эта улыбка, – и я вижу, что тоже тебе нравлюсь, хоть ты не хочешь это знать. Не волнуйся, я не буду ничего портить».
Для Архангельских это было гораздо лучше – один именитый сосед, чем парочка пролетарских семейств, с их вечно пьяными отцами, горластыми хозяйками и невоспитанными детьми. Сергей Антонович был человек культурный и приятный в общежитии, а главное, его почти не бывало дома.
Ни Архангельские, ни Элеонора все лето не встречались с Сашей. Хотелось бы думать, что виной тому колоссальная занятость на службе, но все знали, что это не так. Саша явно сторонилась Петра Ивановича с супругой. Казалось бы, возвращением из Англии она доказали свою благонадежность и преданность родине, но… Возможно, она боялась, что Петр Иванович снова о чем-нибудь попросит барона. Или женским чутьем понимала, что чем полнее она отлучит мужа от прежних знакомств, тем лучше он адаптируется в новой среде.
Элеоноре почему-то было противно идти к подруге. Ах, нельзя быть баронессой и одновременно лебезить перед всяким сбродом! Да и не в этом дело… Просто Саша одним своим видом напоминала об истории с возвращением Алексея, которая с течением времени казалась ей все более некрасивой.
Но судьба почему-то никак не давала ей выпутаться из этой истории. Наступил июнь. Белая армия стояла под Лугой и Гатчиной, до Петрограда было рукой подать. Каждый день ждали решительного рывка и перемены участи всей страны, а Элеонора с тоской думала о том, какими кровопролитными будут уличные бои.
Шварцвальд носился по всему городу, разворачивал госпитали и эвакопункты. Побывал и у них в госпитале. Элеонора едва узнала в этом стремительном и резком человеке добродушного барона. Степенный Знаменский бегал за ним, как мальчик, не понимая его отрывистых вопросов, зато для Элеоноры это не составило ни малейшего труда. Отвечала она так же лапидарно, поэтому для сторонних слушателей их диалог казался бредом сумасшедших.
– В сутки?
– До двадцати.
– Одновременно?
– Четыре.
– Материал?
– Неделя при максимальной.
– Боевых единиц?
– Шесть и восемь.
– Медикаменты?
– Сутки при максимальной.
– Всем не хватает. Хлороформом не обеспечу, за спиртом пришлете курьера в управление. Под вашу личную ответственность.
– Поняла.
Николай Васильевич ничем не показал, что знаком с Элеонорой и даже испытывает к ней некоторую слабость. Это Элеоноре очень понравилось, как и то, что барон не стал произносить никаких вдохновляющих речей. Он собрал коллектив, и все уже настроились слушать про грядущую победу, Шура Довгалюк организовал жиденькую овацию, но речь Шварцвальда продолжалась ровно пять минут. При начале боевых действий в городе, сказал барон, опытные врачи направляются на сортировку пострадавших, в перевязочных кабинетах разворачиваются операционные для легкораненых, терапевты ассистируют на операциях, а опытные сестры дают наркоз, пока таковой имеется. Очень сухо призвал всех не бояться и носить повязки с красным крестом. Пострадавший видит, к кому ему обратиться, а потом, во всех армиях докторов стараются щадить и не убивают без крайней необходимости.
– И самое главное, – сказал Шварцвальд в заключение, – ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике. Знайте, паникеры – первые кандидаты под расстрел.
В общем, Элеоноре понравилось, как работает барон. В прежние времена она его плохо знала, но считала неким «свадебным генералом» и думала, что он занимает свой пост не за истинные заслуги, а только лишь потому, что его род финансировал строительство института и дотировал его вплоть до семнадцатого года. Впрочем, институт до революции работал как часы, барону просто негде было проявить свой талант организатора.
Глава 6
Следуя чрезвычайно толковым указаниям Шварцвальда, Элеонора готовила операционную к работе в условиях театра боевых действий. Она до смерти надоела перевязочным сестрам, вызывая их на занятия, чтобы показать, как помогать хирургу и какие инструменты следует использовать во время первичной обработки раны.
Спрашивала за каждый метр бинтов, за каждую каплю хлороформа. У нее и в прежние времена невозможно было выцыганить спирту, не то что пить, даже пробку понюхать, а теперь она стала маниакально подозрительна в этом вопросе. Зная, что обо всех хранителях этого целебного вещества ходят слухи, будто они разбавляют его и «толкают» на черном рынке, она заставляла Знаменского и Шуру Довгалюка, как представителя партийного контроля, ежедневно под роспись проверять ее запасы. У нее все было готово для приема раненых, и она надеялась, что хватит всем – и белым, и красным.
Но к середине лета Юденича отбросили от Петрограда, в августе красные взяли Псков… Возвращение прежней жизни становилось все призрачнее. Петр Иванович так проводил грубые медицинские аналогии: мол, если пациент умер, то ничего не поделаешь.
А в госпитале Элеонора внезапно столкнулась с товарищем Катериной.
Это было неожиданно. Она все время с тяжелым чувством стыда и досады вспоминала Ланского, но почти забыла женщину, разлучившую их. Она даже не сразу узнала ее в короткостриженом существе в солдатской полотняной рубахе.
Катерину привезли к ней на перевязку. На тонкую нежную шею в грубом вороте было больно смотреть, а нога оказалась совсем плоха. Опытным глазом Элеонора сразу определила флегмону голени, и сама Катерина тоже выглядела неважно. Худая, зеленая, с тенями под глазами, значит, у нее сильная интоксикация.
Ее посмотрел Знаменский. Он долго щупал больную ногу, проводил зонд, причем Катерина держалась очень мужественно во время этих болезненных манипуляций. Профессор, хмурясь, читал историю болезни, изучал температурный лист. Вердикт его был ужасен – готовить к ампутации. Катерина побледнела, а Элеонора почувствовала вдруг болезненный укол жалости. Как это – отнять ногу у молодой энергичной женщины?
– Доктор, вы лучше знаете. Делайте, если это необходимо, – глухо сказала Катерина.
– Не думаю, что смогу найти сегодня хлороформ, – выпалила Элеонора и удивилась своему вранью, – а без анестезии… Отложим до завтра, я что-нибудь придумаю.
– Уж постарайтесь! Ногу все равно не сохранить, а всякое промедление только ухудшает течение болезни.
– Ничего, я потерплю. Надо так надо.
– Зачем же? Надеюсь, Элеонора Сергеевна раздобудет все необходимое к завтрашнему дню, а пока я назначу вам вливание физиологического раствора.
Когда Катерину увезли в палату, Элеонора, украдкой перекрестившись, подступила к своему профессору.
– Простите, но нельзя ли так устроить, чтобы пациентку посмотрел мой дядя, профессор Архангельский?
– Это еще зачем? Тут классический случай.
– И все же, пожалуйста. Мы с ней хорошие друзья…
Господи, когда же она научилась лгать?
Знаменский пожал плечами:
– Дружба не всегда спасает.
– И все же. Простите мое бахвальство, но я фронтовая сестра и немного разбираюсь в огнестрельных ранах. Вы приняли правильное решение, мой доктор в подвижном госпитале, уверена, вынес бы такой же вердикт, но, может быть, мы не видим какого-то другого пути.
– Спасая ногу, мы можем погубить жизнь этой девушки.
– Согласна. Но все же… Ведь ампутированные конечности не отрастают заново.
– Ох, Элеонора Сергеевна… Только ради вас! А если серьезно, я не могу возражать, когда пациент просит консультации другого специалиста перед таким ответственным решением. Думаю, это только затянет дело и подарит Катерине ложную надежду, но я не возражаю.
Она побежала к Архангельским, но не рассчитала время. Дядя с тетей были еще на службе, ей открыл Костров. Он встретил ее в гимнастерке с расстегнутым воротом и с полотенцем, пропущенным через ремень вместо фартука.
– О, какой приятный сюрприз, – у Сергея Антоновича была такая улыбка, что Элеоноре пришлось напомнить себе – это большевик, причем испытывающий к ней недостойные чувства, – проходите, я накормлю вас обедом.
– Спасибо, я не голодна.
– Ну это вы, положим, сочиняете. Сейчас в Петрограде нет сытых людей. Проходите, не стойте в дверях.
Он энергично вытер руки о полотенце, и Элеонора невольно загляделась, как перекатываются мышцы под смуглой кожей. Кисти тоже были очень хорошие, крепкие, но изящной лепки.
Она вошла в кухню. Благодаря усилиям Ксении Михайловны в ней поддерживалась почти стерильная чистота, невзирая не острую нехватку мыла. Как-то тетка обмолвилась, что готовит для соседа, мол, ей проще сварить на его долю, чем отмывать кухню после неумелых кулинарных изысков одинокого мужчины. Ясно, что Костров, по уши занятый на работе, не возражал.
А сейчас он вдохновенно кашеварил, и порядок в кухне выдавал опытного повара.
– Получил дополнительный паек, – похвастался Костров, – и решил угостить Архангельских. Все же какие удивительные люди ваши родные! Ну садитесь, товарищ Львова, вам первая тарелка.
Он снова вытер руки и взял половник. Не слушая возражений, усадил Элеонору за свой кухонный стол, чистый и пустой.
– Хлеба, к сожалению, нет. А это называется салма.
– Звучит интригующе.
– Ну да, – Костров подал ей ложку и засмеялся, – в оригинале это должен быть суп с бараниной и лапшой, но в данном блюде нет ни того ни другого. Просто в детстве нам варили суп черт знает из чего и называли его салма. Как же хорошо, что вы пришли! Я ненавижу есть один.
Костров сел рядом и энергично заработал ложкой.
– Очень вкусно, – искренне заметила Элеонора.
– Спасибо. А на сладкое у нас будет копорский чай с сахарином.
– Неслыханная роскошь.
– Чем, как говорится, богаты. Шварцвальд мне, кстати, докладывал о вас. Говорил, что единственная операционная, за которую он абсолютно спокоен, – ваша. Вам бы учиться пойти, товарищ Львова. Действительно, вступайте в комсомол, мы вас направим учиться в институт, и через пять лет будете вы превосходным организатором медицинской службы! Николай Васильевич говорит, что у вас настоящий талант, а у него, поверьте, глаз наметан, иначе он не имел бы таких достижений. В любом деле самое главное – люди. Разбираешься в них – разбираешься во всем, а нет, так ничего и не выйдет. Вы ешьте, ешьте!
– Спасибо.
«Салма» показалась Элеоноре божественной. Она считала себя мастером похлебок и супов «из колбасной палочки», но до Кострова ей было далеко. И дело тут было не в горкомовском пайке. В тарелке плавали те же продукты, что и у нее. Пшено, перемороженная картошка и сушеная морковь.
От добавки она категорически отказалась. Нельзя злоупотреблять гостеприимством, кроме того, от непривычно большой порции горячего (дома приходилось экономить, на дрова и керосин для примуса вечно не хватало, и Элеонора не разогревала свои обеды) она чувствовала себя словно пьяной.
– Сергей Антонович, я все силы отдаю работе и, надеюсь, приношу людям пользу, – заявила она, – но происхождение мое самое незавидное по нынешним временам, и я, признаться, не разделяю ваших убеждений. Мне не нужна карьера в том мире, который вы строите. Наоборот, я принадлежу к миру, который вы уничтожили.
Элеонора говорила, сама не понимая, что заставляет ее дерзить Кострову. Желание быть самой собой? Или неловкость от его мужского интереса? А возможно, смутное убеждение, что она могла бы в него влюбиться… Если бы не родилась княжной и не стала потом падшей женщиной. Этот мужчина был абсолютно чужд ей по духу и убеждениям, но в нем чувствовалась какая-то добрая сила.
И может быть, если бы она все еще имела право любить… Но теперь путь честной жены для нее закрыт навсегда, она обречена на одиночество.
Элеонора украдкой вздохнула. Ланской оказался недостойным человеком, но она любила его чисто и самозабвенно, как уже никого и никогда не полюбит. Если прибегнуть к пошлым метафорам, то лепестки ее юности облетели, не дав плодов, осталась сухая, но крепкая ветка.
– О чем задумались, товарищ Львова? – весело спросил Костров, ставя перед ней стакан чаю. – Я вижу, что вы благородных кровей, но вы наш человек и можете принести больше пользы, чем иной фанатичный коммунист.
– Я делаю все, что могу, – сухо повторила Элеонора, – оставьте мне хоть право думать так, как я считаю нужным.
Сергей Антонович, не спрашивая, положил ей в чай изрядную порцию сахарина и энергично размешал.
– А хотите, расскажу, как я рос? – вдруг спросил он и, не дождавшись ответа, стал рассказывать, глядя мимо нее, будто беседуя сам с собой. – Мы жили в маленьком городке, в собственном доме… Одно название, что дом. Все покосилось, просело, скрипело… Мы, дети, сами двери не могли открыть. Нас было четверо детей живых, еще трое померло до того, как я родился. Отец не мог найти работу, чтобы нас прокормить, подался на заработки в Казань и пропал. Убили, может, или просто умер, неизвестно. Я, впрочем, его совсем не помню. Мать осталась с нами одна, хваталась за любую поденщину. Ну а поскольку образования у нее не было, оставался только тяжелый физический труд, она не выдержала такой нагрузки и умерла тридцати лет от роду.
– Сочувствую, – тихонько сказала Элеонора, а про себя подумала, что отец товарища Кострова был, верно, обычный пропойца.
– Спасибо, но маму я тоже почти не помню. Так, отдельные картинки, такие яркие, что, думаю, это скорее мои фантазии, чем воспоминания. В общем, нас отдали в приют. Что это было за место, господи! Кровати без постельного белья, кишащие клопами, щели такие, что улицу видать… Кормили нас примерно так, как я сегодня вас угостил. Правда, черного хлеба давали вдоволь, а белый – два раза в год, на Пасху и Рождество. При этом мы все работали, даже самые маленькие. Девочки – белошвейками, а мы в столярной и переплетной мастерской. Школа – церковноприходская, дальше, в реальное училище принимали только тех ребят, кто показал отличные оценки. О гимназии речь вообще не шла, туда бедноте был вход заказан. До сих пор удивляюсь, как это мне повезло… Я настолько хорошо учился, что отцы города сообща оплатили мое обучение в университете.
– Что ж, вы хорошо их отблагодарили, Сергей Антонович, – усмехнулась она.
– Во-первых, я всегда возражал и возражаю против террора! Это перегиб, и скоро он закончится. Но справедливость, знаете ли, дело трудное, – Костров достал папиросы и, спросив ее разрешения, закурил, – оно не могло так больше продолжаться, это убожество, нищета. А самое страшное знаете что? Невежество и унижение народа! Можно быть нищим и голодным и при этом счастливым, как мы с вами. Как ваш дядя. У него все отобрали, он забыл, когда ел досыта, но он живет насыщенной и интересной жизнью. Вот в чем дело-то, дорогой товарищ Львова, вот в чем смысл революции.
Костров крепко затянулся папиросой. Элеоноре хотелось сказать какую-нибудь колкость, но она промолчала.
– Вы же умный человек, товарищ Львова. Приходите к нам, нам очень нужны такие люди! Собственно, люди – это все!
Она неопределенно улыбнулась. Что-то надо было возразить, но Элеонора знала – ее крайне незрелый в политическом отношении ум не сможет подобрать нужных слов. Отрицание нового порядка настолько само собой разумелось, что она никогда даже не давала себе труда размышлять о причинах этого отрицания.
Положение спас вернувшийся со службы Петр Иванович. Одним лишь движением бровей он исчерпывающе разъяснил племяннице, что думает об ее предложении. Ах, эта докторская солидарность, она зачастую ставится выше жизни больного!
– Дядюшка, дорогой мой! Я доложила Знаменскому, что хочу просить вашей помощи, вся вина будет на мне!
– Ладно, ладно, – проворчал Архангельский, – ты знаешь, что я не могу тебе отказать. Как я понимаю, консультация нужна сегодня.
– Да, пожалуйста!
Сообразив, что речь идет о Катерине, Костров бесцеремонно вмешался в разговор.
– Я пойду с вами! В такие минуты человек не должен быть один. Нет, ну какая зараза, ничего никому не сказала. Мы думаем, она просто лечится после ранения, а оно вон как!
Костров стремительно собирался.
Они отправились пешком, благо до госпиталя недалеко, а все трое были хорошими ходоками. Сергей Антонович заметил, что отказался от причитающейся ему служебной машины, и задал темп. В результате Элеонора представила Знаменскому несколько запыхавшегося и раскрасневшегося профессора.
– Уф, Александр Николаевич, вы простите старого дурака… Вы же знаете, я вам доверяю всецело. Но эта моя племянница, скверная девчонка, она из меня веревки вьет!
– Охотно верю, мы все у нее по струнке ходим. Что ж, пойдемте, посмотрим больную.
Обменявшись такими иносказательными верительными грамотами, профессора направились в палату Катерины. Элеонора сопровождала их.
Палата была огромной, на двадцать человек. За зиму этот зал отсырел, краска на потолке пошла трещинами, и стены потускнели. В раковине капает вода, а в углу стоит полотняная ширма с толстыми от частых покрасок ножками. За ней кто-то сейчас умирает…
Костров скромно сидел возле койки товарища Катерины. Ему дали санитарский халат, который он накинул задом наперед, и завязки болтались, придавая ему несерьезный, очень молодой вид.
«Боже, а почем рядом с ней нет Алексея? – запоздало подумалось Элеоноре. – Кто она ему – жена, любовница, не важно. В такую страшную минуту он должен быть рядом и держать ее за руку, он, а не партийный товарищ!»
По указанию Петра Ивановича Элеонора сняла повязку. Сергея Антоновича хотели выгнать из палаты, но Катерина попросила, чтоб он остался, и Архангельский настаивать не стал. Он внимательнейшим образом осмотрел ногу:
– Как же вас угораздило, дитя мое? – сказал он мягко.
– Да шрапнелью зацепило! Выезжала на передовую, и вот! – Катерина улыбнулась.
– Ну ничего, ничего! Мы с коллегами сделаем все необходимое для вашего выздоровления. Не волнуйтесь!
Дядя вдруг очень нежным жестом погладил Катерину по стриженой голове и вышел в коридор, увлекая за собой Знаменского и Элеонору. Костров увязался за ними сам.
– Альтернативой ампутации представляется фасциотомия и широкое дренирование, если в костях нет деструктивных явлений, – отрывисто произнес Архангельский, – как вы думаете, Александр Николаевич?
– Согласен. Но необходим наркоз. И для ампутации он тоже будет необходим, если это лечение не даст эффекта. А две дачи хлороформа пациентка не перенесет. Между тем ранняя ампутация удалит источник интоксикации и послужит залогом быстрого выздоровления. В борьбе за ногу мы можем потерять больную.
– Вы скажите, если что-то нужно, я достану, – ввязался в разговр Костров.
Профессора только отмахнулись.
– Она слабая, истощена. Пониженного питания. Ничего удивительного, что на таком фоне нагноилась осколочная рана. Учтите вот еще что: работа в гнойном очаге может спровоцировать инфекционно-токсический шок…
– Это все совершенно верно, но больно уж она молодая. Да и красивая, не будем лицемерить. Ну куда она на костылях? Давайте попробуем.
– А давайте спросим у Кати, – вдруг сказал Костров, – это ее нога и ее жизнь, пусть она сама решает.
Вернулись в палату.
– Делайте, как нужно, – спокойно сказала Катерина.
– Катя, давай попробуем так. Я достану любые лекарства.
– Товарищ Костров! Ни в коем случае! Мы не имеем права брать больше того, что даем народу! Товарищи профессора, делайте, что положено. Ампутация если, что ж, так тому и быть. Как говорится, долгие проводы – лишние слезы.
– Можно спирт, – заметила Элеонора, – я дам. Внутрь и соответственно.
– Да, коллеги, верно! – Знаменский улыбнулся. – Под спиртом сделать фасциотомию, и повязки со спиртом же наложить. А завтра посмотрим, если будет эффект, то продолжим перевязки с гипертоническим раствором или по ситуации, а нет…
Петр Иванович предложил добавить спирт и в противошоковый раствор для внутривенного вливания. Профессора сошлись на том, что операция неизбежно вызовет кризис, поэтому Катерине потребуется индивидуальный пост. Элеонора вызвалась подежурить. Костров заявил, что тоже останется.
Знаменскому было явно не по себе от присутствия такого именитого гостя, хотя Сергей Антонович и держался очень просто. Элеонора так вообще забыла, что он член Революционного комитета обороны Петрограда, а не просто обеспокоенный родственник.
Катерина отказалась от отдельной палаты – мол, перед болезнью все равны, – но, предвидя хлопотную ночь, Элеонора решила после операции положить ее в перевязочной.
Пока готовили операционную, пока Элеонора обустраивала в перевязочной кушетку, вспомнилась собственная болезнь. Когда она заразилась тифом на фронте, решила, что непременно умрет, но тогда приближение конца почему-то совсем ее не испугало. Воинов нес ее на руках куда-то, словно в тумане она видела его лицо, потом оно погасло, и она подумала, как хорошо, что тепло его рук и стук его сердца – последнее, что она чувствует на пути в вечность…
Очнулась Элеонора в головном госпитале спустя долгое время. Вероятно, она не могла провести в полном беспамятстве целый месяц, наверное, приходила в себя на короткое время, пила и что-то ела, но ничего не сохранилось в ее голове.
Зато первая картинка, которую она увидела, очнувшись, – старая тумбочка, крашенная белой масляной краской, и стакан с очень грязной водой, – врезалась в память навсегда.
Она лежала, еще не понимая, что победила болезнь, и даже немножко жалея, что очнулась. По-настоящему Элеонора пришла в себя, только когда ее навестил Константин Георгиевич.
Он остановился в дверях, улыбаясь, в накинутом поверх мундира белом халате, словно обычный посетитель. Зеленые глаза сияли на обветренном лице, от него веяло жизнью и какой-то особой мужественной силой, так что Элеонора смутилась и натянула одеяло до подбородка.
Вспоминая, она чуть ли не наяву ощутила ту жаркую волну стыда, охватившую ее, когда косынка упала с обритой головы…
Глава 7
Оперировал Петр Иванович, Знаменский присутствовал. Элеонора давно не работала с дядей и стала забывать, что он не только ее дядюшка, но и превосходный хирург, один из лучших в России, а то и в мире. Это было заметно даже при таком, казалось бы, несложном вмешательстве, как вскрытие флегмоны.
Катерина держалась очень мужественно. Сто граммов чистого спирта, данные ей в качестве единственно возможного обезболивающего, не слишком помогали. И тут мастерство Архангельского, умение угадать скопление гноя и вскрыть его одним точным движением, не прибегая к болезненному ощупыванию и зондированию раны, оказалось очень важным.
Пациентка не кричала, не плакала и уехала из операционной в превосходном настроении. Только оказавшись в перевязочной, рассердилась и стала проситься в палату. К соседкам, с которыми успела подружиться и которые нуждаются в ее агитации за освобождение женщин больше, чем в лекарствах.
Костров просто просиял, решив, что все обошлось, но Элеонора знала, что успокаиваться рано. Петр Иванович так и вовсе был недоволен и решил остаться на ночь.
– Я принял это решение и должен идти до конца, – тихо сказал он в ответ на увещевания Знаменского, – а вас, Сергей Антонович, если вы не идете домой, попрошу послать кого-нибудь, предупредить Ксению Михайловну, иначе она будет сильно волноваться. С недавних пор в Петрограде можно пропасть не только в жарких объятиях продажных женщин.
Как и полагали профессора, блеск в глазах Катерины и ее оживление оказались предвестниками лихорадки. Она крепилась, увидев, как Элеонора делает приготовления для инъекций, фыркнула и заявила, что это ей все не нужно, она прекрасно себя чувствует. И тут же затряслась в ознобе. Температура поднялась до сорока, девушку колотило так, что Кострову пришлось прижимать ее руку к постели, пока Элеонора вводила иглу в вену.