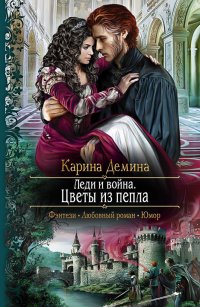
Читать онлайн Леди и война. Цветы из пепла бесплатно
- Все книги автора: Карина Демина
Пролог
Теперь, много лет спустя, вспоминая прошлое, я порой не могу поверить, что все это действительно было. И лишь удивляюсь тому, что у меня, у всех нас, хватило сил выстоять. То время то и дело возвращается во снах, уже не в кошмарах, но меж тем достаточно ярких и живых, чтобы пробудить память.
В них я вновь вижу городскую стену, ворота, близкие, но такие недостижимые, стражника, бегущего навстречу. И слышу выстрел, который дробится эхом. Я чувствую толчок и удар. Удивление Кайя. И его боль. Во снах я вновь боюсь не успеть добраться до храма.
Алый цветок поднимается над городом.
И гаснет.
Кайя уходит, а я остаюсь в темноте.
Сны возвращают меня в замок, в Кривую башню, которая оказывается в кольце осады. И вновь, как много лет тому, между мной и Советом встает Сержант.
Ему дорого обходится верность.
Я еще помню разговор с Кормаком и выбор: Меррон в обмен на меня. Отказ Сержанта и тишину, которая страшнее крика. Пусть Меррон не хотели убивать, но ведь получилось. Почти.
Я знаю, что будет дальше.
Осада и эмиссар Хаота, который пройдет сквозь все заслоны. Я не нужна Кормаку мертвой, он даже по-своему предупредителен, ведь в созданных им планах мне отведена важная роль. А пока – островок и заброшенная крепость, где так удобно держать ценных заложников. Унизительный ультиматум, который Кайя принимает.
Развод.
Его женитьба.
Рождение нашей дочери… и его сына. Два года, проведенные под опекой лорда-протектора Ллойда, несмотря на все попытки Кормака вернуть меня.
Безумие Кайя, на которое эхом откликается протекторат. И прорастающие зерна революции. Свобода для всех и голод для многих. Страна разбивается надвое, и Зеленый вал отделяет земли Республики от территорий Дохерти.
Кайя знал, что делал.
Он позволил себе себя разрушить, до дна, до основания, до черноты, которая проглотила и блок, и его самого. А вернуться сил не хватило.
Наверное, мы бы не справились одни.
Но был Урфин, который сумел удержать Север и наполнить склады, открыть ворота беженцам и не допустить смуты на землях Дохерти. И был Сержант, рискнувший жизнью Меррон, которой лишь чудом удалось спастись. Был Юго, назвавший себя моим вассалом. Был Магнус и созданные им дороги: по ним мы добрались до города.
О том, разодранном революцией городе я сны не люблю.
Он грязен, страшен и безумен.
Он – отражение не Кайя, но того, что проявилось в людях, взбудораженных войной. И суд над тем, кого еще недавно почитали Богом, – высшая точка безумия. Мне вновь и вновь приходится присутствовать в зале, слушать обвинения и давить глухую ярость. Я пытаюсь дозваться, а Кайя молчит.
Снова молчит, пусть бы и находится на расстоянии вытянутой руки.
Я знаю, он просто не понимает, что происходит вокруг.
И опасности нет, но… мне больно видеть его таким.
Во снах остается немного места Площади Возмездия и плахе. Смерти леди Лоу и Кормака проходят мимо. Моя память не желает ни мести, ни справедливости, но лишь отмечает этот факт. Я кричу, и… Кайя слышит. Отвечает.
Возвращается.
И здесь во снах наступает перелом: у нас всех появляется надежда.
Глава 1
Беглецы и перемены
Бабочки в моем животе устремились на юг…
…об особенностях сезонной миграции чешуекрылых
Из города мы просто ушли.
Я запомнила площадь: сюрреалистическая картина, этакий театр потерянных кукол. Люди давно утратили сходство с людьми, застыли все, и даже я ощущала тяжесть его воли.
Кайя стоял между мной и солнцем.
Ни коня. Ни доспехов. Ни оружия. И все же страшен, страшнее, чем когда бы то ни было той готовностью додавить. И если секунду назад я сама желала смерти всем этим людям, то сейчас… наверное, из меня никогда не получится первая леди. Мне жаль их.
– Отпусти. – Я протянула руку, но Кайя не позволил прикоснуться к себе.
– Нет.
– Здесь Урфин. Дядя. И еще люди… охрана. Они служат тебе. А остальные… они поймут, что были неправы и…
И раскаются?
Те, кто продавал билетики на места в первых рядах. Или предлагал купить клок одежды с кровью на память о великом дне. Ставки сделать – с какого раза шею перерубят. Будет ли молить леди о пощаде… перепугается ли Кормак… правда ли, что Кайя Дохерти неуязвим…
– Не надо никого убивать. Пожалуйста.
Не ради них. Ради себя.
Пусть не сейчас, но через месяц, год или десять, но Кайя вернется настолько, чтобы стыдиться этой сегодняшней безжалостности. И я повторяю:
– Не надо.
Кайя соглашается:
– Хорошо. У нас будет часа два, чтобы уйти. А у них – чтобы подумать…
И мы уходим.
Кайя больше не заговаривает. Он разглядывает город, позволяя себе останавливаться. И те, кто встречается на его пути, спешат исчезнуть. Где-то далеко трещат барабаны. Истошно орет рог, взывая к оружию, но никто не торопится откликнуться на призыв.
В городе нас больше ничто не держит.
И люди Магнуса прикрывают отступление. Мы задерживаемся лишь для того, чтобы забрать Йена. А вот Юго остается, у него, судя по всему, новый список есть, и совесть моя на сей раз молчит.
Лошадей находим на конюшне гарнизона. Кайя выбирает придирчиво. Для меня – вороного мерина с мягкими губами, сам останавливается на пегой кобыле внушительных размеров.
– Не бойся, – я передаю Йена Урфину, – с ним тебе безопасней. Я не настолько хорошо держусь в седле, чтобы рисковать.
Урфин усаживает малыша перед собой, что-то объясняет, пытаясь отвлечь. Но Йен не слушает, он крутится, пытаясь найти меня взглядом. Ему страшно. И мне, честно говоря, тоже.
Кайя… слишком другой. Нет, он не безумен. Он услышал меня. Отозвался. И не стал никого убивать. Ллойд может быть спокоен: Кайя Дохерти не покинет разложенную им партию.
Кавалькаду возглавляет Магнус. Он нахлестывает лохматого конька, на нем вымещая злость. Дорога гудит под копытами, город неохотно нас отпускает. Где-то далеко запоздало рычат пушки, но голоса их уносит ветер. Погони нет и, насколько я понимаю, не будет. Те, кто был на площади, поняли, с чем столкнулись. Они попытаются договориться.
Подозреваю, что не выйдет.
Я оглядываюсь на Урфина, который одной рукой придерживает Йена, а второй – управляет лошадью. И выражение его лица мне не нравится.
Уж он-то должен был понимать, что Кайя не останется прежним. Он похудел и поседел, но дело отнюдь не в этом, а скорее в равнодушном, каком-то отстраненном выражении лица. В неестественном спокойствии. В молчании, которое я не решаюсь нарушить.
Но вот Магнус сворачивает с дороги. Он ведет нас лисьими тропами, и лошади получают передышку. К хутору добираемся в сумерках. Это место прячется в лесной чаще, отсыревшей и холодной. Начавшийся дождь затирает следы и топит звуки.
Дом под двускатной крышей стоит на краю болота, и серые меховые простыни подбираются к самым его окнам. Я не сомневаюсь, что среди топей проложены тайные тропы, и при необходимости хозяева быстро скроются на этой неуютной волглой равнине.
Нас встречают. Забирают лошадей. Приглашают в дом. Подносят горячий сбитень, который как нельзя более кстати. Я только сейчас понимаю, насколько замерзла.
И Кайя хмурится:
– Тебе следует переодеться.
Не только мне: Йен оглушительно чихает, и… до этого момента Кайя его не замечал.
Он развернулся резко, едва не сбив меня с ног. Подобрался. И готова поклясться, что волосы на затылке дыбом встали. Верхняя губа задралась, и Кайя зарычал.
– Стой! – Я уперлась обеими руками в грудь, понимая, что не смогу его удержать. Одно его движение, и я в лучшем случае полечу к стенке. – Кайя, стой. Урфин, ты тоже.
Он тянется к мечу, но это неправильно. Нельзя злить Кайя. Он сейчас не понимает, что творит.
– Ты слышишь меня? Конечно, слышишь…
Он не животное.
Кайя подается вперед, заставляя меня отступать.
– …это же просто ребенок. И ты знаешь, что детей нельзя трогать.
Не животное.
И продолжает теснить меня, пробираясь к Йену.
– Ты и не собираешься, правда? Ты никогда не причинишь вреда ребенку.
Он мог бы, если бы захотел. И мы ничего не успели бы сделать. Он много быстрее. Сильнее.
И не животное.
– Я тебя знаю, Кайя Дохерти.
Того, который был прежде, и я верю, что он еще остался. Я убираю ладонь с груди. Его рубашка промокла насквозь, и на ней остается отпечаток моей руки.
– Ты не станешь мстить сыну за свои обиды.
Отступаю на шаг. И еще один. Кайя не спускает с меня глаз. Больше не рычит. А я пытаюсь выдержать его взгляд. И пячусь.
Урфин по-прежнему руку на мече держит. Плохо. А если вмешается, то будет лишь хуже. Главное – не споткнуться. Не упустить его взгляд.
Шаг и еще.
Если захочет убить, то я не стану помехой. Не обойдет, так отбросит. И значит, надо говорить.
– Ты не захочешь, чтобы ему было так же больно, как было тебе…
И я, решившись, поворачиваюсь спиной.
Йен дрожит. Не от холода – от ужаса.
– Он просто ребенок.
И я не представляю, что еще могу сказать. Поэтому просто наклоняюсь и беру Йена на руки. Так надежней: меня Кайя точно не тронет. А я не отдам ребенка. Он обнимает меня, прижимается и всхлипывает, часто, судорожно.
– Все хорошо. Я не позволю тебя обидеть. Никому не позволю.
Стою, ожидая удара. Или рывка. Или еще чего-то, чему не смогу воспротивиться. И те злые слова Гарта кажутся почти правдивыми.
Время тянется долго, но вот хлопает дверь.
Кайя отступает. Как надолго? И что будет, когда он вернется?
Ничего.
– Мы справимся, верно? – Я вытираю слезы, первые за все время нашего с Йеном знакомства. – Что бы ни случилось, мы справимся, Лисенок.
Йен не сразу соглашается расстаться со мной. Переодеваемся вместе. И ест он, сидя у меня на коленях, но потом все-таки идет на руки к Урфину. У того интересные игрушки: наконечники стрел, блестящие шнурки, монеты и даже нож в красивых ножнах.
А Кайя все еще нет. И я знаю, что он не вернется.
…Кайя…
…я в порядке, но мне лучше остаться вне дома.
Он не в порядке, и мы оба это знаем. Поэтому у слов оттенок льда.
Хорошо, что я знаю, где его найти. И повод есть: ему тоже не помешает ужин.
Под широким навесом сухо. Здесь хватает места и лошадям, и старой собаке, которая дремлет под шелест дождя. Кайя сидит на кипе сена, скрестив ноги, и руки закинул за голову, разглядывает крышу. Под стропилами свили гнездо ласточки, возятся, выглядывают.
Ласточки – безумно интересно.
Меня Кайя демонстративно не замечает. Из-за Йена? Он и вправду хотел, чтобы я не вмешивалась? А теперь рассчитывает, что обижусь и уйду? Не дождется. Присаживаюсь рядом и протягиваю миску. Картофель. Жареное сало, лук и яйца. Роскошный ужин, если подумать.
– Никогда больше так не делай. – Кайя сдается. – Ты не понимаешь, насколько это опасно.
– Понимаю.
– Нет. Я хотел его…
– …убить.
Он забыл, что я его вижу.
– Да.
– Но ведь не убил, верно? Ты сам себя остановил. И ты это знаешь.
Кайя ест, только… как человек, который понимает, что должен съесть некоторое количество еды, дабы не помереть от голода. Кажется, ему безразлично, что именно в тарелке.
– Спасибо. – Он все еще вежливый.
Но не совсем живой. Хорошее определение. Запомнилось.
– Пойдем в дом.
– Нет. – Он стягивает рубашку, отжимает и вешает на коновязь. – Мне не следует там находиться. Я не уверен, что сумею держать свои… порывы. Но я рад, что ты пришла. Нам надо поговорить.
Он мог бы позвать меня. Гордость не позволила?
Кайя раскрывает ладонь. Кольцо. Синий камень на золотом ободке. Выглядит тусклым, стекляшкой обыкновенной.
– Я понимаю, кто тебя отправил в город и с какой целью.
А рука черная, чистой кожи не осталось. На груди разве что… и на спине. На шее пара светлых островков. Плети распустились на щеках, поднялись к вискам, пустили побеги по лбу и в волосы.
В них появилась седина.
И сейчас Кайя не стал уворачиваться. Закрыл глаза только, точно ждал, что я могу ударить.
– Что они с тобой сделали?
– Я понимаю и то, что выбора тебе не оставили. И я даже рад этому.
Он гасит боль, но я все равно ее слышу. Нельзя ждать, что он за пару часов станет прежним. Вообще нельзя ждать, что он станет прежним. Нас прежних больше нет.
– Я не смогу от тебя отказаться. И уйти не позволю.
– Я не хочу уходить.
Он не слышит.
– Иза, ты знаешь, что я сделал и почему. – Он сжимает кольцо, как будто хочет раздавить его. – Если вдруг возникнет аналогичная ситуация, я поступлю точно так же. Я не буду рисковать твоей жизнью или здоровьем. Убью. Умру. Предам. Возьму в жены женщину, мужчину, осла… все, что попросят.
Кожа горячая настолько, что обжигает.
– Я хотел бы обещать, что этого не случится, но…
– Солгал бы.
– Да.
– Хорошо.
– Что «хорошо»?
– Что не лжешь.
Все-таки отстраняется и ждет ответа. И я отвечу:
– Я все это знаю. – Он почти сроднился с темнотой, но я не позволю ему спрятаться в ней. – Как знаю и то, что ты мне нужен.
Кайя умрет, но не позволит тому, что было, повториться.
– И не только мне… – И вот тут я растерялась. Как ему сказать? И надо ли сейчас? Не лучше ли подождать, дать ему отойти хотя бы немного. Вернуться в сознание… Нет. Слишком много вокруг было таинственного молчания во имя высшей цели.
– Ллойд тебе не говорил, но… у меня, то есть у нас есть дочь. Ее зовут Анастасия. Настя. Или Настена. Настюха. Настенька. Я знаю, что у вас девочки не рождаются. И если ты мне не веришь…
Он верит.
Без подтверждения системы. Генетических карт. Групп крови. Свидетельств. Просто на слово, потому что не способен подумать, что я решусь на обман. И я улавливаю вспышку… радость. А следом боль. Обида. И еще знакомое, терпкое чувство вины.
– Мы живы. Ты. Я и Настя.
…Йен, о котором я боюсь упоминать.
– Кайя, ты… нам нужен. Всем нам.
Но снова, кажется, не слышит. Или я не те слова выбрала?
– Мне нужен. И… у меня был выбор. Я бы не вернулась, если бы не захотела.
– Это тебе так кажется. – Он судорожно выдыхает и говорит: – Иди в дом. Тебе следует отдохнуть. Завтра – тяжелый день.
Нет, Дар и раньше был странным, но вот чтобы настолько…
Скальпель украл и резал вены, а потом растирал кровь на ладонях и внимательно ее разглядывал. Порезы заживали почти мгновенно, ненормально высокая температура держалась и, кажется, как раз-то и была нормальной, поскольку не наблюдалось ни излишней потливости, ни вялости кожных покровов, ни иных признаков лихорадки.
И лечиться отказывался, причем с таким видом, будто ему что-то крайне неприличное предлагают. Хорошо у него все. Только вот глаза цвет меняют, с каждым днем все больше желтеют. И Дар стал щуриться, зачем-то это скрывая. Зато приступов больше не случалось. Все вопросы о том, что было, он попросту игнорировал, чем злил до безумия.
Он вообще обладал поразительным талантом злить Меррон!
Дар неотступно следовал за ней, куда бы Меррон ни пошла, но держался в отдалении, словно ему были неприятны даже случайные ее прикосновения. Спросила прямо – не ответил. Предложила освободить для него комнату, любую, на выбор, если ему так легче, – обиделся. Причем виду не подал, а она все равно поняла – обиделся.
На что?
Она же как лучше хочет.
Тогда, поднимаясь по лестнице на чердак, она боролась с собой. Было страшно. И больно – она и вправду крепко к шкафу приложилась, и неудачно так, об угол. От ушиба, обиды слезы сами из глаз покатились. И отдышаться Меррон не могла минуты две. Сидела, растирала сопли со слезами по щекам, ругала себя на чем свет стоит за дурость… а потом вдруг услышала, насколько ему плохо.
Полезла.
Преодолевая себя, полезла. И ведь главное, что не его боялась, знала откуда-то, что Дар ей не причинит вреда, а все равно дрожала. Страх сидел глубоко внутри, около сердца, в какой-то миг показалось, что док не вытащил тот стилет, а просто отломил рукоять.
Ерунда, конечно, но Меррон чувствовала железо в груди.
И еще чужую боль, которая почти как своя.
Там, на чердаке, все опять было просто и понятно. А потом опять запуталось.
Он не уходил и не приближался, только если ночью, и то ждал, когда Меррон уляжется, потом пробирался в комнату – и ведь ступал так, что не услышишь, – и ложился рядом. Перекидывал через Меррон руку и засыпал, крепко, спокойно, как будто так и надо.
Ближе к утру его рука оказывалась под рубашкой. Меррон от этого просыпалась. И он тоже.
Вставал, заботливо укрывал ее одеялом, целовал в макушку и уходил.
Подмывало швырнуть вслед чем-нибудь тяжелым. Или скандал устроить, но… Меррон взрослая и уже научилась вести себя соответственно. Например, притворяться, что ничего не замечает.
Но ведь у любого терпения предел есть!
И когда рука добралась-таки до груди, она не выдержала:
– Если ты сейчас остановишься, то спать будешь на полу.
Остановился. Отстранился. Встал и вышел из комнаты.
От обиды у Меррон дыхание перехватило. Полдня не могла себя успокоить, все из рук валилось. И хорошо, что смена была не ее, иначе точно кого-нибудь убила, сугубо от рассеянности. В амбулаторию тоже не заглядывали, и в другой раз она бы сразу догадалась о причинах такого внезапного безлюдья, но нынешнее душевное состояние требовало действий, и активных. Чтобы занять себя хоть чем-то, Меррон проветрила комнату дока, вытерла пыль, в порыве вдохновения и полы помыла.
Тетушка всегда говорила, что уборка благотворно сказывается на женской нервной системе. И оказалась права. Почти. В том же приподнятом настроении Меррон вышла в сад, который после отъезда Летиции медленно и верно приходил в запустение, нарвала букет из крапивы, ромашек и васильков. Получилось просто замечательно!
Цветы способствуют созданию уюта…
Наверное, Мартэйнн выглядел дико с этим букетом, поскольку сосед на приветствие не ответил, но поспешил скрыться в доме.
Плевать на соседа.
Крапива в тетушкиной вазе смотрелась довольно гармонично.
А пялиться с таким раздражением на Меррон не надо.
– Вот. – Она вручила Дару огромного розового медведя, набитого опилками. Медведь был честно выигран ею на ярмарке и подарен троюродной племяннице Летиции, которая уверяла, что более красивого зверя в жизни своей не видела, но, уезжая, забыла. И к лучшему. Пригодился. – С ним тоже спать можно. И лишнего спрашивать не будет.
В глазах-пуговках медведя читался упрек.
Ничего. Перетерпят.
Дверь своей комнаты Меррон закрыла на задвижку. И в госпиталь вышла на час раньше обычного, только Дар все равно услышал, как собирается, и следом потянулся. Злой, как… Мишку с собой прихватил. Он-то в чем виноват? Он хороший, только кривоватый слегка. Донес до площади, пристроил на лавку. Отвернулся.
– Между прочим, это не твоя игрушка.
Делает вид, что не слышит. Оно и к лучшему. Меррон тоже притворится, что его не замечает. У нее собственных дел полно.
…дел было больше, чем ей бы хотелось.
Опять подводы. И раненые. Привычные запахи. Какофония звуков. Кто-то кричит, кто-то умоляет о помощи. Хватают за руки, думают, что так задержатся в этом мире.
– Потерпите. – Меррон твердит это слово, точно заклинание. – Потерпите, и все будет хорошо.
Ложь.
Будет, только не все и не у всех.
Вот тот парень с распоротым животом уже мертвец. Даже если зашить кишки, все равно погибнет, не от потери крови, так от перитонита. И этот, обожженный, пробитый кусками металла. Он еще в сознании, хотя боль, верно, должен испытывать страшную. Лежит на земле. Его обходят стороной, и это правильно: помогать надо тем, у кого есть шанс. Но Меррон все равно жаль и его, и парня, и еще того, который с раскроенным черепом.
Меррон знает, насколько это страшно – умирать.
Здесь и сейчас ссоры исчезают.
– Дай им воды, пожалуйста. – Это все, что Меррон может для них сделать. И Дар кивает: он приглядит.
На операционном столе старик с расплющенной грудной клеткой, он уже мертв, но доктора склонились над телом, разглядывая повреждения. Сейчас они похожи на воронье, слетевшееся к трупу.
– Пушка сорвалась с лафета, – пояснил доктор Гранвич, единственный, пожалуй, кто снисходил до разговоров с Меррон. – Обратите внимание на характер повреждений…
Грудина смята, ребра раздроблены. Осколки прорвали легкое, и старик захлебнулся собственной кровью. Или умер раньше, от боли?
– Надо будет провести вскрытие. – Гранвич дает знак унести тело.
Освободившееся место пустует недолго.
– Мартэйнн, – доктор Гранвич склоняется над пациентом, хотя его помощь и не нужна, – мне кажется, вам следует подумать о переезде…
У него узкое лицо и маленькие глаза, которые Гранвич прячет за круглыми стеклышками очков. Он равнодушен. Бесстрастен. Аполитичен.
– О вас спрашивали. И не только у меня. Интересовались, не слишком ли часто умирают ваши пациенты…
Не чаще, чем у других.
– …и не может ли быть в том злого умысла…
Его найдут, если нужно. В другой раз Меррон испугалась бы. Но не сейчас.
– Благодарю вас.
– Умные люди должны помогать себе подобным.
Гранвич протирает стеклышки платком и уходит. Надо бежать, но… сейчас? Нельзя. Нечестно по отношению к тем, у кого есть шанс выжить. Если до сих пор не пришли, то и сегодня, глядишь, не явятся. А ночью Меррон уйдет. Или утром.
Сейчас надо работать.
Рутина. На крови, на боли, но все равно уже рутина, особенно если на лица не смотреть. Да и они все одинаково искажены. Везет тем, кто вовремя теряет сознание, но таких меньшинство.
Остальных привязывают.
Жалеть нельзя. От жалости слабеют руки, а это – преступление, сродни убийству, если не хуже.
Когда получается покинуть госпиталь, на улице уже темно. И Меррон долго трет ладони куском пемзы, стесывая чужую кровь, пока Сержант не отбирает. Сам вытирает полотенцем и потом тут же заставляет сесть. Сует миску с остывшим супом, кажется, на косточках сваренным, что сродни чуду.
– Спасибо.
Попадаются даже волокна мяса. И Меррон ест медленно, тщательно пережевывая, только все равно пора возвращаться домой. И что-то делать… говорить… решать.
Дар идет рядом. Уже не злится, расстроен только.
– Извини. – Меррон потерла глаза. – Я не хотела тебя обидеть.
В доме сегодня как-то очень резко пахло травами, особенно липой.
Липовый чай разжижает кровь и способствует успокоению нервов, конечно, не так, как полынь, но все же. Еще немного мелиссы, мяты и корня валерианы. То, что нужно для здорового сна.
– Будешь?
Будет. И за стол садится, кружку принимает, нюхает придирчиво. Опасается, что Меррон его отравит?
– Это чтобы спалось спокойно. Без снов. А то если день такой, как сегодня, то обычно потом снится… всякое. Дар, что с тобой происходит?
Отворачивается.
– Ясно… как знаешь.
Липа горчит, чего не должно бы быть. Или это валериана… но в сон клонит неимоверно. У Меррон даже на то, чтобы помыться, сил нет. Добирается до кровати, стягивает сапоги и засыпает моментально. И сон муторный, тяжелый. Она бежит. Или тонет. Пытается вырваться, но все равно тонет. Захлебывается почти. Но в какой-то момент болото отпускает.
Меррон не удивилась, обнаружив, что спит не одна.
– Нам надо поговорить. – Наверное, следовало бы пожелать доброго утро, но нынешнее, как Меррон подозревала, и близко не будет добрым. Дар сразу подобрался. А глаза совсем желтыми стали… знакомое что-то в этом есть, а что – Меррон не припомнит.
– Я не знаю, зачем ты со мной возишься. И вообще не понимаю тебя совершенно. Наверное, мне и не положено, но… не в этом дело. Здесь дальше опасно оставаться.
Она слишком долго игнорировала приглашения Терлака.
И собрания.
И политическую жизнь, где благоразумно было бы придерживаться правильных взглядов.
Она думала, что если не придерживаться никаких, то ее оставят в покое.
– Мной уже интересовались, и, значит, скоро явятся. Сюда или в госпиталь – не важно.
Слушает. Не перебивает.
– Я не хочу ждать, когда это произойдет. Думаю, что скоро. У меня есть лодка… точнее, я знаю, где взять лодку. И на лодке уйти больше шансов. Пара лиг вдоль берега, а там как-нибудь… есть люди, которые выведут на безопасную дорогу. Если повезет, то доберусь до Севера. Говорят, что там безопасно…
Только Меррон не представляет, что ей делать на Севере. И вообще в этом мире.
Отправляться в город и попробовать найти дока?
Или это тоже безумный план?
Хотя какие еще планы сработают в безумном мире?
– Но я о другом. Я не говорю, чтобы ты шел со мной, у тебя наверняка свои дела и планы. Но исчезнуть придется, хотя бы на время. Терлак вцепится просто со злости.
Обнять себя Меррон не позволила: хватит с нее игр.
– Лучше помоги собраться.
Дурные сны и знакомая ломота в висках прямо указывали на перемену погоды. К закату с моря пойдут туманы, а лучшего прикрытия и пожелать нельзя.
Только и Терлак умел читать погоду. К полудню Меррон поняла: за амбулаторией наблюдают. А вечером, когда по лиловым сумеркам поползла белизна, в дверь постучали. Четверо. Вошли. Осмотрелись. И старший – Меррон видела его в приемной – велел:
– Пройдемте, гражданин.
Взял за плечо, чтобы не сбежала.
– По какому поводу?
– До выяснения обстоятельств…
…почему-то стало жаль рук. Пальцы на допросах ломали сразу.
А человек вдруг осел на пол. Из головы его торчал топор, тот самый, старый топор, который Меррон все хотела отнести точильщику, чтобы кромку поправил – затупилась. Но череп – не дрова, раскололся сразу.
Второй гость упал с грохотом. А третий взвыл, но сразу заткнулся – из перерезанной глотки хлынула кровь. Хорошая смерть. Быстрая. Четвертый хотел сбежать. Не вышло. Пинок по коленной чашечке, хруст. И снова кровь на паркет. А Летиция его воском натирала.
…дом сожгут или просто конфискуют?
Дар вытер нож о занавеску и подал сумку. Подхватил вторую, когда только собрать успел?
Надо уходить.
Через окно, через палисадник… розы Меррон так и не высадила. Но какое кому до роз дело? Кромка берега. И творожистый густой туман, который стелется по-над водой.
Лодка на уговоренном месте.
Волна оттягивает ее от берега, и весла проворачиваются в уключинах, касаются воды. Легкий всплеск. Скрип. И тишина. Тех, которые в доме, хватятся. Терлак придет в ярость… погони не избежать.
– Зачем ты встревал?
Ворчание. Злится. И волнуется. За Меррон?
– Пусти меня. Ты местность не знаешь, а я здесь ходила.
Шипит. И просто злится.
– Тут заблудиться проще простого. Особенно в тумане.
В ответ только фырканье. Ну да, как Меррон только усомнилась в его способностях? Что ж, оставалось надеяться, что болезненная гордость не выведет в открытое море. С другой стороны, лучше море, чем Терлак. К полуночи туман рассеялся, и Меррон увидела берег – гранитную стену, прорезанную черными горловинами пещер.
– Альмовы норы? Ты знаешь про Альмовы норы?
Сержант кивнул.
– Ты раньше бывал здесь?
Бывал.
Только когда и зачем, опять не скажет. И надо отстать от него со своими вопросами: Меррон помогли и следует быть благодарной за эту помощь. Остальное – не важно.
Море шепталось и пыталось протиснуться в гранитные берега, подхватило лодку, потянуло и как-то бережно, словно с ним договорились, поставило на плоский камень. От него начинались ступени, сделанные, верно, сотни лет тому, растрескавшиеся, обвалившиеся местами, но все еще пригодные.
И Меррон прикусила губу, запирая очередной вопрос.
Ступени вывели в небольшую пещеру, за которой открывалась другая, и третья… и значит, правду говорили, что человек, не способный прочесть тайные знаки, которые есть в каждой пещере, в жизни не отыщет обратной дороги.
А значит, их с Даром тоже не найдут.
Он шел и шел, быстро, так что Меррон приходилось бежать. А бегать в темноте – не самая лучшая идея. И камни норовили толкнуть, подставить подножку, задеть острым известняковым клыком, которые во множестве росли на потолке… Меррон терпела.
Должен же был он остановиться!
Остановился, махнул, показывая, что именно эта пещера его вполне устраивает. Сумку бросил. И сам упал.
– Дар? – Нельзя паниковать. Это приступ, как тот, который на чердаке случился. И плохо ему было давно, только терпел, тянул и вот дотянул, бестолочь этакая. Мышцы судорогой свело, как каменные стали. И дышит через раз, но рычит, пытается Меррон оттолкнуть.
– Успокойся. Я не собираюсь к тебе приставать. Ни сейчас, ни вообще. Нужен ты мне больно. Я просто расстегну куртку, и тебе дышать легче станет… и мышцы попробую размять. Будет неприятно. Когда отпустит, я уйду. Обещаю. А пока терпи.
Она точно знала, куда нажать и что сделать, чтобы ему стало легче.
И получалось.
Только когда Меррон хотела уйти, не позволил. Вцепился в руку, прижался щекой и поцеловал еще.
Вот и как его понимать?
Глава 2
Векторы движения
Неумение врать еще не повод говорить правду.
Жизненный девиз честного человека
Травинка коснулась кончика носа.
– Вставай, я знаю, что ты не спишь. – Меррон провела травинкой по щеке.
Не спит. С той самой минуты, когда она поднялась. Меррон всегда сначала поднималась, потом уже открывала глаза и, подслеповато щурясь, долго топталась на одном месте. Вспоминала, что за место и как она сюда попала. Зевала. Хмурилась. Трясла головой, избавляясь от остатков сна. Она была беспечна, и как такую из поля зрения выпустишь?
Но если открыто следить, занервничает.
– Ну вставай же. – Она забралась под одеяло и ткнула пальцем в живот. Сержант перевернулся на бок, уступая нагретое место.
К реке ходила. Купалась. Волосы мокрые, и на шее капельки.
– Вода хорошая, – сказала Меррон, отбирая остатки плаща. – Теплая совсем. Парная. Я раньше любила, чтобы на рассвете поплавать… особенно если по первому туману. У нас на запруде еще кувшинки были. Они только ночью цветут, знаешь?
Знает. И что нос у нее холодный, тоже знает.
Сама вот мерзнет, дрожит, но не признается, бестолковая женщина, с которой Сержант совершенно не умеет общаться. Ни с ней, ни с другими, от него даже обозные девки, которые особой разборчивостью не отличались, стремились отделаться побыстрей, хотя вроде бы никого и никогда не обижал.
– Или вот на рассвете… закрываются и уходят под воду. Бетти мне плавать не разрешала. Во-первых, потому что леди принимают ванну, а не в запрудах плещутся, во-вторых, у кувшинок очень толстые стебли, как сети, легко запутаться и утонуть. Некоторые и тонули. Деревенские про таких говорили, что их водяницы уволокли. Суеверия…
Засунула-таки ледяные ладони под рубашку.
– Ты опять горячий. Как ты себя чувствуешь?
Обыкновенно. Хорошо даже, когда она рядом.
– Сегодня снова, да?
Наверное. Но стоит ли переживать о том, чего нельзя изменить.
Приступы случались с периодичностью в два дня, но зато проходили легче и быстрей. Тогда, в пещере, Сержант слег почти на сутки, не столько из-за самого приступа, сколько из-за непонятной, несвойственной ему прежде слабости.
Меррон была рядом.
И в следующий раз – тогда накатило на равнине. Два холма и поле, усеянное осколками камней. Ни пещеры, ни даже трещины, чтобы укрыться. А ей не объяснить было, что оставаться на открытом месте опасно, что надо уходить, к холмам, к лесу, видневшемуся вдали. Он бы отлежался и нашел.
Осталась.
И оставалась раз за разом. Вопросов не задавала. Сама протягивала скальпель, опалив лезвие над огнем. Ворчала, что он сумасшедший.
Терпела.
Доверяла, не понимая, что Сержант не стоит доверия.
– Может, поешь все-таки? Хотя бы немного?
Капли на шее Меррон высохли, и нос согрелся. Пора было вставать.
А поесть… в последнее время его мутило от запаха еды. И это было неправильно.
Все было неправильно.
Ему за тридцать. Критический возраст давным-давно пройден. Изменения невозможны. Это же не ветрянка… тем более что кровь все еще красная, а кожа достаточно мягкая, чтобы скальпель ее вскрывал.
Правда, давить приходилось изо всех сил.
До границы осталось недели две пути. Нейтральная зона начнется раньше, сейчас наверняка полоса шире обычного, и это хорошо… если получится дойти.
Должен.
Позвать Ллойда… он или поможет, или позаботится о Меррон, насколько это возможно. Она будет против, но Ллойд поможет смириться с неизбежным. И постарается переключить ее внимание на что-нибудь другое. Возможно, связь еще не настолько крепка, чтобы Меррон сильно пострадала, если Дар умрет.
Накатило у реки. Наклонился, зачерпнул воды – и вправду теплая, как парное молоко, то, которое с пенкой и запахом живого, – и не удержался на ногах.
На этот раз шло волнами.
Кажется, не получилось не закричать. Не помнил. Падал, как раньше, – в песок, в седую траву, которой осталось жить неделю или две. Людям – и того меньше.
Тоже был берег, узкая полоса. Раскатанное дно и застрявшая подвода. Шелест рогоза. Визг подстреленной лошади. Тяжелая конница грохочет, взбивает грязь на переправе, взрезает стальным клином шеренгу пехоты. Падают стрелы. Отвесно. С неба. Они живут там, в тучах вороной масти, потерянные перья с железной остью. Пробивают щиты. Воду. Впиваются в рыхлую землю, сеют войну.
Хорошо.
Дар закрывает глаза не потому, что страшно – страх давно ушел, – но ему надо услышать эту музыку. Никто не верит, что она есть.
Никто не видит алого.
И огненных кошек, которые играют с людьми. Кошки зовут Дара, и он должен пойти за ними. Сегодня или никогда… сегодня.
– Лежать! – Сержанта оттаскивают под защиту телеги.
Зачем?
– Сдохнешь по-глупому.
И хорошо бы. Жить по-умному не выходит. Дар пробует вывернуться: кошки ведь рядом. Ему всего-то надо два шага сделать, но не отпускают. Колено Сержанта давит спину, и та вот-вот хрустнет.
Кошки смеются.
– Не дури…
От удара по голове в ушах звенит, и музыка обрывается. Уходят кошки, туда, где конница добивает остатки пехоты, уже безо всякой красоты, деловито, буднично. И над стенами городка поднимается белый флаг.
Не спасет.
Дару не жаль тех, кто прячется за стенами, как и тех, кто стоит перед ними, за чертой осадных башен, штурмовых лестниц и баллист. Все обречены. Каждый по-своему.
На землю из носу льется кровь, но ее слишком мало, чтобы кошки вернулись. Они предпочитают лакать из луж, а не лужиц. Дару нечего им предложить.
Бросают.
Не прощаются до вечера, а именно бросают. Вообще-то Дар ненавидит вечера, особенно такие, по-летнему теплые, с кострами, мошкарой, что слетается к кострам, с черной водой, которая словно зеркало. Но сегодня ненависти нет. Наверное, уже ничего нет.
Жаль, что днем умереть не вышло.
Сержант идет позади. Присматривает. И сопровождает. Сначала туда… потом назад. Док уже расставит склянки, разложит инструмент. Он тоже будет молчать, только губы подожмет, запирая слова. Устал. Все устали.
А ночь вот хорошая. Звезды. Луна. И дикий шиповник отцветает, сыплет на землю белые лепестки.
– Почему все так? – Дар повернулся к сопровождающему.
– Надо же, заговорил-таки. И давно?
Да. Наверное. Дар не помнил, когда осознал, что снова способен разговаривать. Дар вообще не помнил время.
– И чего молчал?
Дар пожал плечами: в словах нет смысла. Ни в чем, если разобраться, смысла нет.
Дорога. Война. Зимовки. Сержант. Другие. Всех убьют, сейчас или позже, год, два, десять… у войны сотня рук, и в каждой – подарок, все больше железные, вроде тех, которые с неба сыпались. И чего ради бороться, придумывать недостижимые цели? Врать, что однажды доберешься, убьешь того самого, заклятого врага, и все в одночасье переменится…
Следовало быть объективным: у Дара не хватит сил убить Дохерти. А если вдруг хватит, то никому не станет лучше. Напротив, будет красная волна, от границы до границы. Так стоит ли оно того?
Разве что ради кошек.
Но они же бросили.
Старый шатер. Кольцо охраны. Знамя.
Сегодня без зрителей: любое развлечение приедается, а уж то, которое годами длится, так и вовсе не развлечение. Тоска… оказывается, когда ненависть уходит, мир становится безвкусным.
– Ты что задумал? – Сержант почуял неладное.
– Я просто понять хочу, почему все так?
– Как?
– Не знаю.
Плохо…
Мучительно, как будто Дар только что лишился чего-то важного и теперь изнутри распадается. Он видел подобное, когда кости гниют, а мышцы вроде держатся. И человек орет от боли, но даже маковый отвар не способен ее ослабить.
Об этом он думает, принимая удары. Сегодня, как вчера… и завтра. И потом тоже.
Зачем тогда?
До повозки дока Дар добирается сам, и от мака отказывается, а док сует и сует, уговаривает.
Нет, это не док, руки другие, смуглые и с царапинами, вечно она куда-то влезет…
– Выпей, пожалуйста, легче станет.
Нельзя. И не станет.
Он лежит на берегу у костра, и жарко очень. Сдирает одеяло, пытаясь высвободиться.
– Вода, это только вода. – Меррон помогает напиться. А вода вкусная до безумия. – Тихо, Дар. Я никуда не ухожу. Я здесь. С тобой…
…а там никого не было. Палатка. Или повозка. Запах всегда один и тот же: травяно-химический. Ноющая боль во всем теле. Жажда. И голод.
Регенерация требует энергии. Еды хватает. Но в этот раз Дар отказывается. Он отворачивается к стене и лежит, пытаясь понять, почему же все именно так, как есть. Приходит док. Потом Сержант. Еще кто-то. Говорят. Уговаривают.
Чего ради?
Постепенно голод отступает. Зато спать хочется почти все время. И Дар спит. Долго… дольше, чем когда бы то ни было. Сны тоже пустые, но в них легче.
Будят. Грубо. Пинком. Плевать.
За шкирку выволакивают из палатки, наверное, все-таки убьют. Хорошо бы. Глаза у Дохерти не рыжие – красные, как уголь, но Дар может смотреть в них, не испытывая больше ни ненависти, ни желания убивать.
– Перегорел, значит. Ну и хорошо. Не все ж тебе под волной ходить.
Вот когда в голову лезут, это мерзко. Дохерти не дает себе труд скрывать свое присутствие, напротив, всегда действует грубо, точно подчеркивая этим собственную силу.
– А вот сдохнуть зря решил. Зацепиться не за что?
Перебирает воспоминания, какие-то размытые, словно чужие. В них нет ничего, чего бы Дару было жаль отдать. Отпускает не сразу, но все-таки отпускает.
– Ясно. С людьми ты не ладишь. С лошадью попробуй. Но смотри, бросишь – обоих удавлю.
Себя Дару было не жаль, а вот лошадь… он никогда не видел таких красивых, чтобы хрупкая, словно из снега вылепленная. Не поверил даже, что настоящая. Живая. Брала хлеб с руки осторожно, обнюхивала волосы, касалась мягкими губами волос, дышала, согревая собственным теплом.
Вздыхала тихонечко.
И смотрела так, будто знала про Дара то, что никто больше не знает.
Он провел рядом с ней ночь, прижимаясь к горячему боку. И вторую… и уже потом, позже, рассказывал ей обо всем. Не жаловался, просто говорил.
С кем-то надо было.
Не смеялись. И желающих отнять не было. Дар не отдал бы: свое отдавать нельзя.
Снежинка принадлежит ему. Она осталась в Ласточкином гнезде, но это лишь потому, что здесь слишком опасно. За Снежинкой присмотрят. А когда Дар найдет место, в котором сможет жить, вернут.
Ему такое место нужно, даже не для самого – для Снежинки и Меррон. Ее Дар точно не отпустит. И не позволит уйти. Это нечестно. Неправильно. Но иначе он просто сдохнет.
– Только попробуй. – Меррон рядом. У нее глаза как вишня. И кожа смуглая, сладкая. – И я не знаю, что с тобой сделаю… у меня, между прочим, планы имеются. А ты тут… собрался.
– Какие? – В горле пересохло, и язык больно задевает нёбо.
– Дар, ты…
Заплакала. Все-таки довел до слез. А что делать, если он не понимает, как правильно обращаться с женщинами? С лошадьми намного проще.
– Ты знаешь, как меня перепугал? Я… я подумала… уже все. Ты сутки целые… и лихорадка… и бредишь. И вообще…
Сутки всего? По собственным ощущениям – гораздо дольше.
– Какие планы?
Он ослабел, но не настолько, чтобы и дальше лежать. Получается сесть и дотянуться до Меррон. Мокрые щеки и ресницы тоже. А пахнет все еще тиной речной. Если ей хочется плакать, то пусть плачет, но рядом.
– Грандиозные.
– Рассказывай.
Он имеет право знать, хотя бы для того, чтобы не ошибиться в очередной раз.
– Я дом хочу. И семью. И детей. Двоих. Или троих. Вообще как получится, но хочу. А ты умирать собрался… нельзя быть такой свиньей!
Нельзя.
Тем более если планы имеются…
…и наверное, следовало бы поблагодарить Дохерти за то, что Дар дожил до этого дня.
Утро.
Раннее. За окном – белесый болотный туман. Рассеянный солнечный свет слишком слаб, чтобы хватило для комнаты. В углах – темнота. Она укрывает обшарпанный печной бок с черным квадратом заслонки, и шторку, которая разделяет комнату пополам. Темнота прячется и под массивным столом, на котором уже стоит кувшин и миска с творогом. В комнате пахнет мятой и чабрецом, сеном, молоком, свежим хлебом, и я некоторое время лежу, наслаждаясь минутой покоя.
Их не так много, чтобы не ценить.
Я не одна.
Теплая ручонка на шее, сладкое сопение в ухо.
Настька…
Нет, моя дочь далеко. Но Йен рядом. Из-под одеяла выбрался, жарко ему, рубашка взмокла, и волосы на затылке слиплись.
Он тоже просыпается и смотрит на меня рыжими глазами, в которых вопрос.
– Все хорошо…
Не очень хорошо, но много лучше, чем могло бы быть.
Йен вздыхает.
– Твой отец… он очень долго болел. И начал поправляться…
Кайя был со мной, когда болела я. Неотступно. Каждую минуту. Утешал. Успокаивал. Уговаривал жить. Угрожал даже… и не хотел отпускать.
– …и обязательно поправится. Не сразу, но поправится. На самом деле он очень хороший человек.
Что я могу еще сказать?
И Йен не верит. Он помнит, что было вчера.
…Кайя?
…да?
Он отозвался сразу и с какой-то готовностью, словно ждал, когда я позову.
…я просто хотела убедиться, что ты есть.
…я в порядке.
…врешь.
…вру.
Сомнение. И тревога, которая растет с каждой секундой. Я слышу его ясно, четко, лучше, чем когда бы то ни было.
…Иза, ты… я бы хотел поговорить, но… не в доме.
…из-за Йена?
Малыш перебирает пряди моих волос, сосредоточенный, серьезный.
…мне бы не хотелось повторения вчерашнего. Я не уверен в том, что полностью себя контролирую. Сейчас я отдаю себе отчет, что этот ребенок не несет в себе угрозы, но…
Этот ребенок?
Ллойд предупреждал, только я до сих пор не уверена, что мнению Ллойда стоит доверять.
…сейчас выйду.
…только оденься. Прохладно.
И снова сомнения. Ожидание, нервозное, точно Кайя опасается, что я передумаю.
Ну уж нет.
– Урфин! – Он спит поперек порога, с мечом в обнимку, и мне совсем не хочется знать, от кого именно он собрался нас защищать. Но глаза открывает сразу. – Присмотри за Йеном.
– А ты?
– Мы поговорим. Не стоит волноваться.
Все равно волнуется. За меня? За Кайя? За обоих сразу?
А во дворе и вправду прохладно. Сыро. И туман ложится на плечи белой паутиной. На траве – роса, а в траве – одуванчики, желтые веснушки.
…И снова вспоминаю о Насте. Я бы сплела ей венок из одуванчиков, с длинной такой косой. Я помню, как мама мне выплетала такие, а косу одуванчиковую украшала синими васильками и еще ромашками. Я себе такой красавицей казалась…
Кайя сидит на том же месте, что и вчера. Он всю ночь здесь провел? Похоже на то. Сидел. Думал. Не знаю, до чего додумался, но подозреваю, что вряд ли до чего-то хорошего.
– Пойдем прогуляемся? – Меня тянет прикоснуться к нему, но я чувствую, что Кайя этого не хочет.
Боится?
Скорее стесняется. И еще не доверяет себе. А в рыжих прядях запутались капли росы.
Руки прячу за спину, так обоим спокойнее будет.
А Кайя поднимается и, оглядевшись, выбирает направление. К лесу? Почему бы и нет. Он двигается по-прежнему бесшумно, но все-таки как-то неловко, что ли? Словно отвык от собственного тела.
– Я позволил себе игнорировать тренировки. – Он заговаривает первым. – И долгое время вел не совсем тот образ жизни, который…
Запнулся и замолчал, но позволил взять за руку. Ладонь темная совсем. Сам он тоже – что снаружи, что изнутри. Выгорел, если не дотла, то почти.
– Не нужно, сердце мое. – Кайя не позволил мне заглянуть слишком далеко. – Я не хочу причинять тебе боль, даже случайно. Позволь мне самому отойти. Я хотел попросить тебя, чтобы ты…
А кольцо надел все-таки. И синий камень сегодня ожил, яркий, как никогда прежде.
– Скажи, пожалуйста, дяде и Урфину, чтобы без особой необходимости меня не трогали.
– Они не будут.
– Хорошо. – Он осторожно сжимает мои пальцы. – Но все равно скажи. И чтобы держались в стороне. Вчера я слышал тебя, но не Урфина. И там, на площади. Они были как другие люди.
Лес оборвался. Не было авангарда из светлых берез и темной еловой стражи, но лишь четкая граница по берегу ручья. Узкая лента воды в глубоком русле. Красный глинистый берег. Кусты бересклета в нарядных серьгах цветов, и далекая песня жаворонка.
Серебро паутины.
– Если мне будет что-то нужно, я спрошу. Возможно, моя манера общения вызовет неприятие, но я не имею намерения кого-то обидеть. Я лишь буду стараться никого не убить.
– Кайя, они взрослые. Поймут.
Опять сомнение. Он больше не верит людям, пожалуй, мне в том числе. И главное, что имеет на это все основания, вот только Кайя стыдно за свое недоверие.
– Еще, пожалуйста, скажи, что, когда я… не совсем в себе, нельзя тянуться к оружию, как бы этого ни хотелось. Вообще не следует шевелиться или заговаривать. Я все равно не услышу никого, кроме тебя, а голос, интонация, что угодно, способны спровоцировать нападение. Также нельзя смотреть в глаза. И… прикасаться к тебе. Вообще подходить к тебе слишком близко.
Последнее произносится тихо, почти шепотом.
– Извини, но эмоциональная составляющая в любой момент может оказаться сильнее разума.
– Касается Йена или…
– Мужчин. Взрослых. Всех.
Киваю, испытывая при этом непонятное облегчение. Со взрослыми мужчинами мы как-нибудь разойдемся. Вот только поговорить Кайя хотел совсем не об этом.
Отпускает мою ладонь, скрещивает руки на груди, но не отворачивается. Смотрит сверху вниз, сердито, словно заранее готовясь воевать.
– Я вчера сказал, что не готов тебя отпустить.
Я не хочу, чтобы меня отпускали. Я вообще не воздушный шарик, который на привязи держат.
– Иза, мне непросто говорить то, что я должен. Я действительно физически не способен расстаться с тобой. Сама мысль об этом… меняет.
Надо полагать, не в лучшую сторону. Эмоциональная составляющая, разум… он опять запутался в себе.
– Ты видела, чем я становлюсь, поэтому тебе придется находиться рядом со мной. Всегда и везде. В таких местах, как это…
Место неплохое. Сыровато только, но это же мелочи.
– …в местах, куда менее подходящих для жизни, чем это. Война – грязное занятие. И ты увидишь то, что в иных обстоятельствах я предпочел бы от тебя скрыть. Многие поступки, которые мне придется совершить, скорее всего вызовут твое непонимание и неодобрение. Я постараюсь объяснять их причины, а также обеспечить тебе комфорт в той степени, в которой он возможен…
Он всю ночь это сочинял? Похоже.
– …однако я не готов и никогда не буду готов дать тебе свободу. Более того, если вдруг ты поймешь, что больше не способна находиться рядом со мной и попытаешься сбежать, я пойду следом, и неважно куда. Я сравняю с землей любой замок, который посмеет тебя укрыть. Я уничтожу город, если этот город тебя не выдаст. Я перейду границу и начну настоящую войну. Мне нечего терять.
А шантажировать так и не научился. И вся эта эскапада – от боли, которая говорит громче слов.
– А мне некуда бежать.
Не слышит.
– У меня был выбор, Кайя. Я бы не вернулась, если бы не хотела вернуться. Понимаешь?
Не понимает. Прижимает палец к губам – просьба молчать. Речь еще не окончена. Осталась пара финальных аккордов.
– Но я готов принять твои условия. – Последняя фраза заготовленной речи. И я разрываюсь между желанием отвесить ему хорошую оплеуху и обнять.
Главное – без слез, решит, что из-за него, и будет прав.
– Какие условия?
– Любые.
У меня условий нет, но… Кайя нужны правила. Определенность. Сделка – это всегда гарантия.
– Наведи в стране порядок.
Кивок.
– Мне нужна моя… наша дочь. Но я не хочу рисковать ее жизнью, поэтому, пожалуйста, сделай так, чтобы она смогла вернуться. И поскорее.
Кивает и ждет продолжения, а мне больше нечего сказать. Или все-таки есть?
– Йен…
– Ллойд или Мюррей примут его.
Я присаживаюсь на поваленное дерево. Старая осина некогда росла на границе леса и болота, приграничный страж, но ручей подмыл корни, а ветер довершил дело. И осина легла, продавив мох и мягкую рыхлую почву. Ветви ее обглодали, ободрали кору, и на белом древесном теле проросли грибы. Но в яме, прикрытой мертвыми корнями, поднимались побеги с характерными серебристыми листочками, что дрожали даже в безветренную погоду. Было в этом что-то правильное, но…
…осина – хороший символ, вот только думать надо не о символах.
У Йена появится семья.
И дом.
Нормальные игрушки вместо разбитых тарелок. Растреклятый пони, о котором Настька только и говорит. Безопасность. Постоянство мира. И люди, которые действительно будут его любить.
А что можем дать мы?
– Именно. Ты опять очень громко думаешь. – Кайя присаживается рядом. – Так будет лучше для всех.
Не знаю.
Не верю. Ему. Ллойду. Разуму. Логике.
Когда-нибудь Йен начнет задавать вопросы. Кайя остынет и будет мучиться чувством вины за то, что отказался от сына. А я? Смогу ли уговорить себя, что поступила правильно, избавившись от ребенка? Он ведь не исчезнет. И глядя на Настьку, я всякий раз буду вспоминать Йена, осознавая, что предала.
Я ничего не обещала, но все равно предала.
– Сложно все. – Кайя наклонился и зачерпнул черную воду, позволяя ей литься сквозь пальцы. Он разглядывал руку, воду, грязь, оставшуюся на ладони. Синюю стрекозу и прошлогодний лист, застрявший в трещине. Он опять сомневался, а я не могла понять причины этих сомнений.
Сложно. И, наверное, единственно верного решения не существует. Есть просто решения, каждое со своими последствиями.
– Кайя… я не думаю, что… отослать его ты всегда успеешь. – Древесина влажная и скользкая, на ладони остается ее запах, мертвый, прелый и в то же время мирный. – Я понимаю, что не заменю ему мать, потому что мать в принципе нельзя заменить, да и… обещать, что стану любить, как родного, не буду. Но я не причиню ему вреда.
– А я?
Стрекоза улетает, мы остаемся.
…вчера ты напомнила, каким был мой отец.
…мне просто надо было тебя остановить.
…нет, сердце мое, это правильно. Я не хочу искалечить этого ребенка только потому, что имел неосторожность совершить ошибку.
А что будет потом? Лет через пятнадцать? Или двадцать? Йен вернется на эту землю. И они вынуждены будут встретиться. Кем? Врагами? Чужими людьми? Не людьми вовсе, но взрослыми самцами, которые станут делить территорию?
Двадцать лет – не так и много.
Дети не должны воевать с родителями, как и родители не должны бросать детей.
А есть еще я. И Настя, которая может стать сестрой. Или соперницей, отнявшей родительскую любовь. Мы все можем кем-то стать друг другу, и надо решить, кем именно. Я не знаю, как не ошибиться, но я не хочу, чтобы за наши ошибки отвечала Настя. Да и Йен ни в чем не виноват.
– Ты – не твой отец, Кайя. И не животное. Пожалуйста, дай себе шанс.
И не только себе: нам всем этот шанс нужен.
Это не условие, просьба, но Кайя ее воспримет и честно попытается выполнить. А мне придется следить, чтобы они с Йеном не искалечили друг друга. Если ничего не выйдет, то я хотя бы буду знать, что пыталась.
– Нам пора возвращаться. – Кайя протянул руку, вежливый и ничего не значащий жест. Он снова закрылся. Играет по правилам хорошего воспитания.
Пускай.
– И еще, ты не можешь сопровождать меня в неопределенном статусе. Это повредит твоей репутации. Поэтому в Кверро мы поженимся.
Глава 3
Иллюзии реальности
Если вам кажется, что мир сходит с ума, последуйте за ним.
Во всяком случае, вы будете соответствовать миру.
Совет одного психоаналитика
Вернулся.
Остался.
И все равно не мог поверить, что вернулся и остался. Разум любит играть, и Кайя было страшно оттого, что все вокруг вдруг окажется именно игрой. Ему ведь хотелось сказки.
Чтобы чудо.
Изольда.
Дядя и Урфин.
Снова, как раньше или почти. И больной разум по-своему логичен. Кайя видел безумцев, которые придумывали себе свой собственный мир, где были счастливы. И эти миры были реальны для людей, их создавших. Там оживали мертвые и возвращались потерянные, там появлялся шанс исправить ошибку, и все заканчивалось непременно хорошо.
В безумии, если разобраться, есть своя доля чуда. Оно многогранно и полновесно. В нем небо – синее. Трава – зеленая, и у зеленого тысяча оттенков. В них хрупкость молодых листьев и живая сила травы, что пробивается сквозь окаменевшую землю. Тяжелая лента леса, которая почти растворяется в синеве… а если смотреть на солнце, глаза начинают слезиться.
Кайя смотрит, потому что может.
И трогает траву. Солому. Собачью шкуру с жесткой шерстью, в которой засели прошлогодние колючки и тугие шары клещей, наверняка свежих. Он гладит старые доски, что норовят посадить занозу. И хрупкие шляпки волчьих грибов.
Грибы горькие, с резким запахом. И от старого гвоздя, который Кайя вытащил из коновязи, во рту остается вкус железа и ржавчины.
Он снова слышит: стрекот кузнечиков и скрип половиц в доме. Кряхтение старых петель, на которых провисает дверь… шаги… людей. Звуков много. И разве способен он придумать все это? И запах сена? И лошадей. Хлеба. Молока. То, как белые струйки звенят о подойник и женщина то и дело разгибается, растирая ладонями спину. Она настоящая? В длинной юбке, подвязанной узлом выше колен, и с коленами, раздутыми болезнью, со старыми стоптанными сапогами и этим подойником, слегка мятым, неновым, но чистым. Или вот черная корова с пятном на лбу. Один рог длиннее другого, а вымя разбухшее, перевитое венами. Корова не торопит хозяйку, привычна.
Возможно, Кайя видел их когда-то давно, в один из прежних дней, о которых думает, что вспомнил.
И женщина, перелив молоко в глиняный кувшин, подала.
– Пейте, пока теплое. – Она ушла, не дождавшись благодарности.
Молоко было сладким, с кружевной пенкой. Сено кололось, как положено сену. Трава была влажной и тугой. А вода в ручье холодной, черной, она оставила на ладони тяжелые песчинки и длинный звериный волос. Как понять, что именно – настоящее?
И надо ли?
У Изольды отросли волосы. И сама она стала немного иной. Родной, но… строже? Жестче? Или это Кайя решил, что в его фантазии она должна быть именно такой?
Тянуло прикоснуться. Разобрать косу, которая уже почти развалилась, по прядке, по волоску, вспомнить запах ее волос и кожи. Стереть со щеки тень и пульс поймать, чтобы как прежде. Если это его мир, то у Кайя получится.
Но она была такой настоящей…
…и снова рядом.
Кайя не позволит ей уйти, неважно, существует она на самом деле или сугубо в его сломанном разуме, но уйти – не позволит. А ей захочется. Не сейчас, пока она его жалеет, но через месяц… год… два… когда-нибудь жалость иссякнет и что останется?
Чувство долга.
И дочь.
Кайя не знал, что у него есть дочь, и всю ночь думал о ней, не только, но о ней больше всего. Рыжая. С веснушками. Яркая. Живое солнце. И чудо для двоих. Иза вспоминала о ней так, что не подслушать не получалось. Кайя пытался себе сказать, что нехорошо – подслушивать, вот только сил отвернуться не хватало.
Иза тосковала по дочери.
Разве в чудесном мире, созданном исключительно силой воображения, он не сделал бы Изольду счастливой? Это же просто, заменить одного ребенка другим.
Придумать, почему Йена больше нет, а Настя – здесь.
Доказательство?
Отнюдь.
Иза попросила дать шанс. И не получается ли так, что именно его собственный разломанный разум пытался примириться с собой же? Тот, каким он был раньше, не позволял себе пугать детей и уж тем более не испытывал желания причинить им вред. Прежний Кайя знал, что такое поведение противоестественно и, наверное, действительно не стал бы отказываться от сына.
Сложно все, и от этой сложности болит голова. Слишком много всего накатило и сразу. Как он раньше управлялся со всеми этими звуками, запахами, ощущениями? С тем, чем тянет от людей, – хаос эмоций, статичный шум, от которого не избавиться.
И Кайя отступает, пытаясь привыкнуть к этому шуму.
Наблюдать лучше издали.
Дядя умывается колодезной водой, фыркает и отплевывается. Сонный Урфин меряет шагами двор, думает о чем-то, время от времени останавливается и бросает в сторону коновязи раздраженный взгляд. Он по-прежнему не умеет сдерживать эмоции. И почти не изменился.





