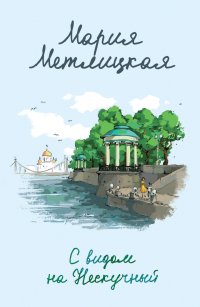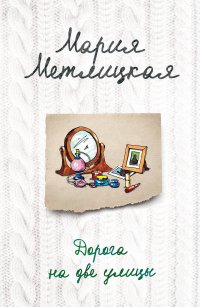
Читать онлайн Дорога на две улицы бесплатно
- Все книги автора: Мария Метлицкая
Семь утра – ее самое любимое и счастливое время. Все еще сладко и безмятежно спят: дети – само собой, им положено, муж тоже – поздний прием снотворного гарантирует сон лишь под утро. В эти минуты абсолютного покоя и тишины она может побыть одна, наедине с собой, все обдумать, спокойно оценить и распланировать. Ленивый рассвет еще только раздумывает заняться, дымится легкий парок над чашкой кофе, и аромат, сладкий и густой, растекается по просторной и светлой кухне и начинает выползать в просторы квартиры. Она тихо прикрывает дверь, удобно усаживается в «Борино кресло» – так называется эта древняя и довольно шаткая конструкция с гобеленовой обивкой – и делает наконец первый глоток.
Закрываются в блаженстве глаза. Вот оно, счастье! Кофе и, главное, – тишина! Она знает, что ей отпущено совсем немного – какие-нибудь полчаса. Ну, если повезет, минут сорок. А вот потом начнется!
Появится кто-то из «вредителей» – скорее всего, Ольга. Самая ранняя пташка и самый ответственный человек – не дай бог опоздать в школу!
Или Никоша – что хуже. Потому что обязательно начнется Никошина болезненная суета – без этого никак.
Самое ужасное – появление Ирки. Но это вряд ли. Старшая дочь крепко и безмятежно спит. И разбудить ее будет огромной проблемой – как, впрочем, всегда.
Нет уж, пусть спит до последнего, всем спокойней.
Если первым зайдет Борис, тоже не здорово. После снотворных голова тяжелая, мутная. Настроение – хуже некуда, потому что разбит и вял. В себя придет только на работе – там деваться некуда. А дома можно покапризничать и поканючить.
Она смотрит в окно и думает о том, что скоро зима – долгая и бесконечная. Дети начнут болеть – без этого не обойдется. Нужно ехать к маме – разобрать погреб, заклеить окна к зиме.
У Никоши совсем прохудились ботинки, а у Ольги нет зимнего пальто. А что уж потребует Ирка… Вот об этом лучше не думать.
Бориса начнет мучить язва – застарелая и верная подруга. Уж осенью она обнаружится наверняка. Значит, опять картофельный сок по утрам и специальный рацион. Пареное, вареное.
Она гонит от себя все эти мысли, но они не собираются ее оставлять. Да и вообще – как можно запретить себе думать? Смешно, ей-богу!
Советы мудрейшей из мудрейших – Эли, разумеется: «Вспомни Скарлетт О’Хару: “Я подумаю об этом завтра”».
Да нет, и завтра, и сегодня. И послезавтра…
Она смотрит на часы, и в этот момент тишину дома разрывает резкий телефонный звонок.
Она вздрагивает и хватает трубку – господи, только бы никто не проснулся!
– Елена Сергеевна? – голос казенный и сухой.
Становится не по себе. Слава богу, все дома и спят – мелькает у нее в голове.
Нет, не все дома. И не все спят. Машка в роддоме. Сильный толчок в сердце.
– Да, – хрипло отвечает она.
– Луконина? – голосу требуется подтверждение.
– Да, – еще раз повторяет она.
В трубке глубокий вздох – уже совсем человеческий.
– Примите соболезнования. Мария Луконина скончалась. – Голос совсем сник.
Она садится на стул и боится выронить трубку – так дрожит рука.
– Ой! – вдруг радуется голос. – А ребенок-то жив! Жив ребеночек! Девочка! Але! Вы меня слышите? Елена Сергеевна?
– Слышу, – отвечает она и кладет трубку на стол.
Частые гудки звучат так громко, так невыносимо громко – словно похоронный набат. На всю квартиру.
Первое, что приходит в голову, – Гаяне.
И еще – что же теперь со всеми нами будет? Жизнь, наверно, уже кончилась. Ведь после такого не живут!
Она в этом почти уверена.
Потом поймет – живут! Живут и после такого – и никуда не деться.
Потому что надо жить. Потому что выбора нет. По крайней мере – у нее.
* * *
Дверь распахнулась, и она вздрогнула. На пороге стояла сонная Ольга – байковая пижама с утятами, вязаные носки. Мерзлячка.
Ольга терла глаза и смотрела на мать.
– Маша умерла, – сказала Елена и не узнала свой голос.
Ольга опустилась на стул.
– Что ты такое говоришь? – хриплым шепотом спросила она.
Мать кивнула.
– Звонили из роддома. Полчаса назад. Ребенок жив. Девочка.
– Какой ребенок, мам? Зачем этот ребенок?
– Как зачем? – удивилась Елена. – Он родился. Для того чтобы жить, наверно.
– Жить? – переспросила Ольга. – А зачем ему жить, если умерла Маша? Как он может после этого жить?
– Дурочка ты, – ответила мать. – Он у нас разрешения не спрашивает. И он, вернее, она, и Тот, Кто сверху, – она подняла глаза к потолку. – А вот как нам теперь жить… Этого я не понимаю. А еще есть Гаяне. И отец. И – Юра. Что со всем этим делать, Леля? – Она беспомощно поглядела на дочь и заплакала.
Ольга сидела, глядя в одну точку. Она ничего не понимала. Как такое могло случиться? Обрушиться на их семью? Прийти и в их счастливый и мирный дом? Перевернуть и разрушить всю их жизнь? Что будет с отцом, господи? У него же сердце и язва! Что будет с Юрой, таким молодым и таким влюбленным?
А Гаяне? Про это думать вообще невозможно!
Но еще страшнее думать про Машу. Про то, что ее уже нет. И никогда больше не будет. Такой живой, смешливой, подвижной! Такой беспечной и шебутной Маши! Которая просто не может лежать холодной и неподвижной в гробу. Такой родной и близкой – ближе всех, после мамы. Куда там Ирке, родной сестре!
Маша – вот кто ее настоящая сестра! И ерунда и глупости, что она дальше, потому что у них разные матери! Маша – сестра и подруга. Лучший друг и советчик. Тайный поверенный во всех сердечных делах и секретах. Впрочем, какие там у Лели сердечные дела и тайны – глупость одна подростковая.
Господи! Про какие тайны она думает!
Маши больше нет. Как можно в это поверить?
Маши нет, а все остальные есть. По-прежнему есть. На своих местах. Все на своих местах. Спит отец, и, наверно, спит Гаяне. И не знают, чем их встретит этот кошмарный день. Все ЕЩЕ спят.
И Машин ребенок тоже спит. И ничего не понимает. Никогда у него не будет матери. Никогда.
И, скорее всего, бабушки тоже не будет. Потому что следом за Машей в гроб ляжет Гаяне.
Кто следующий? Отец? После его инфаркта?
И во всем виноват этот ребенок!
«Я его ненавижу! И буду ненавидеть всю жизнь», – подумала Ольга.
Слез не было. Только ненависть, выжигающая сердце, и страх.
Страх за всех и еще за то, как теперь поменяется вся их жизнь.
На пороге кухни возникла Ирка – привидение в короткой мятой ночнушке, со всклоченными кудрявыми золотистыми волосами.
Окинув взглядом мать и сестру, широко и сладко зевнув, она спросила:
– Ну и что с вашими лицами? По ком траур?
– По твоей сестре, – тихо ответила мать.
– В каком смысле? – переспросила Ирка.
– В прямом, – ответила Ольга. – Маша умерла.
– Шутишь? – Ирка вскинула брови.
Мать и сестра не ответили.
Ирка плюхнулась на табуретку.
– Вот тебе и доброе утро, – пробормотала она. – Неплохо начался день.
Елена Сергеевна резко встала и вышла из кухни.
Ольга покачала головой и укоризненно посмотрела на Ирку.
Ирка пожала плечами.
Ирка есть Ирка. Никуда не денешься.
Елена сидела в коридоре. Ольга подошла к матери и присела рядом на корточки.
– Мам, ну хочешь, я папе сама скажу?
Елена покачала головой.
– Нет, Лелька. Это не детское дело. Я сама. Попробую, – вздохнула она. – Иди полежи еще. Учеба на сегодня, как ты понимаешь, отменяется.
«Девочка моя! – подумала Елена. – Как всегда, хочет взять все на себя. Трудности для себя не отменяет. Леля и Ирка. Две сестры. Родные, между прочим. А разница между ними… Не разница – пропасть».
Она медленно, словно старуха, поднялась с табуретки и пошла в спальню. К мужу.
Он спал. Безмятежно и счастливо. Как может спать человек, полночи промучившийся бессонницей.
Она села на край кровати и посмотрела на мужа. Рот, как всегда, приоткрыт. У Никоши точно так же.
Она подумала: вот еще десять минут счастливого сна. Или – двадцать. Еще ТОЙ жизни. А потом начнется жизнь другая. Если вообще можно будет это назвать жизнью. Скорее всего, это будет длинный, темный и бесконечный кошмар. Из которого не выбраться уже никогда. И никому – ни ему, ни Гаяне, ни детям. Впрочем, Ирка не в счет. Может, и слава богу?
А Юра? Молодой, сильный и красивый Юра? Какая у них с Машкой случилась любовь… Кажется, такое выпадает далеко не всем. Только мечтать. Хотя кто, как не Машка, этого заслуживает…
Точнее – заслуживала. А чем она заслужила все остальное? Весь этот ужас…
Впрочем, что Юра… Крепкий, здоровый мужик. Что думать про Юру. Есть про кого думать.
И она опять посмотрела на спящего мужа.
Нет. Не могу. Слабая и безвольная. Лелька куда крепче меня. Она бы нашла силы.
Елена вышла из комнаты и притворила дверь.
Ольга сидела на кухне и смотрела в окно. Увидев мать, встрепенулась:
– Чаю, мамуль?
– Какое… – Елена махнула рукой.
На пороге появилась Ирка – одетая и накрашенная.
– Мам! Я побегу?
Ольга и Елена молчали.
– Ну что вы насупились? Я-то при чем? И вообще, чем я могу помочь?
– Ты – ни при чем, – каменным голосом произнесла мать. – Ты всегда и во всем ни при чем. И помочь ты ничем не можешь. Это правда. Если у человека нет сердца, взятки с него гладки.
Ирка досадливо кивнула – все, как всегда. Недовольны и воспитывают.
Вышла. Точнее – выскочила. Подальше от неприятностей, подальше от проблем. От всего, что огорчает, – подальше.
Елена и Ольга переглянулись. Ольга махнула рукой – не обращай внимания.
Елена вздохнула: поздно пить боржоми, как говорит Эля. А Эля всегда права.
В дверь позвонили. Ольга вскочила и бросилась в коридор.
На пороге стояла Гаяне.
Смотреть в ее глаза было невозможно.
* * *
«Скорая» приехала удивительно быстро – буквально через десять минут.
Борис лежал лицом к стене. Кое-как измерили давление и сделали два укола – один от давления, второй – снотворный. Он ни на что не реагировал и на вопросы не отвечал.
Гаяне уложили в комнате Никоши.
Никоша сидел на кухне и плакал. Ольга достала его таблетки. Дала двойную дозу и пошла в коридор звонить Вальянову.
Вальянов недовольно сказал, что простужен и приехать не сможет. Уточнил список лекарств и подтвердил – да, дозу увеличить. Но приступов, скорее всего, не избежать. Быть начеку и держать готовые шприцы.
Эля с Яковом появились к обеду. Яков пошел к Борису, а Эля писала на листке бумаги очередность предстоящих дел. Потом взяла телефон и принялась обзванивать – больница, морг; знакомые – это уже про поминки. Потом начались совсем невыносимые разговоры про колбасу, рыбу, вырезку – с директором продуктового.
Слушать это было невозможно. Ни про «батоны сырокопченой», ни про «дай голландского, на черта нам российский».
Все правильно. Кто-то должен заниматься и этим. И лучше Эли это не сделает никто. Но – только не слушать! И не слышать.
Елена заглянула в спальню – Борис повернулся к Якову и что-то тихо ему говорил. Яков держал его за руку и кивал.
В Никошиной комнате было тихо. Гаяне спала. Слава тебе господи.
Но ей предстояло проснуться.
Юре отправили телеграмму – без особой надежды, что он поспеет. Поди найди его в тайге.
А может, и к лучшему. Пережить весь этот ужас будет легче, не видя.
Елена понимала, все понимала – если бы не Эля… Как всегда – четко, грамотно, по делу. Да и кто ей Маша? Не родня, это правда. Сделано все было… Впрочем, разве можно говорить о том, что сделано все было правильно? «Грамотно и достойно» – тоже из Элькиного лексикона.
А ведь сделано все было именно так. Как ни крути. Значит – ханжество? Если кроме благодарности еще какой-то внутренний упрек?
Слишком четко. Слишком грамотно. Даже карточки в кафе – где и как рассаживаться. Словно Эля занималась этим всю жизнь. Хотя, за что она ни возьмется – все у нее выходит. Как говорит Яша, «холодным умом». Ей бы в Совет министров – Борины слова.
И Яшин ответ – бедные министры!
Тогда еще шутили…
Теперь надо было пережить этот день – день похорон. А потом учиться жить заново.
И он настал, этот день. Не исчезло седьмое число в календаре. Не исчезло. Седьмое октября. «Страшный день календаря».
* * *
После похорон Гаяне увезла родственница, тетка Ануш, к себе в Монино. Единственная родня, сестра умершего отца. Странная, «полусумасшедшая», как говорил Борис. С редкими просветлениями сознания. Хотя какая разница. У них Гаяне оставаться отказалась.
Через два дня после похорон Борис вышел на работу. И это было выходом – для всех. И для него – в первую очередь.
А Юра приехал через пять дней. Страшный, заросший, черный. Сходил на кладбище и пил на кухне – один. Елена пыталась его накормить – он молчал и ни к чему не прикасался.
Через три дня стал собираться. Елена полезла по шкафам – вытаскивала какие-то банки из запасов: тушенку, шпроты, сгущенное молоко. Положила Юре в рюкзак. Он кивнул:
– Спасибо! – И ушел.
Ольга съездила в Монино к Гаяне. Не застала – тетка сказала, что «Гаяне все гуляет».
– В каком смысле? – не поняла Ольга.
– А в прямом, – ответила та. – Уходит рано утром – в поле, в лес. Видели ее на станции. Просто бродит как тень. Один раз пришла без обуви – говорит, потеряла. А на дворе холод, дождь. Я ее спиртом растерла и стакан влила внутрь. Не заболела. А говорила, что надеялась. У нее легкие слабые, а тут – ничего. Странно даже.
Ольга оставила денег и, выпив чаю, засобиралась на станцию.
Видела, как Ануш ловко смахнула деньги в карман передника.
* * *
В квартире было тихо – ходили на цыпочках, говорили шепотом. Ирка уехала в Ленинград к подружке – вот и славно, всем легче.
Никоша рисовал и почти не выходил из комнаты. Обошлись, слава богу, одним приступом.
Борис Васильевич молча съедал ужин и уходил в кабинет. Там же и ночевал – на диване. Елена заходила перед сном и желала ему спокойной ночи. Он поднимал глаза от книги или рукописи и вежливо отвечал: «И тебе также».
Елена клала на стол снотворное. Однажды он сказал:
– Бесполезно. Все равно не берет.
Она развела руками:
– Что же делать, Боря?
– Я бы тебе сказал, Леночка, да боюсь расстроить.
Теперь не спала она – по нескольку раз ночью вставала и заглядывала в кабинет.
Облегченно вздыхала – дышит. И тихо выходила из комнаты.
Ольга спросила:
– А что будем делать с девочкой?
Елена поняла не сразу. А когда поняла, поперхнулась чаем.
– Надо ее забирать, – тихо, но решительно сказала Ольга.
Елена молчала.
– Она же наша, мам. Родная. И к тому же – в чем ее вина?
* * *
Странно – про девочку все забыли. В необъятном своем горе, ужасе, отчаянии.
Никто ни разу про нее и не вспомнил.
А ведь она была. Хотели они этого или нет.
Машки не было, а она была. И никуда от этого не спрятаться.
И опять – Эля, Эля. Все сделала, все оформила – в немыслимо короткие сроки. И даже поехала с ними за девочкой. За рулем, разумеется.
Девочку развернула там же, в больнице, и устроила скандал – у малышки были страшные опрелости, залитые гноем глазки, и явно начиналась пупочная грыжа – «наоранная», как тихо шепнула нянечка. Извиняться пришел главный врач. Ему-то Эля и пообещала «красивую жизнь». И все поверили моментально.
Девочка была точной копией Машки. Словно ту заменили и предложили прожить новую жизнь, с нуля. Те же брови – темные, не по-младенчески густые и длинные. Тот же нос – короткий и прямой. Даже ямочка на щеке та же – одна, непарная, слева. Тот же большой, четко очерченный рот – яркий, темный, с чуть выступающей верхней губой.
Приехали домой. Девочка спала на кухонном столе. Все сидели вокруг и молчали.
Малышка закряхтела. Все подскочили и бросились хлопотать.
– Машка, голодная, жрать хочешь? – спросила Эля.
Елена и Ольга посмотрели друг на друга.
Машка. Ну, значит, так тому и быть. Спорить с Элей бесполезно. Да и надо ли?
Это действительно была Машка. Без вариантов.
* * *
Борис Васильевич зашел в спальню, ставшую теперь детской, спустя неделю. Внимательно посмотрел на девочку и вышел.
Елена стояла замерев. Дыхание перехватило. Ольга погладила ее по руке.
– Привыкнет, мам. Никуда не денется.
– Не денется, – согласилась Елена.
– Потому что деваться некуда.
Узнали, что Гаяне в Москве, у себя. Поехали вдвоем – Елена и Ольга.
Елизавета Семеновна была в сердечном санатории – вызвать на похороны внучки ее не решились.
Гаяне сидела в комнате и смотрела в телевизор, работающий без звука.
Ольга достала термос с бульоном. Гаяне выпила бульон и сказала:
– Спасибо. Вкусно.
Ольга поменяла постель и пошла в ванную постирать мелкое белье – ночнушку, лифчик, трусы.
Елена повела Гаяне в душ. Та молча разделась.
Кожа да кости, вздрогнула Елена, увидев голую Гаяне.
Тело, словно старушечье, сморщилось и потемнело.
Потом пили чай.
– Гаечка! – тихо попросила Елена. – Поедем к нам, умоляю! Тебе будет легче, поверь! На людях, все вместе! Девочка такая чудная! Вылитая Машка.
Гаяне подняла на Елену глаза.
– Вылитая, говоришь? – она усмехнулась. – Может быть. Только это – не Машка. Машки больше нет. И уже никогда не будет. Нету Машки.
– Есть, – твердо сказала Ольга. – Есть и будет.
Гаяне покачала головой.
* * *
Летом перед последним курсом Боря Луконин отправился отдохнуть в Баку. Там, на апшеронском побережье, в Бильгя, у подруги детства его матери, Софьи Ильиничны, была роскошная дача. Впрочем, молодому и веселому Боре комфорт и роскошь были безразличны. Так же, как и его закадычному другу Яше, которого Боря, разумеется, позвал с собой.
Муж Софьи Ильиничны, тучный и одышливый молчун Владлен Степанович, служил большой шишкой в министерстве. В Доме правительства у него был большой и просторный кабинет. И служебная машина с водителем, и спецпайки из распределителя, и пресловутая дача – с довольно облезлыми павлинами, орущими безумными голосами, которых передразнивали приезжие, молодые московские балбесы, и прислуга – тихая, словно бессловесная, армянка Наирик, творящая на душной кухне истинные чудеса.
И городская квартира находилась в самом центре, на Торговой улице – огромная, светлая, с высоченными потолками. Сверкали хрустальные люстры на бронзовых основаниях, пах мастикой паркетный пол, матово блестела полированная добротная мебель – все из другой жизни.
С поезда приехали именно туда, в квартиру на Торговой.
Стол накрыли в столовой – хрусткая белоснежная скатерть, серебряные тяжелые столовые приборы, фарфоровая супница с дымящимся бараньим супом. Огромные помидоры – розовые, сахарные на изломе, малиновый арбуз, сладкий до невероятности. И – чурек. Иначе говоря, белая лепешка. Мягчайшая и свежайшая – десять минут как из печи.
Ребята, подавленные роскошью дома и царским приемом, голодные, с поезда, не особенно избалованные, особенно Борис – они с матерью жили более чем скромно, не позволяли себе лишний кусок. А очень хотелось!
Софья Ильинична, Софка, так называла ее мать Бориса, смеялась и подкладывала в тарелку добавки.
Назавтра была короткая экскурсия по городу на Владленовой «Победе» и спешный отъезд на дачу – стояла невыносимая жара.
Впрочем, «молодежь» (так называл их строгий хозяин) вовсе и не возражала. В конце концов, они приехали на море. А про город все ясно – составить представление времени вполне хватило.
Устроились в беседке – там прохладней и слышен шум прибоя. И еще – звезды на черном, чернильном небе. Низкие, словно можно дотянуться рукой, крупные и яркие – совсем не московские звезды.
Владлен приезжал только по воскресеньям. Софья Ильинична, Софка, почаще: «Как захочется покоя и прохлады!» – тяжело вздыхала она. Впрочем, про прохладу говорить смешно – даже там, на побережье.
Пропадали они на пляже с утра до вечера. Да еще и ночью бегали окунуться, если была особенно душная ночь.
Но бесконечное безделье никак не отменяло философских разговоров – обо всем. О будущей профессии каждого, о любви, о прогрессе, литературе, политике и, безусловно, – о смысле жизни.
Тогда, в пятьдесят пятом, Борис впервые увидел Гаяне – племянницу бессловесной кухарки Наирик. Пятнадцатилетняя девочка пришла к тетке в гости.
Борис обомлел и пропал сразу, минут через десять. Когда разглядел ее лицо, тонкое, словно выточенное искусным мастером, белоснежную, будто прозрачную, кожу, фиалковые глаза, острые стрелы черных ресниц, тонкие прямые брови, уходящие к вискам. И изящные, аристократические руки – княжьи, как говорил он потом.
Какие княжьи, боже мой! Девочка трудилась с двенадцати лет – подручной у швеи. Потому что бедность, страшная бедность – их с братом отец тянул один, давно похоронив жену, совсем молодую и очень красивую.
Девочка сидела на кухне и помогала тетке перебирать рис и виноградные листья.
Московские ретивые кавалеры предложили ей «прошвырнуться» по берегу. Она стала пунцовой и испуганно глянула на тетку. Та побелела от возмущения и тихо, но твердо посоветовала смельчакам заниматься своими делами. Выпроводила их из кухни, качая головой от возмущения, и попыталась объяснить, что здесь так не принято. И точка.
Девочка уехала рано утром, на первом автобусе. А Боря Луконин уже вовсю, с размахом, страдал.
Умная Софка ситуацию поняла почти сразу, правда, не без помощи Яшиных смешков и намеков. Подняла Бориса на смех, сказав, что эта история похожа на главу «Бэла» из «Героя нашего времени». Яшка, предатель, подхватил ее реплику радостно – смеялись вместе, долго и дружно.
А вот объекту насмешек было не до смеха. И сон был потерян, и аппетит – казалось, безвозвратно. Да и на море уже не хотелось. Тошнило от этого моря.
Гаяне он увидел еще один раз, почти мельком. Та привезла тетке какое-то лекарство и записку от отца. Выпила чаю на кухне и засобиралась в город.
Он бросился ее провожать. До автобусной остановки шли молча. Когда на пыльной дороге показался разбитый до неприличия автобус, приближающийся неотвратимо, Борис схватил ее за руку и заговорил быстро и страстно.
Он говорил ей о своей любви, о том, что она – его судьба, и в этом он не сомневается ни минуты. Что впереди у них светлое будущее. Что он вернется за ней, непременно вернется. И увезет ее с собой. Конечно, в Москву! Ну разумеется! Еще он спешил сообщить, что у него прекрасная мама, самая замечательная на свете! И что они наверняка – он в этом совершенно уверен – подружатся!
Она стояла, опустив глаза, и дрожала как осиновый лист. Когда подошел автобус, она осторожно вынула свою руку из его горячей и крепкой ладони, взглянула своими необыкновенными сиреневыми глазами, полными слез, и замотала головой. Все, что он услышал, было слово «нет». Три раза подряд.
Потом она ловко вскочила в автобус и махнула рукой. Оставив его в полном недоумении и… все-таки – счастливым.
Он долго смотрел на дорогу – белую, выжженную палящим без устали солнцем, таким ярким, почти белым, на столбы густой пыли. И, пожав плечами, сказал вслух:
– Нет? Почему нет? А я уверен, что да!
И почему-то очень бодро, даже весело, почти вприпрыжку, пошел к дому.
В замечательном настроении.
* * *
Софка, разумеется, была в курсе, впрочем, всерьез она все это не приняла – только отпускала едкие шуточки и веселилась. Он смущался, краснел и отводил глаза. А однажды прервал ее и сказал:
– Все не так, как вы себе представляете.
Софка вскинула высокие брови.
Он кашлянул и севшим вдруг голосом тихо сказал:
– Я женюсь на ней, Софья Ильинична! Вопрос решенный и обсуждению не подлежит.
Долго молчали. Яша смотрел на шахматную доску и, казалось, ничего не слышал. Потом Софка сказала:
– Бред, Бобка. Вот ведь чистый бред! Какое «женюсь»? Ты хоть понимаешь, что из всего этого может получиться? Точнее – что ничего не может получиться! Вы из разных миров, Боренька. И судьбы у вас разные. Через год или два девочку просватают. За хорошего – дай бог – армянского парня. Лавочника или обувщика. Соберут приданое – какое смогут. И сыграют свадьбу. Шумную, с народными песнями на всю улицу. А через год она начнет рожать чернявых и кудрявых малышей. И дай ей бог! А еще – ходить на базар, ощипывать кур, крутить долму, стирать в цинковом корыте, развешивать во дворе белье. А под ногами, в пыли, будут крутиться глазастые ребятишки. Три, пять, семь – сколько бог даст. А он даст, не сомневайся! Вечером придет муж – злой и усталый, и она, потупив глаза, нальет ему супа и стакан водки. И уложит спать. А с утра начнется та же колготня – базар, обед, стирка, дети. Да, еще цапанется с соседками – не там белье повесила, или еще что-нибудь. Начнется крик и скандал. А вечером о нем никто и не вспомнит – здесь народ пылкий, но отходчивый. Вечером все сядут пить чай – под алычой или тутом, в том же дворе. И так будет всегда, понимаешь? Потому, что это – ЕЕ жизнь. Та, для которой она рождена.
А ты – ты уедешь в Москву. Закончишь институт, получишь хорошую работу. Начнешь встречаться с умной и воспитанной девочкой. Из приличной, надо думать, семьи. Вы будете гулять по набережной. Ходить в театры и в музеи. Пить чай у нее дома. Дальше – предложение и свадьба. Надеюсь, детишки – один или два. Отпуск на курорте, Новый год, Первомай. Круг друзей – ну и посиделки, разумеется. И разговоры – общие разговоры, о том, что всем понятно и близко. И она, твоя жена, тоже понятна тебе и близка. На все вы смотрите одним взглядом. Потому что воспитаны в одной среде. Ты меня понимаешь, Боренька?
Он молчал. Софка нервно раскуривала папиросу.
Потом, спустя пару минут, он поднял на нее глаза и твердо сказал:
– Нет, все не так. Я женюсь на ней и увезу в Москву. И у нас будут дети, вы все правильно сказали, сколько бог даст. И я буду любить ее всегда! Понимаете? Потому что для любви разницы нет – по-разному мы смотрим на мир или одинаково! Мы не в Америке, где все делятся на богатых и бедных. И не в Индии, где существуют различные касты.
Софка прищурила глаза и усмехнулась:
– А ты дурак, Борька. Я и не знала. Ну-ну! Удачи тебе в этом мероприятии! – Она встала, затушила окурок и пошла к себе. По пути оглянулась: – Да, Лизе я, кстати, позвоню. Уж извини! Надо же ее предупредить о том, что ее ожидает!
Он пожал плечом и развел руками – дескать, ваше право.
Уезжали через пару дней. Софка, словно и не было того разговора, трепала его по щеке, посмеивалась над неуклюжим Яшей и покрикивала на шофера, чтобы он хорошо уложил под вагонные лавки коробки и мешки с южными гостинцами – фруктами, орехами, дынями и вином. Вот порадуется Лиза! И получит удовольствие!
* * *
С Яшей ничего не обсуждали. Не принято как-то было. Только уже при подъезде к столице Яша, красный как рак, пробормотал:
– Подумай, Борька. Подумай, прежде чем мать огорошить! Ведь Софа права. Умная женщина – никуда не денешься.
Мать открыла дверь и крепко его обняла – конечно, соскучилась. Бросилась на кухню разогревать борщ.
Подробно расспрашивала его про отдых и Софкино житье-бытье.
По матери ничего видно не было – может, Софка решила ей не звонить? Скорее всего.
Жизнь текла своим чередом – последний курс, диплом, тревоги по поводу распределения. Под Новый год предложил матери переклеить обои в комнате. Мать удивилась – и откуда такое рвение? Нет, ремонт будем делать весной, если будем. А потом начинала мечтать – вот закончишь учебу, будет полегче с деньгами. Купим новый шкаф и пошьем гардины! Ох, скорее бы! Две зарплаты – это уже две зарплаты. А больше зарплат – меньше заплат, радостно смеялась она.
И, вздыхая, почему-то грустно добавляла: «Вот и выучила тебя, дурня!»
Однажды спросила:
– А что у тебя с Таней? Давно про нее не слышно.
Он пожал плечами.
– Таня как Таня. На месте. Да, видимся – на лекциях. Ходили как-то в кино – всей группой.
И разговор закрыл. Не о чем было говорить.
Таня Ласкина – тонкая, гибкая, медно-рыжая и зеленоглазая – была предметом его вожделения все четыре курса. Он любил смотреть на ее профиль – нос с изящной горбинкой, высокие скулы и выражение вечного страдания и озабоченности на лице. Такой у нее был образ. Боря бывал в квартире у Тани на Чистых прудах. Огромная профессорская квартира Таниного деда. Бабушка в шелковой юбке до пят, кружевной блузке и очках на золотой цепочке. Прислуга в переднике. Библиотека – такая, что дух захватывало. Обед на белой скатерти, салфетки в серебряных кольцах.
Бульон бабуля называла «консоме». После консоме с малюсенькими пирожками они уходили в Танину комнату и до одури целовались. Потом Таня, красная и мокрая, начинала его гнать.
Он терялся, ничего не понимал и требовал объяснений. Она сидела на широком подоконнике, смотрела в окно и, не поворачиваясь, твердила, чтобы он уходил. И еще – что он ничего не понимает. Он пытался разобраться, но она была тверда как скала.
Обескураженный и злой, он хватал пальто и невежливо громко хлопал дверью.
Жаловался Яшке, что Танька – истеричка и самодурка.
Яшка покорно соглашался и кивал. И еще выводил сентенцию, что все бабы – истерички и самодурки. «Вот поэтому я никогда не женюсь!» – добавлял он уверенно и протирал носовым платком очки.
После Нового года Борис полетел в Баку. Мать, на счастье, гостила у подруги в Кашире. Деньги на билет дал Яшка – верный друг. Точнее – одолжил. «Вернешь, когда сможешь», – тяжело вздохнул он.
Деньги у Яшки, надо сказать, были всегда. Дед, гравер, для любимого внука ничего не жалел, подкидывал часто и не скупясь. А тратить тому было не на что – девиц по ресторациям он не водил, пить не пил, форсить не любил. Иногда только покупал книги в букинистическом – да и то нечасто. И еще монеты и марки – Яшка был страстный и не очень умелый коллекционер. Пока.
* * *
В Баку было холодно и очень ветрено. Моросил противный дождь. Море – серое, металлическое – казалось мрачным, обманчиво-спокойным и неприветливым. Ветер разносил по городу мелкий колючий песок.
Он купил букет гвоздик и отправился на Сарабского, 39. Сначала добирался на автобусе. Дальше пешком, довольно долго. Плутал по одинаковым дворам, тоже долго. Потом вроде с трудом, но двор тот нашел. Дом – точнее строение, узкое, длинное, состоящее из множества разновеликих, кривых, словно наспех прилепленных построек. Улица Сарабского совсем недалеко от центра, но район этот назывался Ямой – Похулдара. Точнее – вонючая яма. А еще точнее – яма с дерьмом.
Жили там в основном бедняки, разнорабочие – публика простая и очень отличная от Софкиных соседей по Торговой.
Он вошел во двор. На балконах сохло белье. В центре двора стоял огромный, кривой, почерневший от дождя стол. Поскрипывали на ветру кособокие и ржавые качели.
Старуха в теплом пальто и огромных кирзовых сапогах сидела на лавочке и дремала, положив голову на скрюченные руки, державшие деревянную клюку.
Он стоял и разглядывал балконы и окна. Одно окно распахнулось, и из него выглянула женщина в черном платке, повязанном по самые брови.
– Кого тебе?
Он назвал.
Она высунулась теперь еще больше, почти по пояс, и крикнула:
– А зачем?
Он растерялся и беспомощно оглянулся. Несколько окон уже были распахнуты, оттуда выглядывали женщины и дети разных возрастов.
Одно окно оставалось закрытым, но он увидел за легкой занавеской тонкий, еле различимый силуэт.
Он узнал ее сразу. Это была она, Гаяне.
Он облегченно вздохнул и улыбнулся – значит, адресом не ошибся.
Потом были долгие переговоры с Арсеном, отцом Гаяне, суровым мужчиной с тяжелым взглядом. Сначала тот хотел его просто выгнать – безо всяких там разговоров. Грозил родней – своими братьями и сватами. Потом, слыша плач дочери из соседней комнатки, смягчился и поставил на стол бутылку водки. Пили молча, не поднимая глаз – смотреть друг на друга не хотелось. Потом он сказал: «Черт с тобой, бери. Только свадьбу сыграем здесь. Без записи я вас не отпущу». И заплакал.
В загсе была очередь на два месяца. Пришлось звонить Софке – хотя очень не хотелось. Софка выслушала его и вздохнула – ох и упертый же ты хлопец! Весь в своего папашу, чтоб ему!
Сравнение с отцом ему не понравилось, но делать нечего – без Софки ему не справиться.
И она помогла. Расписали их через три дня. Свадьбу справляли во дворе. Соседки накрыли стол. Готовили все – грузинка Софико, русская Тоня, армянка Седа, еврейка Рахиль и азербайджанка Лейла.
Гаяне сидела потупившись. Ее тетки плакали, соседки тоже. Только одна соседка, по прозвищу Умная Седа, громко сказала: «Чего ревете? Не на поминках! Ну едет девочка в столицу – и слава богу! Не будет с вами собачиться – уже хорошо. Да и жизнь у нее там будет полегче! Дай-то бог!»
Соседки и родня притихли, и прокатился шепот: «Дай-то бог! Может, и вправду нашла свое счастье?»
А он не мог на нее налюбоваться – просто глаз не отводил. Правда, счастью его мешала предстоящая встреча с матерью. Понимал, что сделал все некрасиво и даже подло по отношению к ней. А потом – отодвинул, отмахнул от себя все муторные мысли. А куда она денется? Свыкнется, смирится. Ведь он привезет жену. Да какую жену!
В поезде он рассказывал Гаяне про Москву. Про широкие проспекты, огромные магазины, музеи и театры. Она слушала его замерев. Только в огромных глазах плавали страх, тоска и тревога. И еще – восторг, радость, нетерпение и ожидание.
Он крепко ее обнимал и обещал, что все у них будет прекрасно! Так прекрасно, что она даже и представить не может! И впереди у них… Господи, сколько всего у них впереди!
Потом жизнь показала – действительно невозможно. И какое счастье, что никому не дано увидеть свое будущее. Кто бы, интересно, мог с такими знаниями не сойти с ума, не свихнуться…
Впрочем, он был искренен. И только это его оправдывало. Только это.
* * *
Мать сидела за столом и, по обыкновению, смолила свой «Беломор». Рядом на столе, на подкладке из старого бархатного «салопа», оставшегося в наследство от давно умершей свекрови, стояла кормилица – печатная машинка. Мать резко отодвинула рукой пачку бумажных листов – готовой уже работы.
Они стояли на пороге комнаты, не решаясь войти.
– Что застыли? – спросила мать. – Робкие какие! – она усмехнулась.
Обиделась, конечно, обиделась. Все вполне понятно. Он увел ее на кухню и встал на колени. Она вытерла слезы и махнула рукой.
– Вставай, дурак. Мне-то что. Я переживу. Я все переживу. А вот ты, Борька… – И еще раз повторила: – Ох, дурак!
Потом ужинали, и мать расспрашивала невестку о семье и о прошлой жизни. Потом постелила им постель и ушла ночевать к соседке. Уходя, усмехнулась:
– Ширму купите. Завтра-то я вернусь, как бы там ни было.
И ширму купили, и какую-то одежду молодой, и плащ, и ботинки.
Борис с матерью уходили на работу, а его молодая жена оставалась дома. Даже в магазин ходить поначалу боялась.
Соседи на кухне принюхивались – пахнет-то как, с ума сойти! И удивлялись, сколько разных душистых трав кладет молодая в казанок с мясом.
А она старалась. Ох, как старалась. И мужу угодить, и свекрови.
Только свекровь ее как будто не замечала – поест, попьет, скажет «спасибо», и к телефону или за книжку. Поняла – не о чем свекрови с ней говорить. Не обиделась – она была не из обидчивых. Мужа своего любила. Вернее, если бы ее об этом спросили, растерялась бы. А что такое любовь?
Да, скучала. Ждала его с работы – не отходила от окна. Ночью прижималась к нему, и ей все в нем было приятно – и запах его тела и волос, и его руки, которые он клал ей на грудь.
Она подходила к зеркалу и повторяла его имя – шепотом и по складам. И это тоже ей было приятно. Свекрови она побаивалась. Хотя понимала, что та – женщина не злая и не вредная. Ни к чему не придирается, замечаний не делает. Всегда – «спасибо» и «было очень вкусно».
И все-таки Гаяне понимала, чувствовала, что пришлась не ко двору. И еще – что чужая. Абсолютно чужая. И что свекровь ее просто терпит. А как иначе? Жена сына. У таких людей все прилично, без скандалов. Все будут молчать и терпеть. Так у них принято.
Конечно, муж ее «выгуливал». Показывал Москву – и сердце у нее замирало от восторга. Ходили в театры и музеи. Изредка – к его друзьям. И вот там ей казалось, что он немного нервничает. Стесняется, что ли? И она молчала – потому что всегда, всегда чувствовала себя там чужой. Правильно говорил ее отец. И еще – лишней.
Впрочем, лишней она чувствовала себя всю жизнь.
* * *
Мать упрекала его:
– Привез девочку, посадил дома, у горшков. А ей надо учиться. Мало ли что?
– Что? – спрашивал он с вызовом.
В душе понимал – мать права. Куда с образованием в восемь классов в столице?
И отправил жену в вечернюю школу. Пусть закончит – а там посмотрим. Видно будет.
Посмотрели. Через год Гаяне родила дочку. Назвали Машей.
Вечерняя школа кончилась, и начались другие хлопоты.
Слава богу, через полтора года дали вторую комнату, освободившуюся после смерти одинокого соседа. Крошечную, семиметровую. Но и это было счастьем. В нее въехала мать – и никакие уговоры не помогли. А они обустроились в прежней, пятнадцатиметровой, с двумя окнами. Роскошно! И никаких ширм!
* * *
Отца он встретил случайно. Бежал на встречу по Чистым прудам, торопился. Взгляд уткнулся в знакомую до боли сутулую спину. Чуть скошенный затылок, крупные руки, шаркающая походка.
Остановился и вздрогнул. Сомнений не было – отец. Смотрел ему вслед и лихорадочно думал – догнать? Окликнуть?
Догнал. Дотронулся до плеча. Отец оглянулся. Оба молчали.
Борис спросил первым:
– Как ты?
Отец пожал плечами:
– По-всякому. Тася умерла, жена моя. Под машину попала. А такая была здоровая… – И отец хлюпнул носом.
Опять замолчали. Он начал рассказывать ему про свою жизнь, торопливо, сильно смущаясь, – женился, родился ребенок, дочка. Работой доволен, зарплатой – не очень.
Сказал, ничего не имея в виду, а отец нахмурился, насторожился.
Про мать – ни слова. Пожелал успехов и протянул руку.
Он сел на скамейку, пытаясь прийти в себя. Чуть не плакал – расстроился, как сопливый мальчишка. Стыдоба какая!
Душили и стыд, и злоба, и обида. Как он так может, как? Ведь была семья! Была мать – молодая, прекрасная, с черными бровями вразлет, сероглазая и кудрявая. И еще – веселая! Всегда смеялась. Была коляска – низкая, голубая. И в ней лежал он, его сын. Его первенец. Еще Борис помнит, как получили комнату – и сколько было счастья! И как отец стоял на подоконнике и вешал гардины – тяжелые, темно-красные, плюшевые. А мать покрикивала на него и сердилась: «Какой ты косорукий, Вася!»
А потом мать приносила сковородку с жареной картошкой, и садились ужинать. После ужина отец рисовал Боре корабли и самолеты. И засыпал на диване. А сын тормошил его и обижался: «Пап, ну пап!»
И еще – цирк на Цветном. Клоуны и медведи на длинной цепи. И шарики мороженого в овальных вафлях – шоколадного и ванильного. И сладкий лимонад. И каучуковый мячик на резинке: стукнешь об асфальт – и он подпрыгивает до неба!
Все кончилось в один день. Отец молча собирал чемодан, а мать курила у окна. Когда он открыл дверь, чтобы уйти, мать не обернулась. А Борька заревел, тринадцатилетний балбес, и закричал: «Папа! Не уходи!» Отец дернулся и хлопнул дверью.
Потом Борис узнал, что отец ушел к другой женщине. Ее звали Тасей. Она работала с отцом в управлении делопроизводителем – так странно называлась ее должность. Любопытство разбирало – он стоял в подъезде напротив и караулил отца с этой Тасей. Увидел – полноватая, простоватая, в нелепом голубом пальто, с высокой «башней» на голове. Отец держал ее под руку, и они оба смеялись.
Странно, подумал он, раньше отец никогда не смеялся. Во всяком случае – Боря не помнил. Смешливой была мать. А отец – отец всегда раздражался и одергивал ее: «Лиза! Ну и что тут смешного?» Видно, везло ему на смешливых.
К ним отец не приходил. Никогда. Иногда звонил ему – поздравить с днем рождения или с октябрьскими праздниками. Алименты мать получала по почте.
Однажды сказала:
– А у отца твоего родилась дочка. Не хочешь поздравить?
Он буркнул:
– Да пошли они все!
Мать усмехнулась:
– Ну и правильно! Ну их к чертям!
Тогда он захотел поменять фамилию. Мать отговорила:
– С фамилией Луконин жить проще. А с моей – хлопот не оберешься! Видишь, даже я не меняю. А мне с его фамилией ходить… не очень приятно, прямо скажем.
Он тогда не понял – почему не оберешься хлопот? Отличная фамилия – Розенцвет.
Розовый цветок. Хотя какой он цветок? Тем более – розовый.
Он помнил, как мать ждала с фронта отцовских писем. Так ждала! Письма были редки – да слава богу, что доходили до уральской глуши, в деревню Вязкое, куда они попали в эвакуацию. Мать работала в сельсовете – и бухгалтером, и счетоводом, и помощником председателя – старика Лукьяна, хамоватого пьяницы, резкого на язык, но честного и справедливого. Мать он называл Лизаветой и очень ценил и уважал.
– Кто забидит – мне скажи, – требовал он, – лопатой пристукну.
Никто не обижал – некому. Одни старухи, дети и эвакуированные.
В сорок четвертом вернулись в Москву. Он смотрел в окно вагона и радостно поскуливал, как щенок, – скоро Москва. Столица. Его родина. Там есть комната. Теплая, с нормальной кроватью – так рассказывала мать. А не с лежанкой на печке, из вонючих тюфяков и старых одеял. Там остался его грузовик – тот, что подарил ему перед войной отец. И плюшевый медведь Степка. И еще – скоро придет отец! Живой и невредимый! С фронта. И заживут они… Как у Христа за пазухой, как говорила бабка Дуня, хозяйка избы и потемневшей печки. Та, что терпела их почти три года.
Отец вернулся – почему-то загорелый, немногословный и чужой.
Боря даже побаивался его. Отец много ел и подолгу пил чай с сахаром вприкуску.
Однажды ночью Боря проснулся от громкого, яростного материнского шепота, переходящего в сиплый, приглушенный крик. Мать говорила про какие-то письма, про полевую жену, обзывала отца негодяем и гнала из дому.
Отец отвечал глухо, ничего не разобрать. Услышал только: «Не гони, там уже ничего нет. Было, и прошло. Война».
Они долго не разговаривали. Вернее, не разговаривала с отцом мать. Потом как-то все наладилось и, вероятно, забылось. Отец подарил маме часы на тонком ремешке и свозил их на море, в Крым.
У матери постепенно стала расправляться жесткая поперечная складка на переносице – появлявшаяся, когда мать сердилась или у нее болела голова. Правда, смеялась она теперь гораздо реже.
Весной отец побелил потолок и выкрасил белой краской оконные рамы. К осени собирались купить новый шифоньер и кровать для него, Бориса. Мечтали съездить под Одессу, к отцовской родне. В село со странным названием Пирожное.
А в августе отец ушел. К той самой пухлявой Тасе. Делопроизводителю.
Как потом мрачно шутила мать – дело она свое произвела, нечего сказать. Умело и четко. В смысле – по-быстрому увела отца. Как бычка из стойла.
* * *
Матери про ту встречу на Чистых прудах он ничего не сказал. Может, зря? Может быть, ее бы утешило, что отец вдовец и совсем не выглядит счастливым?
Хотя вряд ли. Мать никогда не радовалась чужому горю. И его бы начала жалеть. С нее станется. В общем, правильно. Чего ей душу бередить? Она вся в Машке, во внучке. Да и слава богу! Только радоваться жизни начала. Даже невестку свою молчаливую вроде как приняла. В смысле – сердцем. Теплее к ней стала, заботливей. Тревожится все: «А ты поела? А как спала?»
Мать приняла, а он… Даже думать боялся – так было страшно. Думать о том, что…
Что не все в порядке у них. Не все. Нет, внешне все так же, без перемен. Жена послушна и доверчива. Смотрит на него по-прежнему – глаза распахнуты, всегда кивает и соглашается.
А вот он… У него… Как-то все не так, что ли. И домой не рвется, и по ней не скучает. Тяготиться как-то стал. Заботой ее, ласками, жаркими и неумелыми. И стыдно от этого всего так… Что жить не хочется. Себе ненавистен. А поделать с собой ничего не может. Ночью отворачивается – устал. Уходя на службу, рассеянно чмокает – в лоб или в щеку.
И еще одна мысль в голове – стучит в мозгу, как дятел по деревянному стволу: «Что я наделал, господи! Что я наделал!»
А в деревянной кроватке гулит Машка. Дочка. Вот что он наделал!
* * *
Еще отметил – стал приглядываться к женщинам. Казалось бы – нормально. Какой молодой и здоровый мужик не обращает внимание на женский пол! Правильно, любой. Только внимание обращают все по-разному. Кто-то отмечает стройные женские ноги и красивую прическу, а кто-то… Кто-то мысленно раздевает эту женщину и представляет ее… Ну, все понятно – как и что он себе представляет.
Вот здесь был тот самый случай. И было от этого стыдно, плохо и муторно. Так стыдно и так муторно, что Борис опротивел сам себе. Опротивел до ненависти.
Хорошо, что мать находилась в другой комнате – вот она бы углядела ситуацию сразу, от нее не скроешь – даже потайных мыслей.
А Гаяне… Казалось, она ни о чем таком и не задумывается. Хлопочет с дочкой и по хозяйству – когда ей задумываться?
А может, только казалось?
Да и мать стала смотреть на него с тревогой. Материнское сердце не обманешь.
Однажды поймала его за руку на кухне и прошипела:
– Выбрось блажь свою из головы! Девочку эту ты привез почти насильно. Вырвал ее из привычной жизни. Увез от родных. И теперь за нее отвечаешь! У вас дочь! Или скучно стало, наигрался? Кровь поганая луконинская заиграла?
Мать сверкала глазами и крепко держала его за руку.
Он руку выдернул:
– Мам, ты о чем? Устал просто. Машка кричит по ночам. Не высыпаюсь. Да и две операции были сложные, срочные. Понимать надо!
Мать бросила вслед:
– Смотри, Борька! Обидеть их я тебе не дам!
* * *
В больнице, старой, огромной Первой градской, он довольно скоро был допущен в операционную. И даже ассистировал асам. Однажды повезло – ассистировал самому Гоголеву. Тот остался Борисом доволен и даже удостоил короткой суховатой похвалы. А попасть к нему в ученики, тем паче – в любимчики, было совсем непросто.
Профессор Гоголев в урологии был царь и бог. И с этим не спорили даже его враги. А их было предостаточно – Гоголев отличался жутким характером.
Нетерпимый к любой халтуре или небрежности, на коллег он кричал при пациентах и младшем персонале. Понимал, разумеется, что это неправильно, но, видя любую несправедливость, сдерживаться не мог. Или не хотел.
К тому же заслуги Гоголева были неоспоримы – блестящий хирург, профессор, автор статей и монографий, да еще и фронтовик. Отчаянный храбрец и правдолюбец.
Злопыхатели посмеивались (разумеется, за глаза) – чего бояться Гоголю? Аденому простаты еще никто не отменял, и страдали урологическими недугами партийные боссы еще как! Было тому и объяснение – тогда еще, кстати, не вполне научное: чиновничье старье вечно боялось интрижек «сбоку» – кресло, власть, блага и подати куда дороже! А простата требовала «ухода» – регулярной и активной половой жизни. Верные подруги, жены, пациентов давно не интересовали, а вот юные прелестницы… Те были недоступны.
Профессор Гоголев пользовал эту публику без удовольствия, понимая: если что серьезное, рассчитывать на них можно вряд ли. Тут же попрячутся по норам – трусливы как зайцы. А по мелочам помогут, не сомневайтесь. Нужный звонок, указание, просьба. Да и потом – поди откажи! Вот тогда точно хлопот не оберешься.
И они, эти серолицые, обрюзгшие, с затравленными мертвячьими глазами и тихими, но твердыми голосами дядьки терпели неприветливость и даже грубость профессора, послушно кивая и суля свою помощь – непременно и во всем! Только обратитесь!
Правда, однажды и этот столп закачался – завел профессор на старости лет интрижку в отделении. Даже не интрижку – вполне себе роман. Героиня романа – молоденькая медсестричка Наденька Арбузова. Хорошенькая, как ангел. Тоненькая, беленькая, глазки распахнутые, удивленные.
И на пятиминутке краснел Гоголев, как подросток, и боялся на Наденьку поднять глаза.
А Наденька – девица скромная, тихая. Чуть что – краской заливается, как все белокожие блондинки, до свекольного цвета. И из семьи нищей: мама – нянечка в больнице, папаша пропал без вести. А еще двое братишек-хулиганов. Мать от горя и нищеты попивала. И замуж Наденьку гнала – твердила: найди богатого! Пусть старого, но богатого! Чтоб не маяться, как она, мать родная. «Смотри на меня и запоминай!» – твердила мать.
Наденька оказалась послушной дочерью. И быстренько профессора обработала. На кожаном диванчике в профессорском кабинете. А через пару месяцев предъявила справку о беременности. Деваться некуда – влип Гоголев по самые уши.
Наденька не поднимала на него свои небесные очи. Только, заливаясь пунцовой краской, тихо повторяла, что аборт она делать не станет – ни за что на свете. Жизнь свою молодую корежить не даст – тоже ни за что на свете. И обмануть себя не позволит. Не такая она дура.
– Заделали ребеночка – отвечайте! – тихо, как заведенная, повторяла она.
И в тот же день наведалась Наденькина мамаша – страшная тетка с отекшим лицом и гнилыми зубами.
Тетка сипела, что нищету обидеть каждый может. А сироту – тем более. Но! Есть на это советское государство и родная коммунистическая партия. И еще справка – что отец Наденьки фронтовик. Даром, что служил папаня в штрафбате. Служил же! Кровь проливал.
Гоголев смотрел на страшную тетку с ужасом и впервые почувствовал дикий, почти животный страх. Так страшно не было в военном госпитале на передовой и в санитарном поезде под бомбежкой «мессершмиттов», так страшно не было даже тогда, когда подвез его черный воронок к известному особняку на тихой зеленой улице, почти черному, светящемуся, как подбитым глазом, одним окном. Тогда он понял, кто его пациент. Понял моментально и не ошибся.
В тот раз обошлось. Ночью он даже вспомнил слова молитвы, которые шептала его старенькая деревенская бабка.
А после визита Наденькиной мамаши даже появились мысли о самоубийстве. Такой позор и такой кошмар!
Гоголев был женат на своей однокласснице и первой любви. Ниночка Скворцова пошла за ним в медицинский – не по зову сердца, а только чтобы быть рядом. Впрочем, наверное, это и был зов сердца. Ждала его с фронта. Слава богу, дождалась. Перед самой войной родилась дочка Леночка, по-домашнему Елка.
И все было хорошо! Даже к характеру мужа, ох какому нелегкому, Нина притерпелась. Говорила – знаю, за что терплю.
Получили большую квартиру на Гоголевском, смеялись: Гоголевы на Гоголевском. Муж работал, Нина вела хозяйство – замечательно, надо сказать, и очень рачительно. Он не переставал удивляться – избалованная девочка из «художественной», почти богемной, семьи. Теща Гоголева, беззаботная мадам Скворцова, была известной московской театральной художницей. Сразу после свадьбы объявила смущенному зятю, что обращаться к ней по отчеству не стоит – все зовут ее Татка. Он, краснея как рак, тихо пролепетал: «Попробую». С тестем, довольно известным скульптором, было еще проще – все, включая его многочисленных учеников, называли его Ефремыч – хотя это было вовсе не отчество, а имя. Мужик он был простодушный и веселый.
Оба, и Татка и Ефремыч, погибли при бомбежке – в бомбоубежище они, разумеется, не спускались – было просто лень.
Дочка Леночка росла умненькой и послушной.
И ничего не предвещало беды.
Нина узнала обо всем сразу – нашлись доброхоты. Села напротив мужа и сказала – тихо и твердо:
– Сережа! Не ломай себе жизнь! Они так просто не успокоятся. Доведут тебя до могилы. А до этого потеряешь отделение. И позор на всю Москву.
– Я не хочу, – тихо, не поднимая глаз, сказал он.
– Давай не будем про «хочу» и «не хочу», – усмехнулась жена. – Вот и плати теперь за свои «хотелки». А я в этом кошмаре и унижении жить не стану. Наденька твоя уже к нам приходила. Слезы крокодильи лила. Сначала лила, а потом грозилась – и тебе, и нам с Ленкой.
Нина с Леной уехали в Елец, к родне. Собрались спешно и уехали – одним днем. Гоголев пришел с работы домой, а там пусто – ни одежды, ни Елкиных игрушек и книг. Больше не взяли ничего – даже из посуды и постельного белья.
Нина устроилась в поликлинику и получила комнату. А потом в комнате осталась повзрослевшая Лена, а Нина перебралась в дом тетки – ухаживать за ней и ее огородом.
Лена заканчивала школу и мечтала о медицинском. И еще – о Москве, которую хорошо помнила. И Красную площадь – яркую, пеструю, наряженную и украшенную к Первомаю. И широкие плечи отца, на которых она сидела и махала красным флажком. И мороженое в вафельном стаканчике с шоколадной шапочкой, и вареную колбасу под названием «Докторская»: «Это для нас, да, пап? Для докторов?» И спектакль «Синяя птица» – чудной, странный, волнующий, просто завораживающий – своими чудесами и декорациями, который она не очень поняла: почему Сахар – живой? И Хлеб? И даже папа не мог доходчиво объяснить.
И их огромную квартиру, бывшую квартиру. Куда приходил полотер Костик, и после его ухода полы блестели, словно ледяные, и, словно ледяные, скользили, и еще очень вкусно пахли мастикой.
И гости – на Новый год и прочие праздники. Много гостей, целая толпа нарядных и веселых людей. И запах пирогов с капустой. И звуки танго, которое танцевали прекрасные женщины и восхитительные мужчины.
А дальше был спешный отъезд в Елец. И она спросила у матери: почему?
Мать ответила:
– Так надо. У папы скоро появится другой ребенок.
Все это было страшно и непонятно, и она закричала:
– Какой «другой»? У папы есть я!
– И ты есть, – вздохнула мать. И попросила: – Не рви мне душу, Елка. Силенок наберусь – объясню.
Отец в Елец приезжал дважды. Мать хватала с вешалки жакет и убегала на улицу. Лена сидела за столом и делала уроки. На вопросы отца отвечала односложно – да, нет.
Он сидел недолго – прием оставлял желать лучшего.
Однажды попытался рассказать Лене про свою жизнь. Она перебила – мне это неинтересно.
Больше отец не приезжал. Она знала, что у него растет сын Миша. Который живет в их квартире. Наверно, в ее комнате с видом на Гоголевский бульвар. И теперь его, Мишу, отец держит на плечах на Первомай и с ним ходит на «Синюю птицу».
Мать удивлялась:
– Даже чаю не предложила? Ну и стерва ты, Елка. – И почему-то улыбалась и трепала дочь по щеке.
В десятом классе решили, что поступать Елена поедет в Ярославль. Там прекрасный медицинский. И неплохое общежитие.
А на майские в десятом классе Елена поехала с экскурсией в Москву.
И поняла, что поступать она будет в столице.
Это было так ясно, что обсуждению не подлежало.
Да мать не особенно и спорила – решила так решила. Твоя жизнь.
* * *
Гоголев пил. Сначала дома, вечером, понемногу. Пару рюмок «поднесенного» коньяка или водки. Иногда позволял себе на работе, правда, после операций. Но и это было недопустимо. Потом срывался в запои – редкие, но крепкие.
Недоброжелатели и завистники ухмылялись – слетит Гоголь, слетит! Как пить дать! И не помогут ему его пациенты!
Пошли анонимки, доносы. Вызывал на ковер главный. Песочил, как мальчишку. Гоголев молчал, уставившись в красный с зелеными разводами ковер.
Дома Наденька кричала и грозилась милицией. Однажды он замахнулся на нее – она вздрогнула и замерла с открытым ртом. Испугалась, подумал он. Ничуть. Просто опешила. А потом развопилась еще пуще. Пошли оскорбления – и старый пень он, трухлявый и жалкий. И пьянь беспролазная, и инвалид «по мужской части».
Предложил развестись и разменять квартиру. Наденька сунула ему под нос жирную фигу.
– Подожду, пока ты сдохнешь!
Сын Миша рассмеялся и показал ему язык.
Той же ночью профессор Гоголев выполнил Наденькино пожелание. Повесился в ванной комнате.
* * *
Гроб выставили в больнице, в огромном актовом зале. Начальство распорядилось – все по высшему разряду. И панихида, и похороны.
Главврач все усердно исполнял, чувствуя при этом огромное облегчение – с уходом Гоголева будет только спокойнее. Ни скандалов, ни писем в вышестоящие организации по поводу ведения лечебного процесса и отсутствия препаратов. Не будет склок недовольных резкостью профессора сотрудников. И, наконец, не будет его жены! Ее истерик и жалоб на мужа – в устном и письменном виде.
На похороны приехали Нина и Елена. Вначале, никем не опознанные, они тихо стояли у стенки, и Нина плакала.
Елена во все глаза смотрела на худую, вспыхивающую красными злыми пятнами женщину в черном шелковом платье, с высоким начесом травленых, безжизненных волос, и думала: Вот на эту мымру он нас променял! Злобную, нервную…»
К ней и к матери стали подходить люди, коллеги отца. Отцовская жена смотрела на них с нескрываемой ненавистью и требовала закрыть панихиду. Речи быстро свернули – от греха подальше. Боялись скандала.
На кладбище ни Елена, ни мать не поехали. «Попрощались – и довольно», – сказала мать.
И правильно – долг отдали. Елена не плакала – слез почему-то не было.
Ненависти к отцу тоже уже не было – в гробу лежал сморщенный и какой-то мелкий старик. Да, так и было – мелкий и жалкий старик, а не ее любимый и сильный папа.
Ненависти не было, а вот обида была. Точнее – оставалась. Никуда не делась. И еще – недоумение. И немного – презрение. Зачем и ради чего человек так искорежил свою жизнь?
И еще – ради кого?
* * *
Елена легко поступила в институт – сдала все на «отлично». В приемной комиссии перешептывались: дочка Гоголева? Ну да, похоже. А когда задали этот вопрос напрямую, вскипела:
– А что, есть разница?
Задавший вопрос стушевался и на дерзость не ответил.
Тридцатого августа Елене выделили койку в общежитии. Кровать у окна, тумбочка, вешалка.
Еще три койки. Какие будут соседки? Интересно и страшновато – уживемся ли?
* * *
Елену Борис увидел на похоронах Гоголева. Увидел и понял – его женщина. Господи, какая глупость! А жена?
Его жена была теперь совсем чужой, непонятной женщиной. Он никогда не знал, что у нее в голове. Ее покорность раздражала, а не умиляла, как прежде.
И еще понимал – никуда не деться. Мать права – за все надо платить. За торопливость и необдуманность своих поступков – тем паче.
Стыдился этих мыслей – ах, если бы уехала! Навсегда. Все поняла и уехала. Она и уехала в Баку к родне, в сентябре, когда спала жара. Мечтал – а вдруг… Вдруг не вернется! Вернулась. И, по глазам видел, соскучилась.
Нет, он по дочке, конечно, тоже скучал. Но… Понимал, и было опять невыносимо стыдно: не будет их в его жизни – переживет. Точно, переживет. И даже облегченно вздохнет.
Сволочь он, настоящая сволочь. Правильно мать говорит – тухлая луконинская кровь.
Только и это вряд ли оправдание. Вряд ли. Все равно – сволочь. Подонок.
Такой вот Борис вынес себе вердикт. Легче не стало.
Елену с того дня он не забывал – перед глазами стояло ее лицо. Холодноватая среднерусская красота. Серые глаза, светло-русые волосы. От нее исходило какое-то спокойствие, уверенность, что ли. Такая возьмет за руку и развеет все сомнения. Сразу. И станет на душе легко и просторно.
Яшке он сказал:
– Устал я от персидских миниатюр.
Тот, как всегда, сморщил лоб, кхекнул, поправил очки и осторожно спросил:
– Ну и как ты будешь со всем этим разбираться?
Ответа не было. Была одна тоска, мутная, тягучая, словно топкое болото. Засасывала медленно, будто наслаждаясь его терзаниями и муками.
Дома все молчали – Гаяне, мать. Шумела только Машка – приставала с бесконечными вопросами. Гаяне брала ее за руку и уводила к бабушке.
Иногда он оставался у Яшки. Пили коньяк или водку, закусывали шпротами из банки и трепались за жизнь. Впрочем, Яшка, по обыкновению, был немногословен.
Женитьба в его планы не входит, говорил, вообще. Объяснял, что он – убежденный холостяк. Удивительно! И это при том, что Яшкина семья была образцом семейного благополучия.
У Яшки была своя теория – жена обязательно должна быть красавицей. По-другому никак. А красавица-жена ему не грозит – при его-то внешности и комплекции. Яшка был типичным тюфяком – шлемазл, как называл его отец. Полноватый, неуклюжий губошлеп с отвратительным зрением – бифокальные очки тоже не красят. А вот его «драгоценного» внимания удостаивались только самые признанные красавицы. Борис называл его главным теоретиком: романы Яшка не заводил. Вернее – с ним романы не заводили.
Девушки обходили его вниманием, даже самые невзрачные. Ловелас из него никакой. Следовательно – одиночество. Да и слава богу! Насмотрелся он на «счастливые» браки друзей и близких. Увольте!
* * *
Елена училась с упоением. Нравилось все, даже занудные латынь и фармакология. В анатомичке не дрогнул ни один мускул – словно бывала там регулярно. Девчонки да и ребята бледнели, зажимали носы и выскакивали за дверь. Елена, выйдя, деловито достала бутерброд с колбасой и съела его там же, на скамейке у двери анатомички, где даже в коридоре пахло формалином и всем прочим, чем и должно пахнуть в подобном месте.
На каникулы ездила к матери – дома вдыхала аромат печки, куриного супа и пирогов. Ела и спала. И еще – говорили с матерью, говорили. До рассвета. Обо всем. Не касались только темы отца.
Елена видела – боль за столько лет не прошла. Может, только притупилась, стала глуше.
Соседки по комнате были вполне себе нормальными девчонками.
На третьем курсе Лиля, общепризнанная королева лечфака, вышла замуж за преподавателя, старше, разумеется, на добрый десяток лет. Да нет, гораздо больше. Лиля переехала в отдельную квартиру и через полгода уже медленно ходила, поддерживая рукой беременный живот. После родов в институт она не вернулась.
Наташа, казачка из кубанской станицы, тоже выскочила замуж – вслед за Лилей. За водителя троллейбуса. На вопрос соседок зачем, Наташа бесхитростно ответила: «А из-за прописки! Не хочу после института в село возвращаться. Нажилась!»
Остались вдвоем с Алией Гафуровой – тихой, словно мышка, зубрилой и отличницей. В субботу Алия жарила беляши. В их комнату рвались соседи – на запах. Приносили сухое вино, и начинался пир. Алия, поставив на стол таз с беляшами, ложилась на кровать и читала учебник.
Не соседка, а подарок! Повезло, что и говорить.
* * *
Борис встретился с Еленой на юбилее друга профессора Гоголева. Академик Солнцев поступок друга осудил, уход из семьи не одобрил, но дружить с ним не переставал – видел, что тот несчастлив. Жалел и настаивал, что ситуацию можно повернуть вспять.
Гоголев отвечал, что он не герой, мужества не хватит. И еще, почти перед самой смертью, попросил друга не оставлять его дочь. «Помоги, чем сможешь», – сказал он тогда. И это был их последний разговор.
Солнцев предлагал Елене помощь – любую. Предложил переехать из общежития к ним, в высотку на Котельнической. Елена отказалась, естественно. Однажды, сильно смущаясь, Солнцев предложил денег. Елена расплакалась и убежала. Он ждал ее у института и просил прощения. Помирились.
Юбилей отмечали в ресторане «Националь».
Елена в сшитой за одну ночь юбке и новой кофточке шла чуть прихрамывая. Невыносимо жали одолженные у соседки лодочки на шпильке – почти на два размера меньше. Просто слезы из глаз. Мысль была одна – скорее бы сбежать, скорее!
Даже есть не могла, а сколько там было всякой вкуснятины!
Бориса она, разумеется, не узнала. Он подошел и пригласил ее на тур вальса.
Она растерялась – какие танцы, подумать страшно! Но женское победило – нащупала под столом ненавистные лодочки и пошла…
После танца она торопливо простилась и заспешила к выходу. Разболелись не только ноги, но и голова. Он бросился за ней на улицу.
На лестнице она потеряла туфлю-мучительницу. Пока спешно, красная от смущения, она натягивала свой «испанский сапожок», он догнал ее и улыбнулся:
– Золушка.
– Да уж! – раздраженно бросила она.
Он все понял. Выскочил на улицу и остановил такси.
Ни к кому в жизни она не испытывала такую благодарность!
Ночью, вытянув измученные ноги, закрыла глаза и счастливо улыбнулась. И поняла, что влюбилась. В первый раз в жизни.
* * *
Он ждал ее возле знакомого здания в переулке Хользунова. Она выбегала – легкая, быстрая, близоруко щурила глаза, отыскивая его в толпе. Увидев, вспыхивала и не могла скрыть счастливую улыбку.
Про то, что женат и у него растет дочь, он сказал ей после их первой ночи, в полупустом общежитии, – все разъехались на каникулы и практику. Сказал и в очередной раз почувствовал себя подонком.
Истерик она не устраивала. Сказала, что ни о чем не жалеет и что это их последняя встреча. И еще попросила его поскорее одеться и уйти прочь.
Так и сказала – прочь.
Он просил прощения и пытался объясниться. Она молча слушала его сбивчивый монолог о том, что женился он по молодости и глупости, что жену давно разлюбил, отношения соседские. Жена – человек прекрасный, но… Чужой абсолютно. Никаких перспектив на дальнейшую жизнь. Никаких.
И что полюбил Елену еще тогда, на похоронах ее отца и его любимого учителя. И вспоминал все время, ежедневно. Твердил, что бывают ошибки, бывают. И надо быть милосердными – понимать и прощать. Потому, что есть во имя чего – во имя любви.
Она молчала. Потом сказала – спокойно, слишком спокойно:
– Невозможно. Категорически невозможно.
И добавила, что никогда она не разрушит чужую семью. Никогда. Потому что все прекрасно помнит: и слезы матери, и свое детское горе, и отъезд в Елец, нищету и неприкаянность – всю разрушенную жизнь.
– Да, все так, как ты говоришь, – проговорил Борис. – Я сам прошел через это. И не мне объяснять про эту боль. Но разве счастье того не стоит? Даже такой высокой платы? Счастье и любовь?
Она покачала головой – нет, не стоит. Потому что чужое горе глубже, чем это самое пресловутое счастье. Счастье измерить можно, а горе без дна.
Борис приходил в Хользунов каждый день. Елена проходила мимо него не останавливаясь, под обе руки с подружками, – держала оборону.
Он смотрел ей вслед и, молча, понурившись, брел к метро.
Гаяне по-прежнему молчала. Мать перестала с ним разговаривать. Когда он был дома, в их комнату не заходила. Свою запирала на ключ изнутри. Открывала только Машке.
Однажды он спросил жену:
– Слушай, а тебя все устраивает?
Она пожала плечами:
– Нет. А что?
– Как что? – Он усмехнулся. – Ничего поменять не хочешь?
– Я – нет, – тихо ответила она. – Это ты хочешь.
– Правильно! – крикнул он. – Я – хочу! Потому что все это – не-вы-но-си-мо!
Она вздохнула:
– Все выносимо. Есть вещи и куда страшнее.
– Да! – опять крикнул он. – Это когда ты ничего поменять не в силах! А когда изменить что-то можно?
– Меняй, – ответила она и вышла на кухню.
В этот же вечер он ушел к Яшке. С вещами.
Через три месяца в суд вместо невестки пришла мать. Бросила ему вслед:
– Дрянь ты, Борька. Какая же ты дрянь!
Ему было все равно. Он схватил «освобожденный» паспорт с печатью о разводе и бросился к Елене.
И ничего больше его не интересовало. Ничего. Только бы она открыла ему дверь!
Открыла.
* * *
На пороге стояла изможденная женщина с гримасой боли на узком иссохшем лице. Елена не узнала ее, совсем.
– Надежда я, – сказала женщина, прислонившись к дверному косяку. – Немудрено, что не узнала, – усмехнулась она. – Надежда я. Жена твоего отца, вспомнила?
Елена кивнула и отступила в комнату. Та вошла, опустилась на стул и проговорила:.
– Слушай внимательно и не перебивай. Говорить тяжело.
Елена кивнула.
– Ухожу я. Совсем скоро уйду. У меня – никого. Мать померла, братья в тюряге. Один вроде помер, точно не знаю. Сын Мишка в Суворовском. Друзья твоего папаши устроили. Не справлялась я с ним. Умру – у него никого, один как перст. Только ты. Сестра. И квартира еще. Папаши твоего, на Гоголевском. Та, где ты родилась. Короче – прописать тебя хочу. Не потому, что благородная, – она опять усмехнулась. – Благородными рождаются. Это не про меня. Просто о Мишке думаю – пацан еще. Да и характер… Волчонок. Отец ведь его не любил – тебя любил. От него отмахивался. Не принял. – Она замолчала и посмотрела в окно. – Да и виновата я перед тобой, что говорить. Вот, может, искуплю. А то – с Богом страшно встречаться. Так страшно, что… А ты за Мишкой присмотри! Не забудешь про него?
Елена покачала головой.
– Верю. Ты врать не станешь, не такая. Завтра паспорт бери и ко мне. Поняла? И не тяни, времени нету. Совсем. – Жена отца тяжело поднялась со стула и пошла к двери. У двери обернулась: – Про гордость забудь. Волю предсмертную исполнить надо, правила такие. И еще запомни – старайся никому плохо не делать. Поняла? Потому что это «плохо» потом к тебе вернется. Ты уж мне поверь! И так вернется, Господи не приведи! Ни одного дня я с твоим отцом не была счастлива. Ни одного. Только мука одна была – и у меня, и у него. А я все наесться мечтала! Так у мамки голодала, что только о еде и думала. В больнице за больными подъедала, и противно не было. А потом наелась. До тошноты. Такие дела.
Когда она вышла из комнаты, Елена заплакала. Какая там радость от внезапно свалившегося богатства! Никакой. Одна боль. Да такая…
* * *
Она поехала в Елец, к маме. Потому что не понимала: что делать? Ситуация с пропиской и въездом в их бывшую квартиру казалась ей странной, непонятной, с душком. И все-таки сомневалась. Сразу ведь не отказалась!
Мать долго молчала, раздумывая о своем. А потом вынесла вердикт – соглашаться, безусловно. Безо всяких терзаний и сомнений. Квартира была получена на их семью. Елена там выросла – или почти выросла.
– Да и воля умирающей, – грустно усмехнулась мать. И добавила со вздохом: – Вот как, Ленка, вышло! Столько поломанных судеб! Бедная баба, даже жаль ее.
Елена удивилась – жаль! Хотя, конечно, жаль. Уходит совсем молодая женщина, которая ни одного дня в своей жизни не была счастлива. И уходит с такими муками! Страшная судьба. И у нее, и у отца. Раньше она была врагом. Вот только сейчас – какой из нее враг! Враг тот, у кого сила.
После поездки домой стало легче. Утром пошла на Гоголевский. Дверь открыла медсестра из поликлиники.
Надежда лежала в спальне. Увидев Елену, обрадовалась – не обманула!
Дошли до ЖЭКа, все, что нужно, написали и подписали. Домой – в соседний дом, всего-то пару шагов – Елена тащила Надежду на себе.
Та все повторяла, что теперь она спокойна, просто камень с души. Елена предложила остаться на ночь – Надежда отказалась. Только попросила еще один укол – чтобы хватило до утра.
И еще селедки – жирной, с зеленым луком и подсолнечным маслом. Да, и еще с горбушкой черного.
– Мечтаю просто! Уж извини, – сказала она.
Елена глянула на часы – все давно закрыто.
– Доживу до утра, – улыбнулась Надежда.
Ровно в девять Елена открыла дверь – своим ключом. На кухне принялась чистить селедку. Вошла в комнату и все поняла – медик.
Не дожила Надежда до утра. И селедки не поела – не успела.
* * *
На похоронах Надежды Елена познакомилась с братом Мишей – хмурым и неразговорчивым подростком в черной шинели и фуражке с красным околышем.
Она погладила его по руке – руку он отдернул. Попрощаться с матерью не пожелал, а в кафе – помянуть – пошел. Ел жадно и много. Елена поняла – недоедает. Дала ему денег. Он взял, не поблагодарив.
– Можно тебя проведывать? – спросила она.
– Ни к чему, – буркнул он и пошел к метро.
Одинокий и несчастный мальчишка. Жалко до слез. Впрочем, всех жалко. Никто и ничего не выиграл, все проиграли.
И еще поняла – просто с парнем не будет. Такое вот наследство – в придачу к квартире. Или – наоборот?
Из общежития долго не съезжала – было как-то не по себе. Подругам ничего не рассказывала, не хотелось досужих разговоров и зависти. Потом, когда собралась, сказала, что будет жить у дальней родни, выдумала какую-то тетку.
Первую ночь на новом месте не спалось. Зажгла везде свет и бродила по комнатам. С рассветом принялась за уборку. Вещи Надежды, пару костюмов отца, Мишины игрушки сложила в отцовский кабинет – пусть распоряжается он.
С Борисом встретились, как обычно, на Кузнецком, и Елена пригласила его в гости.
На пороге квартиры он опешил.
– Ну ты и скрытница, Ленка! – И даже слегка обиделся: – Не поделилась.
Остался на ночь. И больше не ушел.
Через пару дней Яшка привез его вещи – пару рубашек, сменные брюки, китайский плащ – подарок Софки, одеколон «Шипр» и связку книг.
Началась семейная жизнь. Новая семейная жизнь. Ну или почти семейная. В загс они не спешили. Вернее, не спешила Елена.
Расписались через полтора года, когда Елена была беременна Иркой. Их первым ребенком.
* * *
Всю жизнь, всю дальнейшую жизнь она помнила слова Надежды – про то, что каждый платит по счетам.
Оправдывала себя – не хотела уводить его из семьи, ей-богу, и мыслей таких не было! Это была правда. А ведь увела! И это тоже была правда.
А расплаты боялась всю жизнь. Когда поняла все про Ирку, подумала: вот, началось. Пункт первый.
А после рождения Никоши совсем стало плохо. Это был пункт второй.
Может, последний? Хватит?
А потом умерла Машка. И это было уже слишком.
* * *
По воскресеньям Елена гнала мужа в «ту семью». Заранее покупала девочке подарки – игрушки и сладкое. Совала сэкономленную пятерку – положи незаметно, обязательно положи.
Со свекровью познакомилась в роддоме, когда забирали Ирку.
Сухой кивок головы, никаких разговоров. Когда та взглянула на девочку – не по-младенчески хорошенькую, кстати, – Елена поняла: для Елизаветы Семеновны существует одна внучка – Машка. И других ей не надо.
Не обиделась, но осадок остался. И еще – непонимание: при чем тут дети?
Борис с удивлением наблюдал, как его мать, ставшая с возрастом человеком сухим, сдержанным и неласковым, сюсюкает с внучкой. Машка отлично этим пользовалась и крутила бабкой, как хотела.
И еще понял – мать до смерти боится, что Гаяне заберет Машку и уедет в Баку.
Несколько раз попытки были. Но пока она умудрялась ее отговорить.
Научила ее печатать на машинке, и Гаяне оказалась способной ученицей – скоро стала неплохо зарабатывать.
Жили довольно сносно – у каждой своя комната, денег хватало. Машка в сад не ходит – Гаяне работает на дому и ведет хозяйство.
Когда бывший муж приходил к ребенку, они со свекровью из дома уходили – в кино или просто прогуляться.
В окно он видел, как они идут под руку и мать поправляет на Гаяне платок или одергивает жакет.
– Идиллия просто! – усмехался он, вспоминая, как мать приняла Гаяне вначале. Как отказывалась с ней разговаривать, что шептала своим приятельницам по телефону, прикрыв трубку рукой, с каким презрением, недоверчивостью и сарказмом отнеслась к невестке, как крутила пальцем у виска, укоризненно глядя на непутевого и бестолкового сына.
И – нате вам! Впрочем, жалость – главное материнское качество. Сирых и убогих она жалела всегда – глубоко, яростно, от души.
Здесь – точно жалость. Вряд ли любовь. Хотя кто их, женщин, поймет!
И еще ощутил укол ревности. И – обиду. С ним она была по-прежнему суха. Не простила.
* * *
Яшка, смущаясь и лепеча что-то невразумительное, пригласил на свадьбу.
Вот это новость!
Борис рассмеялся:
– И тебя, убежденного холостяка и бурундука, затащили под венец!
Яшка оправдывался:
– Да уж, случилось.
Свадьба была пышной – тут уж постарались Яшкины родители от души. Родни много, знакомых море. Яшка – единственный сын. Да и денег в семье никто не считал – тетя Рива, Яшкина мать, работала маникюршей в «Красном маке» – популярное у московских модниц место.
Отец, Ефим Самойлович, трудился на торговой ниве – директор большого универмага. И ниву эту обрабатывал, надо сказать, успешно.
Свадьбу справляли в «Арагви». У подъезда на улице Горького останавливались «Волги» и «Победы». Из них появлялись объемные мужчины с не менее объемными спутницами. Шелковые платья, меховые горжетки, блеск украшений – все это было в избытке.
Тетя Рива и Ефим Самойлович встречали солидных гостей на улице. Принимали тяжелые картонные коробки с сервизами, вазами, столовыми приборами и постельным бельем. Конверты с деньгами шустрая Рива, оглянувшись по сторонам, прятала в лаковую, с бантом, сумочку.
Яшка, в нелепом костюме и ярком галстуке, жался сбоку, у стенки. Рядом с ним стояла невеста – в белоснежном платье выше колен и с живой белой розой в темных волосах.
Невеста смотрела на все, иронично усмехаясь. Губы у нее были полные, ярко накрашенные, очень красивые.
Впрочем, красивы у молодой были не только губы. Красивой – бесспорно, сомнению не подлежит, критике тоже – она была вся. С головы до ног.
Тоненькая, очень стройная и ладная, кудрявая, с огромными зелеными, как яркий малахит, глазами, изящным, аристократическим носом и темными, вразлет, бровями.
Хороша она была так, что важные гости мужского пола замирали и открывали полные золотых коронок рты.
Одному такому впавшему в ступор наглая молодая велела: «Отомри!»
Кто-то рассмеялся, в том числе и жених. А кто-то растерянно посмотрел на соседа и не понял, как реагировать на подобное хамство.
Среди вторых была, разумеется, и будущая свекровь – тетя Рива. Для молодой – Рива Марковна.
Рива Марковна, подхватив пару подружек, уединилась и принялась сетовать на «идиота Яшку» и новоявленную родственницу.
Подруги горячо ее поддержали.
Мало того, что нахалка, так еще и нищенка! Сирота, принятая сердобольной родней. Правда, и родня эта…
Тетя Рива тяжело вздыхала и утирала скупую слезу.
И родня эта – врагу не пожелаешь. Голь перекатная. Живут в бараке в одной комнатухе, пьют чай с сухарями. Тетка – инвалид, дядька – сапожник и пьяница. Породнились, нечего сказать! Привел сыночек в дом, осчастливил!
– Зато красавица! – пискнула одна из товарок.
Рива Марковна вспыхнула благородным огнем негодования – вот это-то и плохо! Поди знай, что ей в голову придет! Знаем мы этих…
Подружки яростно закивали.
Что правда, то правда. Знаем мы «этих» – красивых и нищих. И вдобавок наглых.
И Риву Марковну все пожалели. Искренне ли – вот в чем вопрос?
Невеста, закурив сигарету, подошла к Елене.
– Как тебе? – спросила она, кивнув подбородком на гостей. – Зоопарк, не иначе! – Она засмеялась.
Елена, опешив от откровения и обращения на «ты», пожала плечами:
– Что поделаешь, люди на свете разные. И потом, не с ними жить, а с Яшкой. А он, Яшка, замечательный! И друг, кстати, тоже! Они с Борисом со школьной скамьи. Всю жизнь неразлейвода!
– Это ладно, про «неразлей», а как мне с этими уживаться? – Невеста кивнула на разгоряченную событиями и хлопотами свекровь и свекра, важно беседующего с такими же тузами.
– У любого мужа есть родственники, – улыбнулась Елена. – Приложение, так сказать. И эти, поверьте, не худшие.
– Сомневаюсь. – Невеста затушила бычок в тарелке. А потом улыбнулась: – Ничего, справимся, опыт имеется! Не съедят! Поперхнутся!
Елена вздрогнула от таких откровений. Что поперхнутся – точно. Да просто подавятся. Елена не сомневалась ни минуты.
Только вот про то, что подавится Яшка, думать не хотелось. А мысли такие были.
Свадьба веселилась, пела и плясала – и сытно ела, и много пила, и шумно плясала.
Всем было весело. Грустили четверо – Елена с Борисом, невеста и, собственно, сам жених. Вот интересно, он-то почему?
Ну и, разумеется, Рива Марковна. Правда, недолго и временами – отвлекаясь на тосты, танцы, разговоры с подружками и распри с официантами.
В целом все прошло нормально, если можно так выразиться. Без эксцессов. Уже хорошо.
Из ресторана вышли за полночь. Сели в скверике, и Елена положила голову на плечо Бориса – устала, да и, конечно, объелась:
– Вкусно ведь, да?
– Да, вкусно, – задумчиво проговорил Борис. – Но тревожно как-то. Неясны мотивы – как жениха, так и невесты. Впрочем, с женихом проще…
Домой пошли пешком. Денег совсем не было – до зарплаты четыре дня. Начали вспоминать, что есть в «закромах родины». Оказалось – совсем неплохо: банка зеленого горошка, банка сардин и банка соленых ельцовских грибов. И еще картошка, зеленый лук и огурцы, тоже с ельцовского огорода. Совсем развеселились – проживем! Да и еще как! Роскошно!
* * *
Яша с Элей в первые же выходные напросились в гости. Именно напросились. Было совсем не до гостей – болела Ирка.
Эля, со свойственным ей напором, объявила, что зайдут на полчасика, просто дух перевести и глотнуть свежего воздуха – иначе кислородное голодание и коллапс.
Долго ходила по квартире – оценивала. Потом вынесла вердикт:
– Вы – балбесы. Такие хоромы, а вида никакого. Уж я бы тут развернулась!
Вот в этом никто не сомневался! Еды особой не было – не до готовки. И тогда Елена впервые увидела ловкость и умение Эли создавать из ничего что-то. Причем это «что-то» было необыкновенным. Например, салат из моркови – что может быть банальней? Тут же, на ходу, Эля придумывала какие-то новшества. В салат добавляла изюм, яблоко, чуть корицы, пару капель лимона, тертый подсохший сыр и тонко нарезанную, почти нашинкованную, ветчину – маленький кусочек, оставшийся с завтрака.
– Хлеб? – коротко бросала она.
Елена с готовностью кивала и доставала полбатона рижского.
Кружочек помидора, сардинка, веточка укропа – и в духовку на двадцать минут.
Эля ловко взбивала белки, и через полчаса на столе появлялись крошечные безе.
Елена восхищалась – за какие-то сорок минут был накрыт роскошный стол.
– А я бы начистила картошки и нарезала селедки, – грустно вздыхала она. – Совсем я без фантазии! Скучная, как… – она обвела глазами комнату. – Как этот торшер!
Эля глянула в угол. Торшер, вернее, то, что от него осталось, выглядел убийственно жалко – мятый, выцветший абажур грязно-серого цвета, гнутая нога, перевязанный изолентой шнур.
– На помойку!
Елена растерялась – торшер она помнила с их «доразводной» счастливой жизни с родителями. Помнила, как покупали его вместе – мать и отец. И как радовались покупке.
Эля, видя ее замешательство, настойчиво повторила:
– На помойку! Без разговоров, раздумий и воспоминаний!
Елена грустно вздохнула и поволокла торшер на лестничную клетку.
Эле и вправду удавалось то, что Елене было абсолютно недоступно. В магазине она сразу находила нужную ткань на юбку или платье – занимало это каких-нибудь пару минут. В хозяйственном умудрялась углядеть приличную кастрюлю, стоявшую во втором ряду на тесной полке. В магазине электроприборов хватала шелковый абажур, висевший там не один месяц. И на Еленино удивленное: «А это еще зачем? Какой-то анахронизм!» – Эля усмехалась – и только. А дома, заставив Бориса приладить этот самый абажур на кухне вместо белого светильника, отдающего казенщиной и скукой, важно кивала и получала искренние слова восхищения от незадачливых и обрадованных хозяев:
– Ну надо же, какая красота! И как стало уютно! И кто бы мог подумать! Чудеса! Нет, ты, Элька, определенно – гений!
Она не спорила. К ее-то красоте и такой вкус! На улице оборачивались не только мужчины, но и женщины.
Эля цокала острыми каблуками по асфальту и, чуть прищурив глаза, смотрела поверх голов.
Хороша она была настолько, что у бордюра шумно притормаживали редкие машины. Не всегда с нелепыми предложениями, чаще всего – просто посмотреть на владелицу этих сногсшибательных ног, потрясающей талии, фантастических волос, ну и так далее.
Элю мужчины совершенно не интересовали – по крайней мере, на повышенное внимание со стороны мужского пола она реагировала абсолютно спокойно. Привыкла – это понятно, и все же…
Их отношения с Яшкой тоже были для Елены загадкой – ровные, спокойные, вполне доброжелательные. Дружеские – скорее так.
Нет, разумеется, Яшке льстило, что рядом с ним гордо несет себя такая равнодушная и неприступная красавица. Безусловно. Он уважал ее за жизненную приспособленность и практичность, почти кошачью. За волшебные способности домашней хозяйки. За умение налаживать контакты – любые, настаивать на своем, спокойно, без крика и истерик. За расчетливость и при этом широту натуры – и такое в ней превосходно уживалось. Что, согласитесь, бывает крайне редко. За прекрасный вкус и просто умение жить.
А Эля… Эля тоже относилась к Яшке терпимо. К нелепому, толстому, неуклюжему, неряшливому Яшке. Ну так, прикрикнет иногда для острастки – но без злобы, с легким раздражением. И добавит: на критику надо реагировать спокойно.
И все же брак этот был странным и очень странным – на Еленин взгляд. Брак без любви.
На чем держатся такие браки? Есть тысяча причин, это понятно, и все же…
И никогда, никогда Елена не видела, как они обнимаются, целуются или просто касаются друг друга – как все люди, которые друг другу приятны. Впрочем, Яшка всегда, даже в детстве, по словам Бориса, был «замечательной флегмой».
Шумную и суетливую свою свекровь Риву Марковну Эля быстро укротила и привела в чувство. В их комнату Рива уже не влетала как пуля, а осторожно три раза постукивала в дверь. Рубашки сыну гладила по-прежнему она, мать. И обеды варила и подавала тоже она. Эля в этих процессах не участвовала.
И Рива молчала! Вот это было смешнее всего! Яшка смеялся – укротить маман не удавалось пока никому! И аплодировал жене.
Эля свекрови не грубила, не скандалила – никогда. А просто поставила на место – раз и навсегда. Рива Марковна оказалась, ко всеобщему удивлению, крайне понятливой.
Только сетовала подружкам по телефону, когда невестки не было дома, и все же – шепотом, что терзают ее тяжелые раздумья. А не продать ли свои бриллианты? Чтобы «этой гадине» ничего не досталось. В смысле – после ее смерти. А смерть ее, похоже, не за горами – с такой-то невесткой!
Эля ситуацию разрешила одним коротким вечерним разговором. Жить вместе невыносимо для всех обитателей квартиры. Несмотря на просторные комнаты. Значит, молодым нужна отдельная квартира. Если они, родители, хотят, чтобы сохранилась молодая семья. Здесь Рива Марковна скорчила такую гримасу, что впору расхохотаться. Впрочем, невестка предпочла этого не заметить. Так что квартиру следует разменять. На две равноценные. И желательно там же, в центре. Рива Марковна от возмущения и обиды ловила ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Но ничего не сказала. Свекор, суровый и понятливый Ефим Самойлович мрачно, с усилием, выдавил: «Подумаем!» И, стукнув – впрочем, негромко – кулаком по столу, удалился в опочивальню. Рива торопливо засеменила за ним.
Яшка стоял у окна спиной к жене. Эля выкурила сигарету и вымыла пепельницу. Погасила на кухне свет и пошла в ванную. Когда она вошла в комнату, ее муж Яша крепко спал. Видимо, ничего его не мучило и не удручало. Он уже почти привык доверять жене. Хотя не «почти». Привык. И это было крайне удобно.
Квартиру разменяли, Эля осталась вполне довольна. Ключи Риве Марковне выданы не были. Прием только по предварительному звонку. Яша с женой не спорил – то ли до фонаря ему все это было, то ли сам устал от своей суетливой мамаши, то ли просто отдал все на откуп жене. Да и силами мериться было бесполезно, это он понимал. Свой новый дом Эля обставила со вкусом, денег не жалела. Подобных квартир в те времена было совсем немного.
В то время все срывали с потолков и стен старинные светильники с бронзой и радостно тащили их на помойки, прихватив еще и бабкины, темного дерева, резные буфеты, кровати с высокими спинками, кушетки с облезлым бархатом или шелком, тяжелые комоды и легкие, почти невесомые, венские стулья, а в доме с еще большей радостью вешали разлапистые металлические конструкции польского производства – растопыренные, нелепые, шаткие, с пластмассовыми разноцветными колпачками, не выдерживающими ярких ламп и начинающими оплавляться и издавать запах жженой пластмассы в первый же вечер. Вслед – если не на помойку, то, к счастью, в комиссионку – за люстрами и канделябрами, пуфиками и козетками отправлялись вазочки, блюда, старые, пожелтевшие скатерти в кружевах, фарфоровые чашечки с чуть стертым рисунком и оттого объявленные негодными, металлические кофейники, тяжелые чугунные сковородки. Все было признано устарелым, немодным и ненужным. Сплошное мещанство!
А Эля моталась в комиссионный, караулила старинные кресла, секретеры из карельской березы, лампы в стиле модерн, где полуобнаженные женские фигуры эротично оплетали бронзовые лилии.
Яша на все это реагировал спокойно – чем бы дитя ни тешилось.
Елена недоумевала – как можно тратить на всю эту чепуху такие деньги? Да что деньги – всю свою жизнь! И еще раз убедилась: они с Элей – люди с разных планет. Это не осуждение, просто констатация факта. А то, что две такие разные женщины, просто несовместимые на первый взгляд, прекрасно общаются, ходят друг к другу в гости и даже ездят вместе отдыхать – это не взаимный интерес, а исторический факт: мужья дружат, и им деваться некуда. И потом – они же не ненавидят друг друга, они весьма терпимы, ну а если интересы не совпадают, так уж что поделаешь!
Елена понимала, что она для Эли продукт скучный, тоскливый, серый. Но, что странно, больше подруг у Эли не было. Ни одной. Ни с одной «комиссионной» дамой по интересам она не сошлась.
Периодически Эля устраивалась на работу. Нужно было так, часа на три-четыре в день, а рабочих дней – ну максимум три в неделю. Деньги ее интересовали мало – на все хватало. Ефим подбрасывал нерадивому сыну сотню-другую в месяц, Рива потихоньку от мужа совала Яшке пару четвертаков в неделю, Яшка махинаторствовал со своими марками и монетами – короче, хватало.
Пару месяцев Эля проработала в кафе на Горького администратором. Еще полгода – завсекцией в художественном салоне. Потом посидела в ювелирном на Арбате на кассе. Отметилась и в институте красоты на Калининском – в регистратуре. Пройдя по этому кругу, еще больше обросла связями и полезными знакомствами – и успокоилась. Больше в присутствие не спешила.
Яшка тоже работал через пень колоду – сидел в каком-то НИИ, название которого Эля выучить так и не сумела. Говорил, что там, на службе, удается и поспать, и почитать, и сплетни послушать. Короче говоря, синекура. Да к этому безделью прилагались еще два раза в месяц выплаты – небольшие, но не лишние – пятого и двадцатого, аванс и получка.
Общество Елены Элю вполне устраивало. Лишнего и дурного не несет, не фальшивит, откровенна в меру, «детями» не грузит. Ничего от нее не хочет и ничего не просит. Елена и корысть – это вообще смешно! Два-три телефонных разговора в неделю – так, ни о чем, дежурные фразы тоже.
Да и Елене было не до подруг – дети, муж, работа. Разобраться бы со всем этим. Ей, неловкой и не очень приспособленной к бытовым трудностям.
Кухню Елена не любила – готовила скучно, однообразно, по надобности и из чувства долга. Чистоту любила, а вот порядка не было – так, чтобы все по стопочкам и на своих местах.
Украшательством дома не занималась: и шторы, и посуда – все из обычного магазина, ее вполне устраивало. Да и Бориса тоже. На быт внимание он не обращал, в еде был неприхотлив.
Из домашних «удовольствий» Елена признавала только глажку. Говорила, что она ее успокаивает. Белье отглаживала так, что жалко было складывать в стопки.
Из мебели ничего не меняли – все осталось как прежде. И добрым словом вспоминали профессора Гоголева, оставившего в наследство кабинет с книжными шкафами до потолка, которые позволяли пополнять библиотеку.
А через четыре года после свадьбы и обустройства квартиры Эля родила мальчика. Мальчика назвали Эдгар. Пошутили:
– Впервые Элю посетило дурновкусие.
Мальчик был красив, как Аполлон. Красив до неприличия. Зачем мужику такие ресницы? А кудри такие зачем? А пухлый, бантиком, рот?
Спустя годы Эля скажет: «Вот в кого он красавец, я понимаю. А в кого такой дурак…»
Это было правдой. Эдгар научился складывать слоги и читать почти в восемь лет. Книг в руки не брал, не рисовал и не лепил. Машинки ломал через полчаса, конструктор самый элементарный собрать не мог. Спортом не увлекался, да и вообще ничем. Главные радости жизни – вкусно поесть, поспать и посмотреть телевизор.
Такой вот получился мальчик.
* * *
Только однажды у Елены с Элей случился откровенный разговор. В августе поехали в Елец к маме. С Иркой, маленьким Эдиком и Олькой в животе. Впрочем, о том, что там находится именно Оля, никто не знал.
В Ельце ходили за грибами. Эля, собиравшая грибы в первый раз в жизни, была в восторге от самого процесса. В корзинку, наряду со съедобными, попадали и поганки. В грибах Эля не разбиралась. Усвоила только, что не надо брать мухоморы. Здесь все ясно, красные в горошек. Странно, самые красивые! А вот другие запомнить не могла.
Елена с матерью веселились, выбрасывая из Элиной корзинки несъедобный и опасный хлам.
Эле даже понравилось такое муторное занятие, как чистка этих самых грибов. С черными «грибными» руками, спутанными от ветра волосами, ненакрашенная, одетая в старые тренировочные штаны и резиновые кеды, она говорила, что абсолютно спокойна и счастлива здесь. Как не была спокойна и счастлива никогда в жизни.
И это было похоже на правду.
Мать пекла пироги с вишней, жарили картошку с грибами и луком, пили парное молоко.
Тот август был холодным и дождливым, но каждое утро в пять часов, уже в предосеннюю темноту, Эля бегала на речку и купалась. После купания выпивала сто граммов коньяку и ложилась спать.
И – надо же – не заболела! При воде в двенадцать градусов!
Как-то вечером, после грибов и коньячка, засиделись допоздна на террасе. Нина Ефремовна, махнув рукой, ушла спать – сидите, полуночницы! Спали и дети.
Сначала болтали ни о чем, так, всякая ерунда. А потом, удивляясь самой себе, Елена задала подруге вопрос – впервые в жизни! По поводу ее брака с Яшкой.
Эля недобро усмехнулась:
– Правду хочешь?
Елена неуверенно пожала плечами.
Элин монолог был спокоен и нетороплив. Она рассказала про то, как умерла ее мать, – об отце она никогда и не слышала. Крепко выпив с подружками, такими же горемычными работницами-путейщицами, она попала под поезд. Всю жизнь проработав «на рельсах», как сама говорила.
Эле было шесть лет. Начали собирать документы в детский дом. Девочку забрали в дом ребенка. А там было голодно, хотя ей не привыкать, с пьющей матерью тоже перебивались с хлеба на воду. Но было еще и страшно. Так страшно, что девочка начала писаться. До утра лежала в мокрых простынях и тихо плакала. Знала – накажут. Утром, после подъема, нянька била «обоссунов» мокрыми ледяными простынями. Еду отнимали старшие дети. Малыши воровали в столовой хлеб и прятали под подушку.
По ночам рассказывали страшные истории, что в детдомах житуха еще хуже, еще страшней. Эля плакала и хотела убежать. Но не успела – объявилась дальняя родственница, какая-то троюродная сестра матери. Она Элю и забрала, «оформила».
Из приюта Эля уходила без сожаления, но со странным предчувствием, что дальнейшая ее жизнь будет не слаще. Так и оказалось. Тетка, потерявшая когда-то малолетнюю дочь, Элю полюбить не смогла. Все вспоминала свою «бедную Женечку» и сравнивала ее с Элей – разумеется, не в пользу последней. Эля вжимала голову в плечи и мечтала исчезнуть или испариться. Туда, куда отправилась неизвестная ей Женечка.
Тетка попрекала ее и куском, и порванной юбкой. Ничего из одежды не покупала – все перешивала из своего старья. Даже трусы и маечки. Обувь Эля снашивала до дыр – в буквальном смысле, когда большой палец прорывает истончившуюся кожу сандалий или отлетает подошва.
Тетка жила в маленьком среднерусском городке с плохой почвой и отвратным климатом. Дожди лили все лето, осень и весну. На огороде, в размякшей и раскисшей глине, ничего не росло. Тетка стояла по щиколотку в рыжей топкой грязи и посылала проклятия господу богу.
Картошкой и свеклой размером с орех она заставляла торговать на базаре маленькую Элю. И странное дело – у хорошенькой и чумазой девочки эту мелочь покупали! Жалели, наверное.
Однажды Эля утаила от тетки гривенник и купила брикетик самого дешевого мороженого. За что была бита мокрым полотенцем.
Тетка тогда работала кассиршей в единственном занюханном, сыром кинотеатрике. Ни разу – ни разу! – она не провела девочку в зал. А дети уборщицы и билетерши пропадали там целыми днями.
Тетку муж бросил сразу после смерти дочери. Ни разу не написал ни письма, ни открытки. А потом явился. Страшный, пропитой, оборванный и вонючий.
Тетка носилась по дому и не знала, как ему угодить. Счастлива была, как невеста перед свадьбой. И все боялась, что он опять уйдет. Крутилась на кухне, накупила обнов – рубах и штанов «законному», накручивала волосы на железные бигуди и поливалась резкими духами.
По ночам Эля слышала их возню, и ее начинало тошнить.
И еще она поняла, что жизнь до была совсем неплохой. Если сравнивать ее с жизнью теперешней.
Та жизнь, голодная, оборванная, нищая, была сахарной по сравнению с той, какая наступила теперь. В тринадцать лет теткин муж, это чудовище, этот грязный и вонючий упырь, ее изнасиловал.
Тетка, замученная работой и вечными поисками денег для удержания мужа, совсем потеряла человеческий облик. За малейшую провинность била ребенка пастушьим кнутом, раздобытым у соседа. Правда, и ей самой доставалось этим же самым кнутом от любимого муженька.
В четырнадцать лет Эля забеременела. Тетка не пытала от кого. Скорее всего, догадывалась и боялась скандала. Отвезла ее к бабке в деревню, и там ребеночка вытравили. Эля помнит только толстую железную спицу и мутный раствор в бутылке.
Три дня она провалялась в избе этой умелицы, похожей на ведьму из детских книжек. Бабка давала ей настойку, пахнувшую куриным пометом, и протирала ее самогоном. Девочка горела огнем.
Через три дня приехала тетка и забрала ее домой. Мужа ее дома не было. Эля поняла, что он испугался и сбежал.
Теперь тетка твердила, что она, Эля, разрушила ее жизнь. И еще было очевидно, что тетка теперь ее боялась. Куском не попрекала, торговать не гнала.
Через полгода Эля попала в компанию местной шпаны. Влюбилась до одури в главаря – Сашку Зотова. Он научил ее пить дешевый портвейн и курить папиросы «Шипка».
Лето проводили на развалинах старого кладбища. Там пили и закусывали тем, что тайком приносили из дома или воровали у местных. Там и любили друг друга – подстелив ветхую Элину кофту на чью-то могильную плиту со стершейся эпитафией.
Когда она стала «ходить» с Зотовым, все попритихли – и молодежь, и старики. Зотова боялись – знали его жестокий и ревнивый нрав. На Элю не смели и взглянуть. Тетка просто захлопнула рот и Элины гулянки до утра и безделье сносила молча.
А потом Сашку забрали в армию. И все облегченно вздохнули. Но к Эле по-прежнему никто не подходил: понимали – Зотов вернется, и всем мало не покажется.
Эля писала Сашке длинные письма. Скучала, ждала – единственного человека на свете, которому она была нужна. Сашка не отвечал – служил на подводной лодке и Элиных писем не читал.
Про то, что лодка не всплыла и не всплывет никогда, Эля услышала ранним утром – кричала Сашкина мать. Истошно, на всю улицу.
Через два дня Эля бросила в сумку два своих платья и старый плащ, не сказала тетке не единого слова, молча взяла из ее заначки пятнадцать рублей и уехала в Москву. О том, что будет делать в столице – без денег, знакомых и теплых вещей (стоял октябрь), – она не задумывалась. Вернее, так: понимала, что хуже будет вряд ли.
Потому что страшнее ее жизни представить трудно.
В Москве она провела неделю на Курском вокзале, обороняясь от многочисленных мужских предложений. От местных, приблудных алкашей, трусливых, вечно оглядывающихся по сторонам командированных – до местных милиционеров, наглых, разъевшихся и привыкших к халявным ласкам.
Однажды подошла немолодая цыганка и предложила ей ночлег: «Жалко тебя, девка, дочка у меня такая, как ты». Выхода не было, и Эля поволоклась за ней. В двух кварталах от вокзала зашли во двор. Спустились в подвал. На полу, без белья, на полосатых матрасах вповалку спали мужчины разных лет.
Цыганка налила Эле горячего супа и отрезала большой кусок колбасы. Когда та поела – жадно, торопясь, – старая карга открыла ей карты:
– Крыша над головой будет, тарелка горячего супа тоже. А вот деньги получишь, когда отработаешь.
– Как? – спросила Эля.
– Дурой прикидываешься? – усмехнулась цыганка.
– Спятила, старая сука? – закричала Эля и швырнула в нее миску из-под щей.
Цыганка увернулась и прошипела:
– А куда ты денешься? Кому ты тут нужна? На вокзал тебе дорога заказана. Продали тебя служивые, обратно не пустят. Или в каталажку хочешь?
– Сдохнешь ты скорее, – бросила Эля и рванулась к двери.
Пробежав пару кварталов, она остановилась и оглянулась. Никто ее не догонял. Свои жалкие тряпки она забыла в страшном притоне.
Еще пара ночей на Казанском, потом на Ленинградском и Ярославском. Когда примелькалась, сбежала на Рижский, а потом на Белорусский. Все, вокзалы кончились. И терпение тоже.
Выхода было два. Первый – вернуться домой, второй – к старой цыганке. Нет, был еще третий – прыгнуть с моста в серую мутную реку или под поезд. Последнее было куда милей.
Ночевала она теперь в подъездах. Хлеб ей давала сердобольная продавщица булочной – тот, что не продался и идет на списание.
В сыроватом и прохладном подъезде на Кировской ее увидела дворничиха Маня-хромая. Приютила. Огромная, переваливающаяся на больных ногах, как старая утка, рябая, усатая, беззубая и страшная, как Элина жизнь.
На деле Маня оказалась человеком добрейшим и безобидным. Делилась с жиличкой последним куском. Эля помогала ей мести двор, собирать мусор, скалывать со ступенек наледь. Помогала и уборщице Верке – длинной, как жердь, и такой же сухой. Тоже одинокой и почти глухой – последствия травмы головы, причиненной пьяницей-мужем.
Маня и Верка были землячками, из одной деревни. Верка жила в подвальной каморке по соседству с дворницкой. Такая вот образовалась компания – три одинокие и несчастные женщины разных лет.
Эля таскала из дворницкой горячую воду для Верки, полоскала старую мешковину, пахнувшую прелью и соломой, отжимала эти тяжеленные вонючие тряпки – жалела Верку, у которой руки были скрючены тяжелейшим полиартритом.
Вечером варили картошку, чистили селедку и открывали чекушку водки. Эле пить не давали: «Малáя еще!» – цыкала Маня.
Пила Маня, Верка только пригубливала. Глотала и морщилась – отрава! А потом добавляла: «Отрава, а душу отпускает!» И удивлялась этому ежедневно.
Маня важно кивала – а то!
После второго глотка Верка начинала вспоминать прежнюю, деревенскую, жизнь и бывшего мужа.
Рассказ был всегда один и тот же – жизнь в деревне была хорошая, сытая. Муж был веселым, кудрявым, играл на баяне. Девки вокруг него хороводом, а он выбрал ее, Верку. «Потому что самая скромная!» – гордо заключала она и оглядывала подруг победным взором.
Маня молчала минут десять, тяжело и недобро вздыхая. А потом начинала орать:
– Жизнь, говоришь, сытая? А как жрали лебеду и от голода пухли? Веселый, говоришь, был? А как с топором за тобой по деревне гонялся, забыла? Али память тебе тогда отшиб, когда об сарай головой шмякал? И когда тя у сарая того подыхать бросил? Всю в кровище?
Верка мотала головой и принималась плакать. Потом обижалась, громко шваркала граненым стаканом и шла к себе. А наутро ничего не помнила – может, и вправду память ей тогда отшибло? Или просто Верка предпочитала скандал замять – кто у них, кроме друг друга, есть на белом свете? Она да Маня. Да еще эта девулька приблудная, Элька. Тоже нахлебалась – господи не приведи!
* * *
С ним она столкнулась у подъезда – с метлой в руках. Закутанная по самые глаза в Манин платок, в калошах и в ватнике.
Увидев ее, он остановился, присвистнул, улыбнулся, закурил и весело осведомился:
– Боремся за звание «Лучший двор района»?
Эля неласково взглянула на него и буркнула:
– Боремся! А вам-то что?
Незнакомец окончательно развеселился:
– Как это «что»? Я, между прочим, здесь живу!
– Ну и живите дальше, – бросила она и пошла прочь.
Вечером в каморку хромой Мани постучали. На пороге стоял давешний незнакомец с тортом в руках:
– А это вам, к чаю!
Маня таращила на него блеклые рыбьи глаза и ничего не понимала. Молча взяла торт и смущенно пробормотала:
– Спасибочки.
Он вежливо поклонился и вышел.
Теперь он караулил Элю во дворе. Однажды она заболела и отлеживалась в дворницкой. Растерянная Маня внесла в комнату чай, масло, брикет пряно пахнущего сыра, банку малинового варенья и сетку с апельсинами.
– Тебе вот, – сказала она и почему-то покраснела.
Эля отвернулась к стене.
Через пару месяцев – а он был терпелив и настойчив – Эля приняла приглашение на чашку чая.
Влад – так звали молодого человека – жил в квартире на третьем этаже. Огромной, в четыре комнаты, с окнами-фонарями и блестящим паркетом. Там она впервые увидела старинную мебель, бронзовые люстры, мягкие, слегка потертые, но сохранившие акварельную свежесть красок ковры.
И тончайшие чашки, светящиеся на просвет, и резные щипчики для сахара, и полотняные, с кружевом салфетки. Да много всего она увидела там впервые в жизни. И поняла – жизнь бывает другой. Абсолютно другой. Тут же, рядом, по соседству. Всего-то в десяти метрах от Маниной дворницкой. И пахнет ТА, другая, жизнь тоже иначе. Не прелой мешковиной и кислыми щами, а кофе, булочками с корицей, душистым мылом и белоснежными и хрусткими простынями с нежным и мягким, сливочным кружевом – свежими, словно с мороза.
Больше в дворницкую она не вернулась.
Маня, встретив ее во дворе в новом розовом пальто и черных блестящих ботиночках, тяжело вздохнула и сказала:
– Ну, попляши покуда. А про то, что дальше будет, не думай. А то праздник себе испортишь.
– Ты о чем? – спросила она.
Маня не ответила, только махнула широкой, словно клешня, рукой и яростно взялась за метлу.
Эля пожала плечами, засмеялась и побежала прочь. Через десять минут он ждет ее у метро. И они пойдут в кино. А после – в кафе-мороженое. Влад обещал. Потому что знает – она так любит мороженое! Особенно шоколадное и лимонное! И еще – ситро. Обязательно с эклером, обсыпанным пестрой крошкой. Такая вот сластена.
И это тоже его умиляло. Ох как умиляло! Просто в горле щипало.
И она это видела, чувствовала. И была еще счастливей. Хотя – куда же больше? Больше не бывает. И вообще – она и придумать не могла, что так бывает!
А ведь было! Было.
Влад рассказал, что его отец – дипломат. Они в командировке в Иране. Матушка – так он величал свою мать – никогда не работала, всю жизнь за могучей отцовской спиной. Дама избалованная – по рангу отцу всегда полагалась прислуга и даже повар. Но она дело свое знает – этакая светская дама, всегда при параде, и роль эту освоила прекрасно. На дипломатических раутах равной ей нет.
Влад – студент и разгильдяй, его же определение. Получает от жизни сплошную радость, и это ему прекрасно удается. Вопросами философского толка не задается, так как давно понял – жизнь, по сути, проста, если самому ее не усложнять. А он этого делать точно не собирается.
Она слушала его, затаив дыхание. Поразило ее то, как, оказывается, можно относиться к жизни. Конечно, она – далеко не дура – понимала, что такие выводы может сделать только человек, которого нужда и беды обошли стороной. Этакий баловень, везунчик ее новый знакомый.
Знакомство с ним было важным и огромным открытием – все в жизни не так трагично. Бывает другая жизнь. Совершенно другая. Сытая, гладкая, хорошо пахнущая, нарядная и просто приятная. Не «жисть» – как говорила Маня-хромая, а жизнь. Просто жизнь. Только надо в эту ароматную жизнь попасть. Вписаться. И самое главное – в ней задержаться.
Эля старалась забыть все то, что с ней когда-то было. Мать, которую она помнила плохо, как в тумане, и все же помнила – стол, не покрытый даже самой дешевой клеенкой, как у всех соседей, хромоногий, липкий, в порезах от ножа. На этом уродце – вечно початая бутылка, мутный стакан со следами жирных пятен от пальцев, засохшая половинка луковицы, горбушка с плесневелой коркой. Рваная серая простыня и одеяло с клочьями желтой ваты. У двери, которая никогда не запиралась по причине выломанного замка, материны резиновые боты с засохшими комками рыжей глины. А на гвозде халат. Бурый, байковый, с разнокалиберными пуговицами и оторванным подолом.
И саму мать – со спутанными волосами, губами, косо накрашенными морковной помадой, пахнувшей хозяйственным мылом. С почти беззубым гребешком в непромытых волосах и вечными пьяными слезами.
Потом гроб матери – простой, обитый красным сатином, и пьяный вой ее подруг, таких же несчастных и пьяненьких одиноких баб. На столе-инвалиде водка, винегрет и селедка – все, чем поминали покойницу.
Потом – тощая тетка в черном пиджаке с каким-то значком, который она все время поправляла рукой, похожей на птичью лапу. Тетку эту она сразу начала бояться, но та крепко и больно держала ее за руку.
Тетка говорила ей, что жить она будет теперь в приюте, что там будет «сытно и сухо, и много веселых ребятишек». Таких же, как она. Тетка наклонялась к ней, и изо рта у нее пахло тухлыми яйцами. Опять больно дергала Элю за руку и тащила к выходу.
А потом приехала родная тетка и тоже дергала ее за руку, и еще кричала, и называла ее «чертовым отродьем». И больно драла расческой ее спутанные волосы. Так больно, что Эля орала в голос.
А дальше – дорога в теткин городишко, поезд, сухой пирожок с мясом, такой вкусный, что она просила еще, а тетка гаркнула: «Хватит!» И она опять заревела – от голода и от обиды.
Ну а дальше – базар, стыд перед остальными детьми, жалобный шепот торговок.
А после – приезд теткиного муженька… Про подпольный аборт, про стальную спицу, озноб, выбирающий до дна последние силы, про бегство в Москву, про вокзалы, косматую цыганку – тоже хотелось забыть. Вот чудеса – Маня, страшная, убогая и нищая, оказалась светом в окне. Какая же до этого была жизнь, если Манина каморка с метлами и ведрами, с пустыми щами, тусклым, в изморози, окном, оказалась единственным раем на земле? Про это вспоминать просто нельзя. Потому что, если об этом думать, можно сразу сойти с ума. Или – еще проще – сдохнуть. А эти мысли появлялись у нее не раз.
* * *
В понедельник приходила Аглая, домработница. Бросала на новую жиличку суровые взгляды и что-то бурчала себе под нос.
Влад посмеивался:
– Не обращай внимания. Аглая вредная, но безвредная.
– Это как? – не понимала она.
– Побурчит, погремит тарелками, и ладно. Участковому не донесет, что тут «непрописанная».
Эля пугалась – а вдруг донесет? Вдруг он ошибается? И боялась каждого дверного звонка.
Но – нет. Это был не участковый, а многочисленные друзья хозяина – художники, студенты, режиссеры, операторы, модные поэты.
Они вваливались шумной толпой – яркие, веселые, с бутылками под мышкой, в обнимку с такими же яркими, веселыми и модными девушками.
Она сначала очень робела, а потом успокоилась. Когда поняла, что ничуть не хуже этих громких и наглых красоток. А может быть, и лучше – такой тонкой талии не было ни у кого, таких ресниц тоже. Да и на ее роскошные волосы девицы бросали завистливые взгляды.
И одета она была, благодаря ему, ничуть не хуже их.
Вот только вступать в их разговоры стеснялась. Многого не понимала – о чем это они?
Но никто над ней не насмехался. Все ласково улыбались и чмокали ее в щеку – при встрече и расставании. Принято у них было целоваться с малознакомыми людьми. Привыкла она не сразу.
А она ими всеми восхищалась. И сразу начала обожать. Влад опять посмеивался:
– Не обольщайся! Все они – те еще фрукты!
Девушки начесывали высокие «бабетты», утягивали широкими ремнями пышные юбки и носили в ушах пестрые пластмассовые клипсы.
Она тоже попыталась соорудить эту самую «бабетту». Он рассмеялся и заставил ее «размочить весь этот ужас».
Еще у девушек почему-то были клички – Русалка, Перо, Белуга.
– Почему Перо? – удивлялась она.
– Стишками балуется, – усмехался Влад.
– А Белуга? – не успокаивалась Эля.
– Ревет как белуга, – объяснял он.
– Не слышала, – пожимала плечами она.
Влад хохотал:
– И не услышишь! Слышно это только в определенном месте и при определенной обстановке.
– Какой? – опять не понимала она.
Он уже раздражался:
– Отстань. Какой надо.
– А ты откуда знаешь? – терялась она.
– Рассказывали!
Влад называл ее «дурачок». «Мой дурачок». Это было нежно и совсем не обидно.
Иногда он просил ее уйти к Мане в каморку. Объяснял, что приезжает тетка из Ленинграда, сестра матери. Дама строгая – «ситуацию не поймет».
Она прятала свои вещи в Аглаин чулан и безропотно уходила в дворницкую. Маня тяжело вздыхала, но ничего ей не говорила. Через несколько дней он за ней приходил и объявлял, что пути свободны.
На день рождения он подарил ей золотые сережки с маленьким зеленым камешком – сказал, под глаза.
А спустя месяц, грустно вздыхая, объяснил, что приезжают родители – в отпуск. На целых два месяца – у дипломатов отпуск большой.
Она спросила, когда собирать вещи.
Влад опять вздохнул и сказал:
– Завтра, дурачок, завтра.
И еще попросил, чтобы она пожила в мастерской у его друга Загорского.
Она удивилась:
– Почему не у Мани?
– Не место тебе там, – жестко отрезал он.
К пьянице Загорскому ехать не хотелось. На целых два месяца! В его холостяцкую берлогу, заваленную мольбертами и пустыми бутылками.
Но делать нечего – назавтра она уехала на Чистые пруды.
Загорский встретил ее равнодушно.
– Прибыла?
Она смущенно кивнула.
Устроилась на раскладушке в углу, отгороженном старыми плакатами.
С Загорским они почти не разговаривали – за обедом, неумело приготовленным ею, он выпивал полбутылки водки, остальное оставлял на вечер. Молча все съедал и коротко бросал: «Спасибо. Уважила».
А Влад не появлялся. Она вздрагивала от каждого шороха. Ждала. А он все не шел! Она уговаривала себя, что все время он проводит с родителями – гости, поездки на дачу. Не виделись целый год. Да и матушка его – человек властный, капризный. Не хочет отпускать от себя дорогого сынулю.
Но кошки на душе скребли. Ну хоть на полчаса! На десять минут! Ведь мог бы заскочить и просто напомнить о том, как он любит ее, своего «дурачка»! Валялась на раскладушке, читала книжки и плакала. Целыми днями плакала.
Загорский, слыша ее всхлипы, кричал:
– Выпить хочешь?
Она не отвечала.
Он вздыхал и резюмировал:
– А вот это зря. Полегчало бы.
Однажды она поехала в тот двор. Просто хотела посмотреть в его окна. Напоролась на Маню.
Та обрадовалась:
– Пошли почаевничаем.
Сели за стол. Молчали. Маня смотрела на нее с жалостью и страхом.
Слово за слово.
– А ты что, не знаешь? – удивилась Маня.
– Про что? – устало спросила она.
– Так ведь твой женился! Свадьба была! Невеста такая беленькая, тощенькая. Куды ей до тебя! – продолжала бесхитростная Маня. – А вот платье было богатое! Такое платье, что весь двор любовался.
Эля медленно встала и побрела к двери.
– Пошла, что ль? – удивилась Маня. – А то обожди, Верка скоро придет. Винца выпьем.
В тот день она впервые напилась. С Загорским. Напилась так, что не помнила себя. До самого вечера следующего дня.
А хотелось бы себя не вспомнить никогда. И себя, и всю свою жизнь. Забыть, как не было.
Как очутилась в постели с Загорским, она не помнила. Проснулась от нестерпимой похмельной жажды, хорошо знакомой крепко выпившему человеку. Не открывая глаз, нашарила бутылку прокисшего ситро и жадно присосалась к стеклянному спасительному горлышку.
– Оставь малость, – услышала она хриплый голос.
Испуганно обернулась. Загорский тянул к ней большую волосатую лапу.
Эля вздрогнула и протянула ему бутылку.
«Начало конца», – спокойно подумала она.
Уйти? Куда? Остаться? Другого выхода нет. Противно, омерзительно. Но ведь того, что случилось, вполне можно избежать. К тому же Загорский не был классическим бабником – брал то, что само шло в руки, никогда ни на чем не настаивал – наверное, как любой алкоголик.
Оба пытались сделать вид, что ничего не случилось. Он даже ее смущенно утешил – ну бывает, мать. Не бери в голову.
Она дернулась и ничего не ответила.
А на следующую ночь, после очередной бутылки водки, она сама пришла к нему. Он тяжело вздохнул, откинул потертое верблюжье одеяло и, кряхтя, подвинулся.
Теперь она приходила к нему сама, когда была нужда. Когда боль и одиночество становились совсем невыносимы. Когда горло сжимала жгучая, беспросветная тоска. Когда просто хотелось почувствовать чье-то, пусть пьяное, дыхание и тепло человеческого, пусть чужого и нелюбимого, тела.
Он все понимал. И жалел ее, жалел. Гладил по голове, как маленького ребенка. Слов утешения, правда, не говорил – стеснялся. Да и вообще он был довольно стеснителен и косноязычен.
А Эля тихо плакала, лежа на его рыхлом белом плече. И ей становилось легче.
Выплакав свои слезы, она засыпала. А он осторожно выпрастывал тяжелую руку и подтыкал, как когда-то своей маленькой дочери, жесткое одеяло.
Потом долго курил, пил остывший черный чай – почти чифирь, покрытый плотной масляной пленкой, пытался прибраться в закуте, громко называемом кухней, и шел спать на ее раскладушку. Чтобы ее не тревожить.
Нет, влюблен он в нее не был. Просто жалел – она тоже из пострадавших, как и он.
Влада, своего приятеля и ее возлюбленного, он знал отлично. И все его поступки мог просчитать с точностью до миллиметра. В том числе и увлечение красавицей-дворничихой, как тот называл Элю. И про его свадьбу с бледнолицей дочерью посла, папашиного начальника, давно запланированную мудрыми родителями, тоже знал. И мучился оттого, что не предупредил Элю. Просто не смог, не хватило духа.
Ее ночные визиты в свою постель он воспринимал как простой человеческий долг. Который ему самому был достаточно в тягость. Но жалость и «поддержка» пострадавшей была важнее.
И все-таки он тайно мечтал, чтобы эта разбитая, покалеченная, несчастная женщина поскорее исчезла из его жизни. И он бы опять погрузился – с большим удовольствием! – в свое одиночество, успокоительную и желанную пьянку, в любимую, по его же определению, «мазню» и покой. Без чужих страданий и слез.
Потому, что хватало своих – выше крыши.
Она к нему прилепилась, привыкла, как привыкала к любому, пусть даже слегка проявившему милость, несчастному, потерянному и одинокому человеку.
То, что она приходила к нему ночью, она ошибочно считала благодарностью. За все: за кров, кусок колбасы, бутылку дешевого вина, подтаявший и помятый стаканчик сливочного мороженого – тебе, ты же любишь! Это была забота. Именно то, чего так недостает недолюбленному и одинокому человеку. И эту ЗАБОТУ она научилась ценить больше всего. Вернее, жизнь научила – быть благодарной.
То, что она начала по-серьезному пить, она поняла однажды утром. Когда ходуном заходили руки и эту дрожь было невозможно унять. И когда дрожь прошла после того, как Загорский дал ей стакан теплого пива. Дрожь унялась сразу, вместе с тошнотой и тупой головной болью.
Она вспомнила мать и слово «опохмелиться». И вот тут ей стало по-настоящему страшно. Так страшно, что опять затошнило.
Она поняла, что отсюда, из этого полуподвала, прохладного даже в самую жуткую жару и сырого даже в теплую зиму, ей надо бежать. Опрометью, не оглядываясь. Успев, разумеется, сказать слова благодарности доброму хозяину. Иначе – обрыв. Край.
Маня-хромая из недоброй столицы уехала к брату в деревню. Верка, верная подружка, поспешила за ней. Дома лучше, как ни крути. В дворницкой теперь проживала большая и шумная татарская семья, вызванная из села дружными родственниками.
Ушла она от Загорского через месяц. С его другом, оператором детской киностудии. Ушла в один день, приняв приглашение посмотреть на его новую, только что полученную комнату на Мосфильмовской.
Все трое понимали – и она, и Загорский, и лысый тощеватый оператор в модном нашейном платке, – что она уходит. От Загорского, от прежней жизни, в новую.
Впрочем, новая оказалась практически такой же, как старая. Только здесь была не мастерская в полуподвале с низкими и мутными окнами, а вполне приличная комната в тринадцать метров, с большим окном над козырьком подъезда, где зимой практичный и находчивый оператор охлаждал авоську с бутылками пива и водки.
Соседка оператора, глуховатая бабулька с трясущейся головой, вечно отиралась под их дверью, морщась от натуги, – слух подводил, видимо, сильно. Вторым соседом был водитель такси – низкий, кривоногий мужичонка с завистливыми и беспокойно бегающими глазами, ворующий у соседей то яйцо, то хлеб, то кусок колбасы. Все молчали – почему-то его побаивались. И оператор – первый.
И Эля молчала, хотя видела все его непотребства собственными глазами. Он дернулся и буркнул: «Ты здесь непрописанная, участковому укажу».
Оператор был говорлив, в отличие от молчуна Загорского. Особенно его развозило после выпитого – тут уж было не остановить. Он рассуждал о смысле жизни, о ее бесполезности и жестокости, сплетничал про успешных коллег, и в голосе его сквозили презрение и зависть.
Продукты он покупал сам, без нее. Словно боялся дополнительных расходов – а вдруг что попросит?
Она ничего не просила, тем более денег. Ей даже и в голову это не приходило при виде того, как каждый вечер он пересчитывает медяки и серебро.
И еще она вздрагивала, когда ночью он к ней прикасался – холодными и слабыми руками. Слабыми, а не вырвешься. А самым омерзительным был его вопрос после: «Тебе было хорошо?» Она начинала давиться от смеха и его наивности.
Хорошо с ним быть не могло. Даже при очень большой любви. Да и вряд ли ей с кем-нибудь будет хорошо. Потому что все, что связано с этим интимным вопросом, ей было глубоко, до отвращения противно.
Так противно, что начинал болеть живот и к горлу подступала мучительная тошнота.
Она не ошиблась – теперь так было всегда. Всю дальнейшую жизнь.
И не влияло ничего – ни смена партнера, ни даже симпатия или благодарность к нему. Ничего.
И все-таки участковый появился. Проверил паспорт и пригрозил неприятностями.
– Жилплощадь освободить в течение двух суток! – И было это сказано так, что возражать, спорить или упрашивать оказалось совершенно бесполезно.
Оператор юлил, потел, пытался оправдаться и аккуратно складывал ее вещи в чемодан.
Она сидела на тахте и молчала.
– Отвезу тебя к Сеньке, – сказал он. – Там чудо что за место. Воздух, природа! – оживился он. – Белки по деревьям скачут! Кабаны, лисы. Словом, чудное место.
Она посмотрела на него и усмехнулась.
Они вышли в коридор. Шоферюга курил на кухне.
– Счастливого пути! – ухмыльнулся он. Она не ответила.
Ехали на электричке. Долго, почти четыре часа. Не разговаривали. Ей было противно на него смотреть. Трус, негодяй, приспособленец. Нет, все-таки самое омерзительное, что трус.
От платформы шли минут сорок по узкой лесной, слегка размякшей от осенних дождей дороге. Потом началось бесконечное, бескрайнее, серое, коротко стриженное, как голова новобранца, поле. За полем – мелкий пролесок с пестрыми сыроежками. А за ним – деревня.
Черные, покосившиеся домишки. Заброшенные палисадники с мокрыми, поникшими золотыми шарами.
Было видно, что деревня пустая, словно мертвая. Окна заколочены или выбиты, деревья почти скинули листву, и только мрачно поскрипывали от ветра высокие сосны с глянцевыми мокрыми стволами.
Скоро почувствовался запах костра и прели. На участке что-то жгли, из печной трубы шел густой серый дым.
Оператор толкнул разбухшую некрашеную калитку.
На поляне перед домом действительно догорал костер. У костра стоял высокий человек в огромном, словно плащ-палатка, плаще с капюшоном и помешивал кочергой тлеющие угли.
Это и был тот самый Сеня – школьный приятель оператора. Их приезду, казалось, он совсем не удивился. Просто кивнул и предложил пройти в дом.
Дом – это было сказано слишком громко и слишком самоуверенно. Крохотная полутемная прихожая – сени, по определению хозяина. На полу огромные резиновые сапоги, комья засохшей глины, какая-то солома, перья, старые газеты, пустые бутылки и инвалидного вида ведра и кастрюли с проросшей картошкой и подгнившей капустой.
– Живем натуральным хозяйством, – усмехнулся хозяин.
В комнате с низким потолком, оклеенной пожелтевшими обоями в мелкий цветочек, было душно. По окнам медленно ползали одуревшие осенние мухи. В углу висела полка с иконами, украшенная восковыми, выгоревшими от времени цветами, похожими на кладбищенские.
Хозяин снял огромный, словно картонный, плащ и предложил располагаться.
Она увидела комнату за марлевым пологом – узкая кровать с металлическим ребристым изголовьем, табуретка у кровати, гвозди на стене, на которых висели рубашки и брюки, и темный, почти черный от времени комод, на котором тоже были икона и стопка книг.
Больше комнат в доме, судя по всему, не было.
Хозяин выглядел старовато для однокашника оператора. А может, виной тому была густая, темная, с редкими белыми нитями седины борода.
На обветренном красноватом лице выделялись глаза – ярко-синие, неестественно василькового цвета.
Он неумело пытался собрать на стол. Картошка в мундире, вареные яйца, головка лука и блюдце с толстыми кусками желтоватого сала. Смущаясь, пригласил незваных гостей за стол. Но оператор заторопился, ссылаясь на расписание редких электричек. На предложение заночевать замахал руками.
И еще – попросил Элю освободить чемодан. Она вытащила свои вещи и пнула пустой чемодан ногой:
– Забирай, гад.
Хозяин смущенно кашлянул и вышел во двор. Оператор притворно обиделся, покачал головой и тихо объявил, что неблагодарность – худшее из человеческих качеств.
Потом она видела в окно, как оператор что-то жарко объяснял школьному другу, а тот молча курил и смотрел в сторону. Потом кивнул, бросил папиросу и пошел в дом.
Оператор, не оглядываясь, поспешил со двора.
Эля расплакалась. Что на этот раз приготовила ей жизнь? Какое испытание?
Было страшно оттого, что она боялась этого Семена. Что за личность непонятная? Живет в деревне один как перст, не работает, потом эти иконы… Может, от прежних хозяев остались? А где она будет спать? Кровать-то в доме всего одна!
Но все оказалось не так страшно. Комнатку за марлевой занавеской он ей уступил. И даже дал чистое постельное белье – ветхое, в неровных заплатах, пахнувшее прелью и почему-то лекарством. Сам ушел в баню – так называлось крошечное строение с закопченными дочерна низкими потолками.