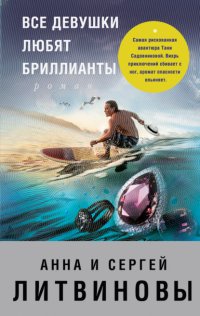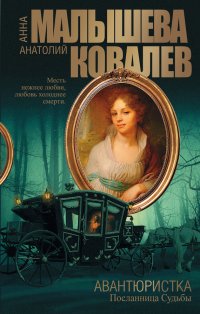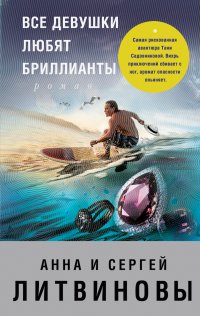
Читать онлайн Все девушки любят бриллианты бесплатно
- Все книги автора: Анна и Сергей Литвиновы
Он накинул черный шелковый халат и спустился на первый этаж в библиотеку. Присел к компьютеру. Пальцы забегали по клавиатуре. Пароли, единожды взломанные, открывались легко.
Компьютеры НАСА не заметили несанкционированного вторжения.
К бесчисленному количеству сигналов, которыми непрерывно обменивались компьютер в центре управления полетом в Хьюстоне и спутник-шпион HGS-1, добавился еще один.
HGS-1, находящийся на геостационарной орбите на высоте 36 000 километров над Землей, словно висел неподвижно над одной точкой европейской части России. Его антенны, фиксирующие радиоизлучение, были направлены вертикально вниз. Теперь HGS-1, повинуясь командам из центра, начал наблюдение еще за одним объектом.
Данные этого наблюдения не фиксировались в памяти ЭВМ НАСА. По компьютерным сетям они уносились за тысячи миль от Хьюстона – в частный особняк с наглухо зашторенными окнами.
Человек в шелковом халате вглядывался в огромный монитор.
Его длинные пальцы пробежали по клавишам. Он увеличил масштаб. Основную часть экрана заняла Московская область. Человек выбрал район и увеличил его изображение. Масштаб стал максимальным. Теперь весь экран занимала Москва. На мониторе появились расчерченные компьютером с удивительной точностью улицы русской столицы. Стала отчетливо видна светящаяся точка. Объект двигался, следуя от центра Москвы к окраине. Скорость движения составляла около 60 километров в час – данные высветились в правом углу экрана.
Куда это она? В Москве сейчас полпятого утра. Куда она может ехать в столь ранний час? Одна ли она? Что-то похожее на ревность кольнуло его сердце.
Чепуха какая.
Светящаяся точка остановилась на окраине Москвы. Он попытался разглядеть нанесенное на карту название улицы. Кажется, она здесь живет. В самом деле – сигнал прекратил движение… Она – дома…
Ну что ж, спокойной ночи, дорогая…
На карте не происходило больше никаких изменений. Светящаяся точка застыла в юго-восточном углу экрана. Рядом на карте начинался парк. Наверно, в Москве сейчас поют соловьи…
Он быстро вышел из программы.
Его вторжение в сеть НАСА осталось, как всегда, никем не замеченным.
* * *
Таня вернулась домой под утро.
Солнце еще не взошло, но уже светало, и из парка напротив ее дома доносились трели первых соловьев. Стелющийся туман означал, что день будет солнечным – прекрасный день раннего московского лета. Ее дом, как и дома рядом, еще спал. Скоро люди проснутся и заспешат на работу. А ей на работу не нужно – и это на все лето.
Таня бесцельно побродила по квартире. В голове и во всем теле еще чувствовалось легкое возбуждение, вроде озноба. Так всегда бывает после ночи танцев в клубе. Что-то пьянящее – хотя выпила она только два некрепких коктейля. Зато сколько музыки, сколько мужского внимания, сколько внутренней свободы… И слава богу, подумала Таня, что ты никого не привела сюда. И ни с кем не поехала. После безумной ночи хорошо побыть наедине с соловьиными трелями за окном, с уютной квартирой, с самой собой…
Таня стянула кофточку и швырнула ее в стирку. Бродя по своей квартирке, расстегнула лифчик. Задержалась у зеркала. «Ах, как я хороша!» – подумала она и засмеялась.
Спать не хотелось, но она знала, что едва уляжется – тут же провалится в тяжелый и глубокий сон. Таня оттягивала этот момент. Ей жаль было расставаться с собой, такой красивой и возбужденной, и с этим прекрасным утром.
От нечего делать она включила автоответчик. На табло высветилось семь звонков. Первый. Бросили трубку. Наверняка – Печальный Гарик. Проверяет ее и боится в этом признаться.
Второй:
– Танюшечка, это я. Свет очей моих, солнце души моей, соизволь позвонить мне, счастье мое. Припадаю к твоим коленям!
Димка. Нет уж. Ему она звонить не будет. Появляется из ниоткуда, осыпает цветами, обволакивает красивыми словами, проводит ночь, а наутро исчезает. Исчезает в никуда. И не появляется месяц, а то и два. Хватит, Димочка. Я тебе не девочка по вызову – звонить, когда тебе приспичит. Я – современная женщина. И я выбираю – сама. И выбираю – не тебя.
Таня сбросила юбку и трусики и прошла на кухню совсем голенькая. Огромное зеркало в коридоре услужливо отразило ее точеную фигурку.
Автоответчик орал на всю квартиру.
– Это я! Таня, возьми трубку! – звучал командирский голос ее матери. – Тебя что, нет дома? Как вернешься, срочно позвони мне! Слышишь – срочно!
Еще звонок. И снова – мама.
– Таня, ты что, еще не вернулась? Как вернешься, сразу же перезвони! Есть важные новости! Таня, перезвони тут же! Поняла?
Какие там у нее важные новости? На работу ее взяли, что ли?
Даже если бы Таня вернулась не в шесть утра, а в одиннадцать – все равно тут же, немедля, перезванивать бы не стала. Знаем мы эти новости. Опять впечатляющая победа в тяжбе с очередным магазином. Или – того хуже – встретила она свою институтскую подругу, у которой «сын – такой прекрасный мальчик: умный, интеллигентный и неженатый…». Мама страшно переживала, что Таня – в ее-то двадцать пять лет! – до сих пор не вышла замуж.
На автоответчике был еще один звонок от страховщицы, она просила не забыть, что приближается срок очередного взноса за Танину машину. И опять – мама. Вот ведь упорная женщина!..
Ничего. Потерпит, пока Таня проснется.
Таня решительно стерла все записи и отключила телефон: ведь мать будет названивать с самого утра. Потом разобрала постель и нырнула под скользкую ткань пододеяльника. Соловьи в парке распевали уже вовсю.
Таня понежилась в постели. Впереди три месяца ничегонеделания. Сперва отпуск. Потом – два месяца за свой счет. А с сентября – учеба в Беркли. Таня и хотела, и не хотела этого. Два года под пальмами Калифорнии. Два года вдали от Москвы. Зато через два года она сможет писать на визитках приставку «Dr.». Доктор Танька! Во будет прикол!
«Интересно, там, в Калифорнии, соловьи есть?» – подумала она, засыпая, и засмеялась…
* * *
Ну что за дрянная девчонка!
Три раза ведь сказала ей на автоответчик – позвони, позвони срочно, в любое время, – а ей хоть бы что! Вернулась, наверно, под утро, а теперь дрыхнет там у себя. А уже – кошмар! – полвторого. Ну что за безалаберная девчонка! Нет, в ее годы Юлия Николаевна такого себе не позволяла.
Юлия Николаевна задумалась: а что она, собственно, могла себе позволить в Танином-то возрасте?..
Когда ей было двадцать пять, Танюшке было уже три годика. К восьми утра она тащила ее в садик. Сама мчалась на работу.
Она была младшим научным сотрудником с окладом 120 рублей. И еще – заместителем секретаря комсомольской организации института. Огромного научного института. Только в комсомольской организации было семьдесят человек. И еще она заканчивала заочную аспирантуру. И писала диссертацию. Домой возвращалась за полночь. Слава богу, мама, Анна Николаевна, еще была жива.
Она перетащила маму в Москву из их родного Ростова.
Бабушка забирала Танюшку из садика. Кормила ее. Купала. Рассказывала на ночь сказки…
Юлия Николаевна возвращалась, когда Танечка уже спала. И хорошо, что спала, – на ребенка у мамы просто не было сил… А жили они втроем в комнате в общаге-малосемейке. Удобства – в конце коридора. И никакой личной жизни.
«А эта? – подумала Юлия Николаевна о дочери. – В ее-то двадцать пять – своя квартира. Работа, на которой Таня гребет деньги лопатой. Пижонская иномарка… Но разве не об этом ты мечтала, – спросила себя Юлия Николаевна, – когда пробивалась в Москву? Когда цеплялась за столицу руками и зубами? Разве не ты мечтала, чтобы дети твои были избавлены от борьбы за выживание? От «покорения столицы»?.. Об этом мечтала, об этом».
А все равно было обидно. И еще она немного завидовала дочери. Хотя, надо признать, всех своих успехов: квартиры, машины, денежной работы – Таня, как в свое время Юлия Николаевна, добилась сама. Никто ей не помогал. Да и чем Юлия Николаевна могла помочь! Разве что привить дочери свои лучшие качества: целеустремленность, силу духа, волю к победе… Но вот так бессовестно относиться к матери она ее не учила. Ей нужно посоветоваться с Таней, поделиться с ней – а та бессовестно дрыхнет. А ведь уже полвторого.
* * *
Юлия Николаевна уже два года как была уволена по сокращению штатов из своего НИИ. Весь ее отдел, работавший на «оборонку», оказался никому не нужен. Не помогли ни кандидатская степень, ни месткомовский опыт.
Сначала Юлия Николаевна решила: обходятся без меня – ну и пусть. Я всю жизнь ишачила, теперь могу расслабиться. Тем более что на бирже труда ей платили три четверти ее последнего (довольно-таки приличного) заработка. Остались и кое-какие накопления от продажи дачи – хибары в очень дальнем Подмосковье.
И Юлия, словно пенсионерка, решила насладиться блаженным покоем. Она радовалась тому, что могла спокойно посмотреть «Жестокий романс», который почему-то показывали с часа до трех ночи, и потом проспать до полудня. Радовалась тому, что не надо вздрагивать от воя будильника в семь утра, собираться в спешке на работу, а можно спокойно спать сколько хочется.
Она вдоль и поперек изучила Третьяковскую галерею, которую как раз открыли после долгой реставрации. Изучила обстоятельно, выделяя на каждого крупного художника по целому дню. Ходила в театры и на симфонические концерты.
Приглашала в гости подружек и баловала их тщательно продуманным меню и любовно приготовленными яствами…
Но через несколько месяцев Юлия Николаевна отчаянно заскучала.
Оказалось, что телевизор, если его смотреть сколько хочется, быстро надоедает. Театры, концерты и выставки – тоже. Да и подруги – чего там нового они расскажут?
Мужа – как, впрочем, и любовника – у Юлии Николаевны не было. И не хотелось заводить… Таня выросла. И считала себя абсолютно взрослой. О на решительно отвергла мамино предложение жить вместе, а вторую квартиру сдавать: «Это, мамми, у тебя нет личной жизни, а я нуждаюсь в отдельной жилплощади». Жестоко сказано. Таня могла быть жестокой к матери, сама не замечая того.
Не обрадовалась Татьяна, даже когда Юлия Николаевна предложила приходить к ней и готовить ужины, – сказала, что у нее «иные кулинарные пристрастия». Таня явно решила «держать дистанцию». И сделать с этим мама ничего не могла.
Появилось жутковатое чувство собственной невостребованности. Своей никому ненужности.
Ненужности ни дочери. Ни мужчинам. Ни Родине.
Юлия Николаевна просыпалась в своей квартирке. Читала. Смотрела телевизор. Звонила подругам – а подруг было у нее множество. Время проходило, словно в поезде, когда надобно просто дождаться конечной остановки. Но Юлия Николаевна понимала, какая в ее случае будет конечная станция…
А ведь ей всего 47 лет. Она стройна. Она хороша собой. Подумать только: всего десять лет назад, после развода, ей казалось, что вся жизнь еще впереди…
На бирже труда стали платить все меньше. Скоро эти выплаты и вовсе должны были закончиться. Кроме того, народу там заметно прибавилось, и для того, чтобы попасть на прием к «своему» инспектору, Юлии Николаевне приходилось раз в неделю вставать в четыре утра.
«Биржевой» день был для нее просто адом. А работу там предлагали несерьезную. Инженер с двадцатипятилетним стажем, кандидат наук, оказался нынче никому не нужен. Предлагали работу курьера за четыреста рублей в месяц. Машинистки – за восемьсот. Санитарки – за двести… А пуще всего требовались водители автобусов, каменщики, маляры… Все это выглядело как издевательство. Пока еще оставались, правда, сбережения от дачи. Они плюс скромное пособие плюс режим жесткой экономии помогали держаться. Да и Таня порой подбрасывала деньжат…
Но все равно, – сидя в надраенной до блеска квартире, Юлия Николаевна кропотливо просматривала все газеты, где предлагалась хоть какая-то работа. Она несколько раз сходила на презентации, которые устраивали вербовщики «гербалайфа» и косметики, и чуть было не ввязалась в это дело – слава богу, дочка отговорила. Закончила краткосрочные курсы бухгалтеров – и с ужасом обнаружила, что все равно никогда не сможет сама составить баланс. Годы уже не те, чтобы вот так, запросто, в несколько месяцев освоить новую профессию.
Почувствовать свою востребованность Юлии Николаевне помог случай.
Теперь она, разумеется, покупала продукты на оптовом рынке. У нее появилось время делать покупки более обстоятельно. Подозрительные по качеству товары она относила в СЭС. Если чувствовала недовес – на контрольные весы. И практически всегда ее подозрения сбывались.
Юлия Николаевна принялась бороться с нечистыми на руку продавцами. Как опытный управленец, она знала, по каким инстанциям надо ходить и что нужно делать, чтобы обычной кляузе был дан законный ход. Она писала, порой получала в ответ отписки, снова писала, теперь уже в вышестоящую инстанцию. И добивалась своего. Брала упорством, грамотными текстами, тем, что ее письма выглядели солидно – набранные на компьютере, с описью прилагаемых вложений (копия чека, копия заключения СЭС…).
Несколько палаток на рынке закрыли по результатам проверок писем Юлии Николаевны. Заодно построили стоянку для грузовиков – она несколько раз обращалась в мэрию в связи с тем, что фуры создают пробки на их узкой улице.
Дочь восхищалась мамиными талантами. Кроме того, она радовалась тому, что Юлия Николаевна, слава тебе, господи, при деле и не лезет в ее, Танину, личную жизнь. К тому же мамина бурная деятельность приносила ощутимую пользу и ей.
Более всего Таня была рада так называемому «меховому процессу».
В октябре она купила себе песцовую шубу. В ноябре начала ее носить. Оказалось, что мех песца хорош всем – кроме того, что оставляет на одежде огромное количество ворса. Не только синтетические колготки, но даже хлопчатобумажные джинсы мгновенно покрывались густым слоем белой шерсти.
Таня сунулась в магазин сама, пытаясь шубу вернуть или поменять, но там ее подняли на смех: «Да вы что, девушка?! Надо было смотреть, что берете!»
Тогда за дело взялась Юлия Николаевна. Пообщавшись с несметным количеством чиновничьих инстанций – от комитета по защите прав потребителей до лицензионной палаты, – она добилась-таки своего. Ей удалось доказать, что шуба некачественная, и директор магазина, которого замучили проверками, лично звонил ей домой, умоляя прийти, сдать товар и получить назад все – все до копейки! – деньги.
На вырученную – в буквальном смысле вырученную! – сумму Таня купила себе шубу из кусочков норки в другом магазине. Еще и осталось немного. «Добавку» дочка с благодарностью вручила Юлии Николаевне. И, вдохновленная впечатляющей победой, предложила маме организовать свой маленький бизнес, а именно: помогать тем потребителям, которые не могут сами справиться с наглыми торговцами, и получать в случае победы процент от вырученных денег. (Общества потребителей за одну консультацию уже брали непомерно много, а Юлия Николаевна готова была работать бесплатно до победы – и только потом делиться.)
Был составлен текст в газету бесплатных объявлений. Закуплены конверты. Ежедневно Юлия Николаевна покупала газету и посылала туда свою рекламу на вырезанном бланке.
Через месяц после того, как «защитница потребителей» заявила о себе, у нее появился первый клиент. Она добилась замены сломавшейся микроволновой печи и получила за труды 300 рублей.
Конечно, денег новая работа приносила не слишком много, но Юлия Николаевна была и этому рада. А пуще всего радовалась тому, что она снова при деле. Снова кому-то нужна. И клиентам, и дочери.
Та уже жаловалась, что ее норковая шуба тоже оказалась некачественной – разлезается по кускам… Дочь очень надеялась на то, что к весне мамми и норку сбагрит, а она, Таня, приобретет репутацию роскошной женщины, которая меняет меха каждый сезон.
* * *
Переписка у Юлии Николаевны была, особенно по нынешним телефонизированным временам, весьма обширной. Она писала (и регулярно получала обратную корреспонденцию): двоюродной сестре Натусе в Севастополь; школьной подруге Галке в Черновцы; институтской подружке Толстой Миле, которую судьба забросила в Магадан; и еще двум подругам – Вере в литовский город Игналина и Нине в нашенский Нижний Новгород. Кроме того, по своим делам «боев за справедливость» она имела эпистолярные сношения с аппаратом мэра, правительством Москвы, префектурами, а также разнообразными торговыми и промышленными предприятиями. Так что, помимо бесплатных газет «Экстра М» и «Центр Плюс» и бесчисленных рекламных листовок, почта почти всякий день приносила ей то официальное, а то приватное письмо. Вот и нынче она достала из почтового ящика в мерзлом подъезде длинненький конверт. Конверт был с нездешней маркой и обратным адресом, напечатанным латинскими буквами. Сердце екнуло: «Неужели?..»
Уже полгода Юлия Николаевна занималась «генеалогическим проектом», как со смехом называла эту затею Таня. (Иной раз Таня намеренно путала и называла проект «гинекологическим».)
Раз в неделю Юлия Николаевна посылала в парижскую газету (аналог нашей «Из рук в руки») объяву, в которой она просила откликнуться своих родственников, – благо специально за бланки международных объявлений платить было не надо: все равно ради отечественных квитков газета покупалась каждое утро.
Юлия Николаевна хотела восстановить историю своего рода, уходившего корнями в легендарное дореволюционное время.
Ее прадед был – сохранились фотографии, а кое-что рассказывала Юлии Николаевне ее мама – князем и одновременно миллионером из Харькова. У господина Савичева было то ли семь, то ли даже восемь детей.
Про судьбу одного из них, Николая Савичева, мама знала – он, в конце концов, был ее дедом. Что сталось с самим князем-миллионщиком и остальными его детьми, ничего не было известно. То ли сгорели они дотла в пламени революции и Гражданской войны, то ли тихо перемололи их (как и деда Николая) в лагерную пыль в тридцатые; а может, пали они на фронтах Великой Отечественной… О судьбе их не осталось ничего: ни изустных преданий, ни писем, ни документов.
А вдруг, задумывалась Юлия, они эмигрировали? Вдруг живут где-нибудь во Франции или в Аргентине ее троюродные братья и сестры? Ее двоюродные тетушки?
– Ну, тут уж ты, мамми, загнула, – смеялась дочка. – Какие там родственники? Померли все, давно померли! А если не померли – по-русски читать разучились. Тоже, размечталась – тетушка из Парижу! Ищи иголку в стоге сена!.. Деньги только зря тратишь.
Мама сердито отвечала:
– Свои трачу!
Объявление посылалось за объявлением с завидным упорством, но… Ответа все не было и не было. Уверенность Юлии Николаевны в успехе дела становилась все более призрачной… И вот, наконец, иностранный конверт!
Она не разорвала его сразу же, немедленно, в подъезде (как поступила бы, к примеру, Таня). Нет, Юлия Николаевна поднялась на лифте в квартиру, взяла очки, ножичек для разрезания бумаг, погрузилась в кресло – и только после этого, аккуратно вскрыв письмо, принялась читать.
Послание было отпечатано на компьютере на очень белой, очень плотной бумаге. Написано оно было по-русски.
Содержание его было поразительно.
48-бис, рю-де-ла-Либерте,
Анган-ле-Бен, Франция
7 января 1999 года
Господа, позвольте продемонстрировать Вам свое самое глубокое почтение. С чувством большого волнения я прочитала объявление из России, напечатанное в парижской газете. Мое волнение усугубилось тем, что, вполне возможно, я являюсь искомым для Вас субъектом.
Меня зовут Вера Викторовна Фрайбург, урожденная Савичева. Я рождена в 1915 году в городе Харькове, Россия. Мой papa, le compte Виктор Ильич Савичев, возможно, является тем самым г-ном Савичевым, коего Вы разыскиваете.
Мой папа, князь Виктор Ильич Савичев, безвременно и печально погиб в 1918 году в советской России, и обстоятельства его смерти не являются мне известными.
Моя maman, la compte Савичева, смогла вывезти меня из России на пароходе, вместе с героическими офицерами Белой армии. Морем мы попали в Константинополь и в 1921 году перебрались с нею в Париж.
Мама моя скончалась в Париже в 1942 году, во время немецкой оккупации, от грудной жабы. Она похоронена на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Муж мой, барон Эрнст Фрайбург, оставил меня навеки – да упокоит господь его бессмертную душу! – восемь лет тому назад. К несчастию, мы не имели детей. Нет у меня и иных родственников. Поэтому мне было бы весьма важно, приятно и утешительно больше узнать о моих возможных родственниках из России, где мне, волею жестокого ХХ века, так и не удалось более побывать.
Я благодарна Вам за Ваши поиски. Не соблаговолили бы Вы прислать мне подробный рассказ о Вашей семье, а также, по возможности, свидетельства Вашей связи с семьей Савичевых?
Не знаю, являетесь ли Вы верующими или атеистами, но полагаю, что имею право поздравить Вас с Рождеством Христовым и пожелать Вам света, здоровья и любви.
Буду с нетерпением ждать ответа.
Примите уверения в моем искреннем к Вам почтении:
Фрайбург-Савичева
* * *
Вечером того же январского дня письмо было продемонстрировано Тане.
– Ну ты, мамми, гигант! – с нескрываемым восхищением произнесла та, прочитав депешу. – Княгиня из Парижу! Бабуленька!.. Да я всю жизнь об этом мечтала!.. Вот не ожидала, что тебе хоть кто-то ответит. А тут – княгиня!
– Я всегда добиваюсь своего, – с важностью произнесла Юлия Николаевна.
– Да тут ведь не двадцать рублей с Выхинского рынка! – воскликнула Таня. – И даже не шубка! Тут ведь каким наследством пахнет! – И Таня еще раз зачитала то место из письма, где княжна Фрайбург-Савичева говорила о своем парижском одиночестве, об отсутствии детей и иных родственников.
– Да, я тоже это поняла, – с гордостью сказала Юлия Николаевна.
Немедленно был составлен ответ в Париж.
Письмо получилось столь длинным и объемистым, что на почте пришлось за него доплачивать (расходы взяла на себя Таня).
В нем Юлия Николаевна подробно описывала историю своего рода. Рассказывала о своем деде Николае. Он родился в 1905-м и был расстрелян в Ленинграде в 1937-м. Именно он являлся, по всей видимости, старшим братом французской княжны.
Юлия рассказывала также о его дочери – матери своей Анне Николаевне, которая, по всему судя, доводилась парижской княжне племянницей. Наконец, она сообщала хронику своей жизни, а затем в самых умилительных тонах повествовала о дочери своей Танечке.
Письмо было отредактировано Таней, и из него решительно были вычеркнуты те моменты, которые говорили о малом достатке и безработице самой Юлии Николаевны. («Они там на Западе несчастненьких не любят», – безапелляционно заявила по этому поводу дочь.)
К посланию, отправленному в Париж, прилагались: фотографии самой Юлии Николаевны в возрасте 17, 33 и 42 лет; два фото Танечки, одно из них – на фоне ее новенькой машины «Пежо-106» («Пусть княжна не думает, что мы тут лаптем щи хлебаем!»), а также ксерокопии фотографий деда Николая, предполагаемого брата княжны. Приложена была и копия одного-единственного имевшегося общего, семейного фото. Оно было изготовлено в харьковской фотографии «Русская Светопись» (фотограф М. Лещинский, в собственном доме на Сергиевской площади, около Лопанского моста) и датировано 1916 годом.
На фотографии был запечатлен прадед Виктор Ильич Савичев (в исключительной манишке с бриллиантовой заколкой в галстуке и дорогом – это было видно даже сквозь годы – костюме). Он помещался в центре многочисленного семейства. Его окружали жена и семеро детей разного возраста. Несколько на отшибе стоял старший сын, подросток Николай (дед мамми), в гимназической форме и с тщательно прилизанными волосами. А вот на коленях у князя Виктора Ильича Савичева сидела годовалая девочка в чепчике. Именно она, по всей видимости, превратилась со временем в княжну Савичеву-Фрайбург, живущую ныне в пригороде Парижа Анган-ле-Бен.
Спустя три недели от княжны пришел ответ. Отправлен он был DHL'ом, посему добрался от пригорода Парижа до спального московского района за полтора дня. Ответ представлял собой довольно объемистую посылку, в которой, помимо письма, имелись следующие предметы. Во-первых, был там зачем-то пакетик мюсли (точно такие продавались в супермаркете рядом с Таниным домом); во-вторых, ксерокопия фотографии князя Савичева – на ней он был запечатлен в гордом и надменном одиночестве. В-третьих, коробка духов «Шанель № 5», предназначавшаяся в подарок Юлии Николаевне; и, в-четвертых, золотой кулон с двумя вензелями В и С – семейная реликвия, принадлежавшая некогда князю Савичеву. Кулон предназначался, как единственная память о князе, «наследнице (а именно так писала княжна) Татьяне».
Кроме того, в письме содержалось подробнейшее жизнеописание самой Савичевой-Фрайбург. Письмо уже было не отстраненным, а горячим, искренним, порой даже сбивчивым.
Чувствовалось, что княжна Фрайбург-Савичева отбросила свою настороженность, сквозившую сквозь строки первого «разведывательного» послания. Она, похоже, искренне желала поделиться своей – уже, пожалуй, ставшей никому не нужной – жизнью со вновь обретенными русскими родственниками. Даже язык ее письма стал словно бы более русским.
После того как мама, княгиня Савичева («ваша, Юлия Николаевна, прабабушка», как писала престарелая княжна), перебралась вместе с нею, пятилетней девочкой, в 1921 году в Париж, для нее, равно как и для маленькой Веры, начались тяжелые времена. Сбережений не было. Помещались они в самых захудалых меблирашках на улице Тюрбиго. Княгиня, мать Веры, пошла работать шофером в парижском такси – благо еще в благополучном Харькове она лихо управлялась с «Пежо», который специально для нее купил тогда князь Савичев.
Когда Вера подросла, она пошла было, как сообщала своим русским адресатам, «работать официанткой в русскую столовую в одном из темных переулков неподалеку от улицы Пасси». Однако довольно скоро жизнь ее круто переменилась.
Она была замечена великой Коко Шанель и стала первой русской княжной, занявшей место на подиуме. В модельном деле Вера Савичева пребывала (как можно было понять из письма княжны) не на последних ролях.
В 1937 году к ней посватался барон Эрнст Фрайбург, и княжна Вера ответила на его предложение. У барона имелось достаточное состояние. Вплоть до начала войны семья ни в чем не нуждалась и прожила самый счастливый период своей жизни.
Когда нацистские войска заняли Париж, княжна Вера Савичева в отличие от своей великой патронессы не встала на путь коллаборационизма, а, напротив, вместе с мужем бароном Фрайбургом играла активную роль в Сопротивлении.
В 1942 году умерла мама, княгиня Савичева. Не последнюю роль в ее роковом сердечном заболевании сыграли безотрадные вести с фронтов в России. Княжна Вера и барон продолжали помогать Сопротивлению. Оба счастливо избегли ловушек гестапо и радостно встречали летом 1944 года в Париже американские войска и отряды генерала де Голля.
После победы над фашизмом княжна Вера продолжила свою работу манекенщицы, но уже не у Шанель, а у начинающего тогда самостоятельную карьеру Кристиана Диора. Она была у него моделью на самом первом показе в 1947 году, когда маэстро впервые продемонстрировал миру «новый взгляд», и продолжала оставаться на подиуме вплоть до 1953-го. После этого она занялась в «Доме Диора» кастингом.
Барон Фрайбург после войны вернулся к своему делу – биржевым спекуляциям.
«После смерти Диора и прихода в «Дом Диора» Ива Сен-Лорана, – писала далее княжна Савичева-Фрайбург, – я оставила службу. Моих и мужа скромных накоплений хватило для того, чтобы жить ежели не в достатке, то безбедно в своем доме в пригороде Парижа Анган-ле-Бен. Мы много путешествовали, изъездили весь свет, побывали даже в Канаде, Бразилии и Новой Зеландии – вот только в России не удалось. Мой муж уверял меня – даже после того, как умер Сталин, – что, едва мы сойдем в Москве с трапа самолета, сразу же будем схвачены и отправлены на воркутинские рудники… Теперь Эрнст умер. Я слаба, редко даже выхожу из дому, поэтому мечту о моей далекой Родине, которую я знаю лишь по двум-трем темным детским воспоминаниям и иллюстрированным парижским журналам, придется оставить навеки».
Мамми вздыхала над письмом и даже всплакнула, когда читала о жизни этой необыкновенной женщины, которой господь бог за все ее испытания и лишения, за смерть ее близких дал – в отличие от миллионов ее соотечественниц и ровесников, живущих в России, – все же утешение: в виде безбедной старости, сытой жизни и экзотических путешествий.
Таня, раскрыв посылочку из Парижа, прыгала на месте, радовалась золотому кулону, а главное, возможной перспективе получить в виде наследства особнячок в тихом пригороде французской столицы. О, это было бы колоссально – свой домик под Парижем! А может, к нему приложится еще и кругленькая сумма во франках?
Немедленно был снаряжен ответ княжне. Его также отправили экспресс-почтой. (За пересылку опять – но теперь уже совершенно безропотно – заплатила Татьяна.) В посылочку был вложен кирпич бородинского хлеба, баночка стерляжьей икры, изящная гжельская композиция и миниатюрная копия храма Покрова-на-Нерли, изготовленная из чистого серебра. Кроме того, там было несколько фотографий Татьяны, а также впервые написанное ею собственноручно письмо, где она благодарила за фамильный кулон.
Письмо было сдержанное, достойное, но в то же время как бы полное потаенной любви к престарелой родственнице.
Посылочку в Париж отправили в конце февраля, и после этого от «бабуленьки» (как окрестила княжну Татьяна) довольно долго не было ни слуху ни духу. («Как бы она там коньки не откинула без завещания», – озабоченно вздыхала порой Татьяна. Ее нарочитый цинизм вызывал бурное и искреннее негодование мамми.)
И вот наконец от княжны поступила новая депеша – депеша удивительная, невероятная. Ради нее Таня вынуждена была с утра пораньше вскакивать в «пежик» и срочно мчаться к мамми.
48-бис, рю-де-ла-Либерте, Анган-ле-Бен,
Париж, Французская Республика
Милые мои Юлия Николаевна и Танечка!
Прошу у вас извинения за то, что столь долго не отвечала на ваше письмо – тому были веские причины, о которых я расскажу позднее. Я душевно благодарна вам за те подарки, коими вы меня одарили. Право, мне неловко принимать их – особенно учитывая нелегкую ситуацию на моей несчастной и любимой Родине. Ваши дары еще раз доказали мне всю щедрость настоящей русской души – и всю вашу личную открытость и доверие ко мне. Спасибо, спасибо вам огромное за них, а также за те фотографии, что вы переслали мне, – я все время рассматриваю ваши лица и нахожу между мною и вами немало общего – разумеется, когда я была много, много моложе. Я очень благодарна вам также за ваши милые, теплые, изумительные письма. Бог в награду на склоне лет послал мне последний подарок – знакомство и дружбу с вами. Она, как солнце, озарила последние мои дни.
По поводу «последних дней» – это, увы, не метафора… Дни мои в самом деле сочтены. Об этом ясно и недвусмысленно дали мне понять врачи нашего, французского «ракового корпуса», где я провела последние полтора месяца. Сама же я чувствую, что до осени вряд ли доживу. Что ж, быть может, это к лучшему – прощаться с жизнью летом, когда сверкает листва и все вокруг напоено ароматами жизни и любви!
Мне очень жаль, что наше знакомство обрывается таким быстрым и нелепым образом. Видимо, господу не было угодно не только то, чтобы я посетила свою далекую родину, но и то, чтобы я хоть когда-нибудь встретила своих родственников из России. Увы, увы…
Но – прочь меланхолию! Перейду к делу. Разумеется, все свое состояние я завещаю вам. Однако – и это, возможно, покажется вам самым грустным, хотя мне не хотелось бы, чтобы вас печалило только это, – состояние мое, что неопровержимо показал отчет адвокатов, который я получила на днях, расстроено до последней возможной степени. На счету в банке не более десяти тысяч франков; дом заложен. После кончины барона я, отученная им от этого, вовсе не умела вести свои дела. Оказывается, моя жизнь в последние годы совершенно расстроила мое состояние. Я не умела отказывать себе в маленьких радостях: игре в казино, поездках (пока была в силах) на Лазурный берег, нарядах от моих любимых модельеров. В этом я виновата перед вами и перед господом.
Но есть еще шанс как-то помочь вам в ваших, я думаю, стесненных материальных обстоятельствах (простите меня за этот неприличный, возможно, домысел) и отблагодарить вас обеих за то бескорыстное добро, с которым вы отнеслись ко мне, далекой престарелой родственнице.
Дело в том, что – я знаю это наверняка – мать моя во время бегства из советской России, в суматохе последних дней, когда прорыв большевистских полчищ смешал все наши планы и надо было спасаться как можно быстрее, оставила на окраине приморского города Южнороссийска настоящий клад. Чемодан с сокровищами был спрятан в столь укромном и неудобном месте, что она, тем более имея на руках меня, четырехлетнюю, не сумела достать его перед отплытием из Южнороссийска последнего парохода Добровольческой армии. Клад так и остался на территории России, куда мы, по известным причинам, не имели доступа. Конечно, за восемьдесят без малого лет, а также после двух войн, прокатившихся на этой территории, и «советского социалистического строительства» осталось немного шансов, что сокровища так и не были кем-то по воле случая найдены. Однако место, где помещался чемодан, столь укромно, что эти шансы – есть.
Мама моя, перед своею кончиной в 1942 году, доверила мне тайну клада, вместе с подробной картой его местонахождения.
В чемодане были наши фамильные драгоценности (в том числе бриллиантовые подвески и яйцо работы Фаберже), золотые монеты, но главное – отцовская коллекция молодых (в то время) художников. Художники эти, шумно отвергавшиеся чуть ли не всеми, за исключением, пожалуй, одного моего отца, князя Савичева (известного своими эксцентрическими вкусами), со временем стали всемирно известными, а полотна их, особенно сейчас, – чрезвычайно дорогими. Помню, мама называла мне в числе тех произведений, что таятся в сокровенном чемодане, работы таких авторов, как Кандинский, Ларионов, Шагал, Малевич… Думаю, что имена эти вам хорошо известны и вы согласитесь с тем, что стоимость этих полотен нынче весьма и весьма высока.
Я была бы рада и счастлива, милые Юлия Николаевна и Танечка, когда бы вы нашли этот клад. Далее поступайте с ним на свое собственное усмотрение. Мне, как вы понимаете, ничего уже не нужно. Если богатства нашей фамилии сохранились и они помогут обеспечить вам богатую жизнь – ничего лучшего я и желать бы не могла.
При сем прилагаю копию той карты, которую завещала мне моя мама. (Ее оригинал хранится в моем сейфе в банке.) Карта, как вы можете убедиться, весьма тщательна и подробна. Место расположения клада, я повторюсь, столь укромно, что это дает надежду полагать: за прошедшие десятилетия чемодан с золотом и картинами никто не нашел. Как бы я хотела, чтобы это так и было! Чтобы сокровища достались вам, мои дорогие далекие родственники! Я была бы так счастлива обеспечить вам достойную жизнь.
К письму прилагались три тщательно нарисованные от руки карты – одна более подробная, другая менее, третья – совершенно отчетливая. Был проставлен примерный масштаб, а в искомом месте (совсем как в романах про пиратов) стоял аккуратный крестик.
* * *
Юлия Николаевна не спала всю ночь.
И к двум часам, когда Таня, наконец, объявилась, ей было торжественно прочитано письмо.
– Вот это класс! – восторженно закричала Таня. – Клад, клад! Свой собственный клад! Когда там ближайший самолет в Южнороссийск?
– Ты с ума сошла! Да у твоей бабуленьки просто крыша поехала!..
– Она же сейчас поехала, а клад сто лет назад зарыли!
– Да даже если были сокровища, их давным-давно бы вырыли! Восемьдесят лет прошло!
– А если не вырыли? Ты будешь тут картошку на сале жарить – а у тебя там миллионы будут гнить?!
– Какие миллионы?! Бред все это! Старческий маразм!.. Ну, а, допустим – я говорю «допустим», хотя шансов на это нет, – отроешь ты эти картины? И что? Сдавать государству? Да оно обманет тебя почище любой бабуленьки!
– Государству? Ха! Ну уж нет!.. Много тебе это государство хорошего сделало?.. Клад – наш! Сама его продам, на аукционе «Сотбис». Или «Кристи».
– Так ведь посадят!
– Не волнуйся. Сажают – дурачков. Меня – не посадят.
Так они препирались на повышенных тонах минут сорок, а потом разъехались – крайне недовольные друг другом. И остались каждая при своем мнении.
* * *
Таня часто перечила матери. Впрочем, «часто» – слишком слабо сказано. Татьяна выполняла советы Юлии Николаевны «с точностью до наоборот» в девяти случаях из десяти. А еще вернее – в 99 случаях из ста.
Оттого, во-первых, что она считала мамин подход к жизни слишком простым, излишне прямолинейным. Мамми, по мнению Тани, не учитывала всего разнообразия красок жизни, где, как известно, есть не только «белое или черное», но царят полутона и господствуют оттенки. Отношение Юлии Николаевны к жизненным проблемам, считала Таня, годилось для советского месткома. Оно было подходяще для силовых действий, когда надо было настоять, обломать, призвать, наградить или возвысить. Повелевать мамми была известная мастерица. Но для нынешней извилистой жизни «месткомовский» рубленый стиль отнюдь не годился. В том, что таланты Юлии Николаевны так и не были в полной мере востребованы нагрянувшим капитализмом, Таня видела лучшее доказательство того, что мать «устарела». (Ей она, конечно, ничего по этому поводу не говорила.)
Таня по обыкновению поступала наперекор матери еще и потому, что в ней был до сих пор силен дух детского противоречия. Сколько себя помнила, она всегда и во всем перечила матери. Когда была маленькой, ей приходилось – с криками, слезами, скандалами – повиноваться. Но как только у Тани – по мере взросления – появлялась возможность не подчиниться матери, она всякий раз поступала ей наперекор.
Поэтому она, выйдя из квартиры матери, первым делом, конечно же, отправилась к Валере.
Она не стала звонить ему. Просто, попрощавшись с Юлией Николаевной и прихватив с собой письмо и карты княжны, уселась в свой красный «пежик» и поехала в сторону Кольцевой.
Валера жил в районе ВДНХ, и Таня правильно рассчитала, что от Рязанского проспекта к нему теперь, после окончания реконструкции МКАД, легче всего добраться через «Большое кольцо имени Лужкова». Путь хоть и кружный, да по московским пробкам самый быстрый. К тому же Таня любила эту дорогу. Она, несмотря на молодость, побывала уже в Чехии, Германии, Италии. Довелось ей помотаться на арендованных машинах по тамошним дорогам. Там автострады были ничем не лучше, чем нашенская Кольцевая.
Несясь по МКАД на своем «Пежо», она чувствовала себя белым человеком. Точнее – гражданкой мира. Цивилизованного мира, в который не спеша, словно броненосец, вползает Россия. И она неосознанно радовалась этому и гордилась своей страной.
Правда, это чувство быстро пропадало, когда она съезжала с Кольца и влетала в ухаб.
Через пять минут после прощания с матерью Татьяна подъезжала к Кольцевой. Пристегнула перед постом ГАИ ремень, сделала ручкой гаишнику и вырулила на Кольцо. Быстро набрала скорость. Ездила она стремительно, но аккуратно – совсем не по-женски: практически никогда не создавала аварийных ситуаций и не терялась. Таня разогналась, быстро переключая передачи и перестраиваясь влево. Уже метров через пятьсот она перешла на пятую передачу и заняла место в крайнем ряду. «Пежик», довольно урча, стремительно разогнался до 130 километров. Теперь она будет сбрасывать скорость только перед гаишными телекамерами, постами ГАИ или каким-нибудь чайником на раздолбанной «четверке», который возомнит, что ему тоже позволено ездить в «иномарочном» левом ряду. Минут за сорок она доедет до Валеры.
Валера приходился ей отчимом.
Своего отца Таня не знала. Она не видела его фотографий. Она не знала, как родители познакомились. Не знала, отчего они – еще до ее рождения – расстались. Она не ведала, кем он был. И даже – как его звали. Мать до сих пор с твердокаменным упорством избегала любых разговоров на эту тему. «Я вычеркнула его из своей жизни!» – однажды она в своем обычном патетическом стиле так ответила на очередные приставания Тани. И это было похоже на правду.
Валера был вторым мужем Юлии Николаевны. Поженились они, когда Танечке было годика четыре, так что она вполне могла и называть, и считать его папой. Но с самых малых лет Таня отчего-то знала, что Валера – вроде папы, да не папа. И называла Юлию Николаевну мамой, а его – Валерой. Ни мать, ни отчим не возражали.
Они развелись уже лет десять назад, но Танина детская привязанность к этому толстому спокойному человеку осталась у нее на всю жизнь. Она называла его по-прежнему, как в детстве, Валерой, а еще – в глаза и за глаза – «толстячком», «пузаном», «пантагрюэлем», «ниро вульфом» и даже «жиртрестом». И – удивительное дело! – этот серьезный, строгий и умный человек позволял падчерице любые выходки. Он прямо-таки млел, когда она приезжала к нему, привозила пирожные, целовала в жирную щеку, обильно пахнущую одеколоном, расспрашивала его о жизни или просила совета. Едва ли не каждый месяц Валера подкидывал ей деньжат, как он сам называл этот процесс. В своей сумочке Таня находила вдруг после визитов к нему конверты то со ста, то с двумястами долларами. Как он проделывал этот фокус, она до сих пор не понимала. Проследить за Валерой было так же трудно, как за Амаяком Акопяном. Когда же Таня начала хорошо зарабатывать и попробовала однажды проиграть этот фокус «наоборот», случайно позабыв на книжной полке Валеры конверт со ста баксами, он устроил ей грандиозную выволочку и деньги чуть не силой всучил назад.
Валера давно уж был на пенсии. Во-первых, был он старше Юлии Николаевны на пятнадцать лет, а во-вторых – и об этом Таня узнала совсем недавно, – работал он (или в данном случае правильней сказать «служил»?) в КГБ. Дослужился до полковника. На пенсии пребывал девятый год.
Чем занимался Валера во время службы в столь могучей и даже зловещей организации – он никогда не рассказывал. В сознании Тани как-то не сочеталось круглое доброе лицо Валеры – и спецслужба. Но по каким-то обрывкам фраз (скопленных едва ли не за десятилетие ее поездок к нему) Татьяна сделала вывод, что отчим в последнее время не имел отношения к оперативной работе, а был экспертом, аналитиком или чем-то вроде того.
Пенсионная жизнь Валеру, казалось, вовсе не тяготила. За эти годы он еще больше обрюзг. Хотя вот уже лет десять отчим приговаривал, что весит, как Поддубный, шесть пудов, Таня подозревала, что сейчас в нем пудов семь, а то и семь с половиной. Жил он в однокомнатной квартирке в старом доме неподалеку от «Рабочего с колхозницей». Маленькая комнатка, крохотная кухня. Вот все, чем наградила самая могущественная спецслужба мира полковника Ходасевича. Машины, равно как и дачи, Валера не снискал. Зато были горы книг, огромный телевизор и суперсовременный HI-FI видеомагнитофон.
Таня так уверенно поехала к нему, предварительно даже не позвонив, потому что знала: толстяк все равно окажется дома. Выползал тот на улицу всего раз в неделю, обычно по четвергам: закупал на оптовом рынке продукты и сигареты, заходил в аптеку и прачечную. Заглядывал в книжный магазин и видеоларек. Сегодня была пятница, поэтому Валера, как и все остальные дни недели, почти наверняка сидел дома.
Чем он занимался? Готовил пищу (его щи из кислой капусты, тефтели, борщ или бигос – капуста с сосисками – были куда вкуснее, чем у матери). В остальное время отставной полковник Ходасевич читал, смотрел телевизор и видео. Его единственная комната ломилась от книг и видеокассет. Полки все были заняты. Книги толпились на полу. Закрытый шкаф был весь забит видеокассетами. Их насчитывалось, наверное, тысячи две. Количество книг учету не поддавалось. Порой Валера отказывал в просьбе Тани дать ей ту или иную кассету или же книгу, но не оттого, что их не было в коллекции или он жмотничал, а потому, что их просто невозможно было найти. Вкус у Валеры был своеобразный. Смотреть он предпочитал боевики с Синтией Ротрок, Дольфом Лундгреном или Стивеном Сигалом. Не отказывался, впрочем, и от Джеймса Бонда, и от редких умных американских или английских детективов (вроде «Окончательного анализа»). Читал он тоже (при том, что прекрасно разбирался во всей мировой литературе от Плутарха до Бродского) в основном детективы.
Пару раз Таня заставала его у экрана видео с тетрадкой в руке. Она подозревала, что он совмещает хобби с работой и составляет для своего ведомства что-то вроде обзоров шпионских уловок и бандитских киноприемчиков, которые придумывали неутомимые сценаристы. (Известно, что самые эффектные – и порой эффективные! – методы ограблений или шпионажа изобретают именно мастера детективов.) Но на прямые вопросы по поводу записей в таинственную тетрадь толстяк только отшучивался.
Погруженная в свои мысли, аккуратно ведя машину и так ни разу не переключившись с пятой передачи на низшую, Таня за пятнадцать минут долетела от Рязанки до Ярославского шоссе. Прокрутившись по грандиозной многоуровневой развязке, она выехала на Ярославку и порулила в сторону Центра. Здесь машин было больше. Приходилось долго стоять перед светофорами. Выхлопные газы фур, везущих в столицу черешню, клубнику и раннюю картошку, проникали сквозь открытые окна машины. Таня держалась справа, проныривая на своем юрком «пежике» в те щели, что оставляли грузовики у тротуара. Вырывалась вперед у светофоров. На старте она обгоняла даже «СААБы» и «Мерседесы» – не говоря уже об изделиях отечественного автопрома.
Очень быстро она доехала по Ярославке до места своего назначения. Свернула направо на тихую улицу и через пару минут остановила «Пежо» в тихом дворе Валериного дома.
Подудела условным сигналом: «Па-па! Па-па-па!» В окне на первом этаже немедленно появилось одутловатое лицо Валеры. Он радостно замахал ей сквозь стекло.
Когда она поднялась по нескольким ступенькам, он уже встречал ее в распахнутых дверях – в гигантской футболке размера XХXL, которую Таня привезла ему из Праги, в сатиновых спортивных штанах и разношенных тапочках на толстых ступнях.
– Привет, Валерка! – закричала она, целуя его в тщательно выбритую и ароматную щеку.
– Здравствуй, Танюшечка! – радостно облапил он ее. – Похорошела, моя девочка! Стрижечку новую сделала, что ли?
Тане было приятно, что он заметил. Мать по поводу новой прически ничего не сказала.
– И кофтюля новенькая, – продолжал Валера. – Очень идет тебе.
Таня, как всегда в присутствии Валеры, почувствовала себя спокойно и свободно.
– Проходи, Танюха! Очень ты вовремя! Я как раз только щи сварил из кислой капустки. Каша гречневая есть с печеночкой. Салатик из морковки. Компотик яблочный… Потом кофе будем пить с коврижкой.
– Чревоугодничаешь? – улыбнулась она. – Тогда на вот тебе для полного счастья. – Таня протянула отчиму пакет с двумя брикетами пломбира.
– О, мое любимое! – воскликнул Валера. – Все-то ты про меня знаешь!
– Я – про тебя?.. Да я про тебя, кроме того, что ты любишь есть и детективы смотреть, ничего больше знать не знаю. У тебя женщина хоть есть?
– Есть девушка. Красивая, обаятельная, умная, молодая. С новой стрижечкой, в прекрасной новой кофточке. Ездит на красной французской машинке.
– А ну тебя!
Они прошли в комнату. Она тонула в сизом дыму. Три пепельницы были полны окурков.
– Ну накурил! – воскликнула Таня, отворяя окно в солнечный майский день.
– Ничего: лучше помереть от дыма, чем от озноба, – привычно отшутился Валера.
– Да еще ядовитые эти свои «Родопи» куришь. Хочешь, я тебе «Мальборо» куплю?
– Нет, дорогая, кашляю я от них… Ну, садись, а я пойду на кухню, щи греть. Можешь пока детективчики полистать – вчера купил. Вот тут Маринина. Есть Полякова какая-то. Есть сразу две Анны Малышевых, причем разные.
Таня скривилась:
– Как ты можешь читать эту лабуду!
– Приходится… А вот это получше – Том Клэнси, Сидни Шелдон, Джон Гришэм…
– Лучше Ниро Вульфа никого нет… Правда, толстячок? Как там твои орхидеи?
– Никак не приживутся. Садовника Фрица не хватает, – отшутился Валера и ушлепал на кухню.
Таня была воспитанной девушкой, и поэтому за едой они говорили только о книгах, новых фильмах и немного о политике. Только за чаем она глубоко выдохнула и сказала:
– Вообще-то, Валер, я к тебе по делу.
Отчим отреагировал спокойно:
– Знаю. Твоя мама приезжала сегодня утром («Мне, конечно, ничего не сказала», – отметила Таня). И умоляла, чтобы я тебя от этого дела отговорил.
«Ах, вот они как! – сердито подумала она. – Уже спелись!» Чуть ли не впервые в жизни она обиделась на отчима:
– Ну что ж, валяй, отговаривай!
Валера не отреагировал на непривычно резкий тон. Он спокойно попросил:
– Дойди, Танюшечка, до книжного шкафа… Верхний ящик открой…
В верхнем ящике лежала огромная, широкая и толстенная книга в дерматиновом переплете.
– Давай сюда.
Валера открыл книгу в том месте, где она была заложена закладкой. Книга оказалась атласом. Причем не обычным, рисованным, а состоящим из фотографических изображений Земли.
Фото были сделаны с высоты птичьего, а точнее сказать, спутникового полета. На странице, которую открыл Валера, было видно море и берег (карта была изготовлена столь тщательно, что различимы были даже мостики, выдающиеся в море на пляжах). Была видна бухта. На рейде стояли корабли. Вокруг бухты полукольцом раскинулся город. Проступали отдельные дома, волноломы, маяки. Надпись гласила: «Южнороссийск».
Валера перелистнул страницу. Теперь в атласе изображалась только окраина города Южнороссийска и горы, покрытые лесами. Горы перерезались дорогами. На одной из гор располагалось кладбище. Был виден мыс, кусок моря и длинная коса, выдающаяся глубоко в воду.
Даже беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять: две карты – одна, присланная княжной, и другая, в Валерином атласе, практически совпадают. Только на одной из них, нарисованной от руки, где-то на склоне горы стоит жирный крест.
* * *
Москва, декабрь 1972 года.
За 27 лет до описываемых событий
В тот день Антон сдал последний зачет и решил поехать на Таганку. Изрядно надоело керосинить – по поводу или без повода – в общаге или идти в ресторан. Театр в одиночестве будет в самый раз.
Около шести он вышел из метро «Таганская-кольцевая». Сразу у выхода у него спросили лишний билетик. Антон грустно покачал головой. Скоро он присоединится к этой толпе страждущих.
Уже стемнело. Театр, лучший в Москве, Мекка всей либеральной интеллигенции, выглядел скромно, словно киношка в провинциальном городе. Вдоль окон касс висели, будто прокламации, прямоугольные афиши. Стояла оттепель. Площадка перед театром была темна, ее освещали лишь пара редких фонарей да свет, падающий из окон касс. По Большой Коммунистической, уходящей мимо театра вниз, к высотке на Котельнической, проезжали редкие машины. Из-под колес выстреливало снежной жижей.
Антон посмотрел афишу. (Где-нибудь в другом месте о репертуаре театра узнать было невозможно.) Сегодня давали «Антимиры». Кайф! «Антимиры» он еще не видел. Стихи Вознесенского, а занята вся труппа, в том числе Филатов, Золотухин, Славина, Демидова и, конечно, Высоцкий.
Антон не разделял всеобщего восторга толпы перед Высоцким-бардом. Все эти плебейские тексты – «А потом как могла – родила…» – его коробили. Но Высоцкого-актера Антон обожал. Недавно ему посчастливилось вот так же, наудачу, приехать к премьерному «Гамлету», о котором говорила вся Москва. Удалось успешно «аскануть» лишний билетик и попасть в крохотный зал.
И спектакль, и Высоцкий его потрясли. Гамлет в джинсах, грубом свитере, с гитарой… А какая мощь исходила от него, какая сила, какой магнетизм!.. Антон вместе с залом хлопал тогда минут десять, отбил себе все ладоши.
На узкой площадке перед театром уже крутилось несколько «стрелков». Трудно поверить, но тогда – при том что ни одно место в театре ни на один спектакль не оставалось свободным – рядом с Таганкой не было перекупщиков-спекулянтов. Перед спектаклем в кассах выбрасывали жалкие остатки брони, на улице продавали редкие «лишние билетики», и ни разу Антон не видел – а на Таганке посмотрел он практически все спектакли, – чтобы за «лишние» брали хоть рубль сверху.
«Хороший бизнес, – мимоходом подумал Антон, – скупать билеты, потом продавать их втридорога. Да очень уж опасный. Все время на виду. Любой дружинник может из-за одного наваренного рубля повязать, и… Посадить-то, может, и не посадят, а вот из института и из комсомола турнут точно». Антон отогнал эти мысли.
Было уже четверть седьмого, и он занял свою излюбленную позицию чуть левее от входа. Странно, но при том ажиотаже, что царил вокруг Таганки, еще не было случая, чтобы он не стрельнул лишний билет. Он разбирался в людях, умел мгновенно оценить, что за зритель идет от метро ему навстречу. Понапрасну народ не дергал, «бил уверенно, наверняка», когда видел, нюхом каким-то чувствовал: вот идет человек, у которого билет может быть. Подскакивал к нему первым, спрашивал, быстро, без сдачи, расплачивался. Когда налетала толпа конкурентов, заветный зеленоватый прямоугольник уже лежал у Антона во внутреннем кармане.
Выглядел он к тому же весьма презентабельно. Да такому парню продать билетик – самому себе удовольствие доставить. Высокий, голубоглазый, с бархатным голосом. Болгарская дубленка, под ней, хоть «лейбла» и не видно, угадываются явно фирменные джинсы.
Особенно часто он стрелял билетик у грустных – кавалер не пришел! – молодых особ. Зачастую тут же, в театре, и завязывалось перспективное знакомство.
Начинать стрелять было еще рановато, от метро шли такие же «аскачи» да редкие зрители, и Антон исподволь оглядел конкурентов. Рядом с ним стояли две девушки. Одну, толстуху, Антон отмел в качестве возможного кадра сразу же, а вторая, маленькая, крепенькая, была очень симпатична. Голубые глазки, ямочки на щеках. В ней чувствовались ум и воля. Антон посмотрел на нее долгим взглядом. Она ответила на его взгляд, смутилась, отвернулась. Он почувствовал, что тоже понравился ей. Электрическая искра, столь любимая в старых романах, казалось, проскочила между ними. Предчувствие любви, частое в юные годы, шевельнулось у него в груди. Словно сердце, прежде чем снова забиться ровно, несколько раз дало перебои.
Толстуха между тем – почувствовала она, что ли, возникшую мимолетную их тягу друг к другу и взревновала подругу? – утащила «его» девушку внутрь театра, в кассы.
Зритель пошел гуще. То там, то здесь вспыхивали лишние билетики, вокруг счастливцев мгновенно образовывалась толпа, потом все расходились – один везунчик с билетом в кулаке, остальные разочарованные. Билетики возникали так далеко, что Антон даже не трудился подбегать. Не везет ему сегодня. Сменить, что ли, диспозицию? Но он не стал этого делать – не столько верный своей привычке быть до конца именно там, где с самого начала подсказала ему интуиция, сколько из-за девушки. Он знал, что она вернется – вернется именно сюда, где они впервые увиделись.
Напряжение в толпе «стрелков» между тем нарастало. До начала спектакля оставалось всего лишь четверть часа… Вот, вот она!.. Он заприметил «носительницу билета», еще когда она вышла из метро. Женщина лет тридцати. Одна. Одета красиво. Грустная. Ясно – неведомый он не смог пойти. И хотя она отрицательно покачала головой на вопрос «стрелков», стоящих у выхода из метро, Антон не сомневался – лишний у нее есть. Он через дорогу бросился ей наперерез. Но еще раньше подскочил к ней долговязый очкастый парень, похожий на юного князя Мышкина. Она посмотрела на «князя», кивнула и полезла в сумочку. Антон подошел, увидел, как тот расплачивается, и не унизился до вопроса, нет ли у нее еще билетика. Ясно было, что нет. Он вернулся на свое место.
Из касс вернулись, разочарованные, толстуха с «его» девушкой. Девушка снова одарила Антона долгим взглядом.
Тут у театра притормозила редкая машина – новейшие «Жигули» ярко-красного цвета. Остановилась она как раз рядом с девушками. Пассажирская дверь машины широко распахнулась, и из нее вылез Высоцкий. Был он хмур. Дубленка распахнута. «Почти такая же, как у меня, только, наверно, все же не болгарская, а итальянская – Марина Влади, верно, привезла», – мимоходом удовлетворенно подумал Антон. Не закрывая дверь авто, актер недовольно бросил в темноту машины кому-то: «Ну, будешь ты мне еще рассказывать!», с силой захлопнул дверцу и ступил на тротуар. К нему подскочил «князь Мышкин» и, даже не понимая, кто перед ним находится, закричал: «Нет ли лишнего билетика?» «Куда тебе-то еще один», – неприязненно подумал о «Мышкине» Антон.
Высоцкий, грустно улыбаясь, покачал головой. Лицо его при виде толпившихся поклонников театра и аншлага тем не менее перестало хмуриться. Тут к поэту подскочили толстуха с подругой. «Владимир Семенович, контрамарочку, умоляю!» – запищала толстуха. Высоцкий остановился, внимательно и чувственно посмотрел на голубоглазую, и Антон, безо всяких на то оснований – он имени ее даже не знал! – ощутил мгновенный укол ревности. Лицо актера между тем разгладилось, он улыбнулся, достал из кармана дубленки заветную белую бумажку. Игнорируя толстуху, быстро отдал контрамарку «девушке Антона» и стремительным шагом, как нож сквозь толпу «стрелков», прошел к главному входу в театр. «Высоцкий, Высоцкий», – прошелестело в толпе.
«Ура!» – завопила толстуха на всю площадь. «Девушка Антона» скромно улыбнулась. Бросила взгляд на Антона – взгляд, в котором одновременно читались радость удачи, извинение за то, что ей, а не ему повезло, и сожаление, что они расстаются. Расстаются, похоже, навсегда. Толстуха уже тащила ее в театр. «Это Высоцкий, я видела, сам Высоцкий!» – возбужденно тараторила она. Девушки исчезли за дверями театра.
Положение Антона становилось отчаянным. Было уже без трех минут семь. Мало того что он не попадал на спектакль – «Антимиры» можно и потом посмотреть, не последний раз играют, – а вот девушку Антон мог видеть последний раз. Или ждать окончания? Нет, на такой подвиг верности Антон был не способен. И тут он сделал то, чего бы не сделал, когда б не голубоглазая, никогда в жизни. Он вскинул руку кверху и закричал на всю площадь: «Червонец сверху за лишний билет!» От него испуганно отшатнулись. Двое-трое «искусствоведов в штатском», в своих тяжелых черных пальто, стоявшие среди театралов, проницательно посмотрели на Антона. Вокруг него в толпе мгновенно образовалась пустота.
Спустя минуту тем не менее к нему подошел хмыреныш, одетый чуть ли не в телогрейку, и прошептал: «У меня есть билет. Давайте отойдем». «Есть, есть, оказывается, и здесь, в очаге света и интеллектуальной оппозиции, «спекули», – подумал Антон. – Деньги все-таки много значат даже и при социализме. Это хорошо». Они с хмырьком отошли, как бы не зная друг друга, за угол театра. Там Антон стремительным движением сунул, прикрывая червонец ладонью, деньги спекулянту. Тот не менее стремительно и тайно передал ему билет. Антон все ж таки осмотрел зеленый клочок бумаги с красно-черным квадратом в левом углу. Все правильно: 21 декабря, «Антимиры», начало в 19 часов, ряд 7, место 18.
Через минуту Антон был уже в фойе. Тут все жужжало в предвкушении начала спектакля. Здесь были студенты, непризнанные поэты, завмаги, космонавты, сотрудники бесчисленных НИИ, журналисты, партийные работники, иностранцы. Словом, самый цвет Москвы. В углу фойе стояла елка, но не такая, как всюду: с шарами, дождиком и красной звездой на макушке, – а особенная. Елка на Таганке была нагая, без единого украшения и почему-то наклоненная, словно Пизанская башня.
С высоты своего роста Антон стал оглядывать фойе в поисках девушки. Надо застать ее сейчас – спектакль, кажется, идет без антракта. И тут он увидел ее. Она стояла совсем рядом и расчесывала перед зеркалом роскошные золотые волосы. Толстухи подле не наблюдалось. Девушка увидела отражение Антона позади себя в зеркале и улыбнулась ему, как старому знакомому. В ее улыбке была радость и за него, что он добился и попал-таки на спектакль. И от того, что судьба, навеки, казалось бы, разлучившая их, дает им еще один шанс. Антон понял, что будет разнаипоследним олухом, если не подойдет к ней сейчас же, не откладывая ни секунды.
– Эту контрамарку вы будете хранить всю жизнь, – нагибаясь над девушкой, сказал Антон ее отражению в зеркале. Он ненавидел пошлые мужские первые фразы («Вы не знаете, который час?») и с каждой новой девушкой придумывал, сообразно моменту, что-нибудь оригинальное.
– Потому что мне ее подарил Высоцкий? – спросила она, не оборачиваясь, у его отражения. Голос у нее был красивый, мягкий и низкий.
– Нет, потому что она познакомила нас с вами, – дерзко сказал он.
Никто из них, ни он, ни она, не догадывались, что это игривое предсказание-треп в самом деле сбудется.
* * *
Москва, 1 января 1973 года
Общага бушевала. То и дело по коридору, как слоны, топотали ребята. То там, то здесь за тонкими стенами раздавались громовые взрывы хохота. В комнате рядом раз за разом заводили «Мисс Вандербильд» – последний хит Пола Маккартни, каким-то чудом уже через пару недель после выхода диска в Англии просочившийся в СССР сквозь железный идеологический занавес. «Хоп! Хей-хоп!» – орал магнитофон. Народ за стенкой подхватывал припев и грохотал, танцуя.
А в этой комнате было темно и тихо. Девушка лежала голая на кровати и плакала. Антон стоял у окна и смотрел на огромную изукрашенную елку во дворе общаги. Новый год. Новогодняя брачная ночь. Новогодняя первая брачная ночь. «Вот незадача, – подумал он. – Кто ж знал, что она – девушка. Теперь хлопот не оберешься».
Антон отвернулся от окна. В темноте комнаты угадывались четыре кровати, две тумбочки, шкаф. На полу в беспорядке валялась их одежда. Свет от блеклого фонаря освещал ее обнаженную спину. Лицом она уткнулась в подушку. Временами слышались всхлипы.
Антон присел на кровать. «Ну будет, будет», – потрепал он ее по плечу. Вдруг она порывисто повернулась и села в кровати. Щеки ее были мокры. Груди, замечательные, роскошные груди, смотрели прямо на него. У него вновь возникло желание.
– Ты меня любишь? – строго, словно прокурор, спросила она. Глаза ее в темноте смотрели пристально.
– Ну конечно, – вяло ответил он.
– Скажи: ты любишь? – снова вопрошала она.
– Да, конечно, я люблю тебя, маленькая.
– Я тебе не маленькая! – закричала девушка. – Не называй меня так!
– Хорошо, хорошо, – умиротворяюще проговорил он. – Ты – миленькая, хорошенькая, дорогая… И я очень тебя люблю.
Она обхватила его руками и зарыдала теперь уже на его плече. «Только ни в коем случае не надо обещать жениться», – отстраненно подумал он и стал целовать ее шею, волосы, щеки, мокрые от слез. Потом он опустил ее на кровать и принялся целовать грудь. Жар желания затопил все его мысли…
«Хоп! Хей-хоп!» – заорали за стеной друзья-студенты, в очередной раз подпевая Маккартни.
* * *
Шоссе Москва – Южнороссийск,
май 1999 года
«Пожалуй, мне все-таки страшно», – подумала Таня.
Она решилась на это. Она едет на юг. Сама. И не надеется ни на чью помощь. Полагается только на собственные силы и на свою машину.
Ее «пежик» беззаботно и резво катит по Каширскому шоссе, удаляясь от Москвы.
«Пежик», ее любимый и ненаглядный автомобиль, казалось, ничего не боится. Он абсолютно уверен в том, что не сломается по дороге и вместе со своей хозяйкой благополучно доберется до Черного моря.
Таня тоже не беспокоится о том, что ей придется чиниться в какой-нибудь дыре. «Пежо» – это вам не старая зеленая «копейка», на которой Таня училась водить. «Копейка» как будто обижалась на то, что на ней ездит новичок, сердилась из-за того, что Таня слишком резко бросала сцепление и опасно тормозила… Поэтому и ломалась часто. Таня на ней не то что на юг – в ближайший пригород боялась выезжать. Особенно после того, как морозным ноябрьским вечером у нее «полетел» бензонасос. Таня тогда так намерзлась, дожидаясь чьей-нибудь помощи, что потом неделю валялась с тяжелейшей ангиной – ни водка, ни горячая ванна не помогли.
Но уж «пежик»-то ее не подведет – это Таня знала. Не беспокоилась она и о том, что будет делать, когда доберется наконец до заветного сундучка. Таня жила сегодняшним днем. До сокровищ еще далеко. Доберемся до них – там и будем думать.
Сейчас ее волновали возможные дорожные приключения. Ведь на дорогах встречаются бандиты – могут не только машину отобрать, но и хозяйку прикончить. А прилипчивые провинциальные гаишники – вдруг прицепятся к одинокой девушке на новенькой иномарке? Есть еще и крутые шутники на джипах, которые обожают притираться к женщинам за рулем…
«Надо было бы взять кого-нибудь с собой, – думала Таня. – Только кого, черт возьми, кого? Печального Гарика? А какой с него толк, с этого Гарика…»
Таня вспомнила, как однажды ее машину – ту самую битую-перебитую «копейку» – поцарапало крутое «БМВ». Она как раз припарковалась во дворе и подкрашивала губы, глядя в зеркало заднего вида. Печальный Гарик сидел рядом, на пассажирском сиденье, и восхищенно за ней наблюдал. Он всегда смотрел на нее так – с восхищением и с каким-то беспомощным обожанием.
Тут-то «БМВ» и въехало ей в левое крыло. Вмятина, конечно, получилась курам на смех, но ведь обидно! А еще обидней было то, что «БМВ» спокойно проехало вперед и встало впереди Тани. Из машины вышли двое «крутых» и не спеша направились к подъезду – как будто ничего и не случилось…
– Игорь, сделай же что-нибудь! – отчаянно крикнула Таня. Но Гарик как будто окаменел. Он молча сидел в машине и явно не собирался из нее выходить.
Тогда она сама фурией выскочила из своей поцарапанной «копейки». Догнала «крутых». И вцепилась в рукав одному из них.
– Ты что, гад, совсем охренел?
«Крутой» ошарашенно посмотрел на Таню – какая-то сопля на дряхлой «копейке» посмела его обозвать? Его рука автоматически потянулась к внутреннему карману… «Пистолет», – как-то отстраненно подумала она.
Ну и черт с ним, с пистолетом! Таня вцепилась в «крутого» еще крепче и пронзительно завизжала:
– Ты разбил мне машину! А она чужая – папина! Что я ему теперь скажу?!
Второй из лбов насмешливо взглянул на девушку:
– Твою тачку что бей, что не бей – чисто конкретно рухлядь…
Ага, они заговорили.
Значит, стрелять уже не собираются. Значит, можно попробовать установить контакт.
Таня жалобно посмотрела на «крутых». Она знала – слезы в глазах и чуть наморщенный лоб ей даже идут, мужчины от этого тают, им становится жаль ее: красивая девушка – и так расстроена…
– Для вас – рухлядь, а папа на нее пять лет копил… – И про папу, и про «пять лет копил» – все было вранье. Но это не помешало ей жалобно заныть. – А вы меня сту-у-кнули…
Таня выдавила пару слезинок. Слезинки, она это тоже знала, хорошо смотрятся на ее ухоженном и слегка загорелом лице.
И «крутые» сдались. Они вместе с Таней вернулись к ее машине и осмотрели царапину. (Она во время осмотра все время испуганно повторяла: «Папа меня просто прикончит за эту вмятину!»)
«Крутые» брезгливо потрогали битое крыло.
– Сотни тебе хватит выше крыши!
– Если баксов – то хватит, – уверенно ответила Таня.
– Ты что, мать, охре… – начал один.
А второй… второй его остановил. Он сунулся в карман и небрежно протянул Тане стодолларовую бумажку:
– Держи, детка. За царапину. И на мороженое еще останется…
«Крутые» повернулись уходить. На прощание они окинули взглядом красивую Таню, ее старенькую машину и – парня, который во время всей этой сцены даже не высунул на улицу носа.
Таня потерянно стояла во дворе. Напряжение спало, ее охватила ужасная усталость. «Ведь убить могли, гады», – думала она.
И только когда «крутые» скрылись в подъезде, из машины наконец-то вылез Печальный Гарик и стал ее утешать.
– Где ж ты раньше-то был? – презрительно поморщилась Таня.
Гарик промямлил:
– А что я мог сделать? У них же пушки!..
После этой истории она месяц не отвечала на его телефонные звонки. Потом они все-таки помирились, но уже было ясно, что полагаться на этот экземплярчик нельзя. Таня по-прежнему играла с ним в теннис и спрашивала совета, когда у нее ломался компьютер. Но взять его с собой на такое серьезное дело? Да никогда!
…Может, стоило позвать Димку? Он-то посмелей: и в драку полезет, и защитить сможет. Только уж слишком безалаберный. Таня его так до конца и не раскусила – что ему, Диме, вообще-то нужно от жизни?
Останавливало ее и еще одно – Дима очень любил деньги. Можно сказать, преклонялся перед ними. И кто его знает, как он себя поведет, когда увидит, что за богатства находятся в сундучке. Ведь по большому счету он ей ничего не должен…
Таня проехала километров двести. Она мельком взглянула на мобильный телефон – уже вне зоны приема. Теперь заработает только в Воронеже. А километров пятьсот она будет совсем одна. Даже без связи.
Тане стало грустно. Почему ей так не везет на личном фронте? Почему она до сих пор не с кем-то?
Ведь с карьерой-то и деньгами все, наоборот, складывается вполне удачно. Поступить в престижный институт без блата и связей – разве не лотерея, в которой она победила? Попасть на работу в надежную и богатую фирму, чтобы тебя выбрали из нескольких сотен претендентов? Выиграть конкурс на учебу в Америке? Со всем этим у Тани получилось. Получилось легко.
Зато – наверно, в качестве компенсации – в личной жизни Тане не везло абсолютно. Влюбляться до смерти — так, чтобы голова кругом и все мысли только о НЕМ, – она не умела. Не влюблялась ни разу, хотя и дожила до двадцати пяти лет. А просто приятели ей попадались какие-то неудачные. К ней часто тянулись слабаки типа Печального Гарика, которых притягивали ее красота и уверенность в себе. Но ей-то зачем такой задохлик?
Нравилась Танечка и уверенным в себе мужчинам. Но они – тоже удачливые в плане денег и карьеры – никогда не имели на ее счет серьезных намерений. Они искали себе тихую, послушную и домашнюю жену. От сильных и смелых женщин-коллег они уставали на работе. А какая из Тани тихая жена? Если что не по ней – никогда не уступит.
Вот так Таня и оставалась всегда одна.
Ей совсем взгрустнулось. На глазах выступили слезы.
И тут… щелкнул прикуриватель. Таня точно помнила, что не включала его. Она ошеломленно рассмотрела приборчик – действительно, сияет красными угольками. Таня на ощупь прикурила, почти не отрываясь от дороги.
Она открыла окошко, пепел от сигареты сдувало теплым летним ветром. Ветер же высушил слезы. Таня погладила своего «пежика» по рулю с выдавленным львенком и нежно прошептала: «Спасибо тебе, мой мальчик».
Она была абсолютно уверена, что НЕ ВКЛЮЧАЛА прикуриватель. Это ее «пежик» понял, что ей плохо, и предложил покурить и отвлечься от грустных мыслей.
* * *
Зять опять напился. Да она почти не сомневалась в том, что он и сегодня напьется.
– Давай, баб Маня, собирайся, щас домчим в момент! – браво кричал он. Схватил «Приму», долго не мог состыковать огонек зажигалки с сигаретой и пошел во двор заводить «Москвич».
Дочка Лена смотрела на мать испуганным взглядом. Они обе понимали, что ехать ему нельзя – убьется. Со двора послышалась ругань – зять споткнулся на пороге и растянулся на сырой после дождя земле.
– Опять нажрался, урод… – грустно прошептала Лена. Она виновато смотрела на мать. «Видать, помнит, как я уговаривала за него не идти», – поняла Мария Петровна.
У Марии Петровны слегка поплыло перед глазами. Она вспомнила свадьбу – свою красивую Леночку в белоснежном платье, лихого зятя в шикарном галстуке, веселую толпу, тосты и крики «горько». И вспомнила, как увидела в церкви: стоят у алтаря ее доченька с женихом, а между ними – крошечный человечек, весь в черном. Расталкивает их и злорадно ухмыляется.
Видение было таким ясным, что Мария Петровна тогда даже чуть не закричала: «Сгинь, проклятый!» Она закрыла на секунду глаза – и когда снова их открыла, все было по-прежнему – красивая невеста, мужественный жених, веселые гости и счастливая жизнь впереди.
И только Мария Петровна знала – счастья в их жизни не будет. Крошечный злой человечек не даст ее дочери построить семью.
Мария Петровна грустно оглядела бедненько обставленную хату – а каким может быть скарб у горького пьяницы? Выглянула в окно – зять все пытался отпереть машину (Леночкино приданое) и никак не мог попасть ключом в дверь…
– Останови его, доча, – решительно сказала она. – Я доберусь сама.
* * *
К обеду Таня отмахала уже больше трехсот километров. Не останавливалась ни разу – зачем тратить время, если она не устала? Да и привлекать внимание не хотелось. Но поесть на ходу она никак не сможет. Таня свернула на проселочную дорогу. За лесополосой оказалось поле. Тишина, свежая зелень, ни домов, ни машин… Она постаралась припарковать «пежик» так, чтобы его не было видно с шоссе, и заглушила двигатель. На заднем сиденье лежал пакет с ее фирменными бутербродами – маленькие кусочки хлеба, а на них – много-много сырокопченой колбасы. В другой пакет она набрала соленых помидоров производства Юлии Николаевны – таких острых, что их не могли съесть ни сама мама, ни один Танин гость. Обед дополнял термос с кофе. «Ничего вредней для желудка и придумать нельзя», – сказала бы по поводу этой ее трапезы Юлия Николаевна. Но Таня считала, что главное в жизни – это делать то, что нравится. И если ей нравится соленое и острое, то и наплевать на всякие возможные гастриты и колиты. Может, ее желудку даже полезно такое питание – вдруг он от него, наоборот, не разбалтывается, а закаляется и крепнет?
Только вот одной есть скучно. Поболтать бы сейчас с кем-нибудь. Посмеяться. Обсудить приключения, что наверняка начнутся в Южнороссийске. Но вокруг были только поле и тишина раннего лета. И ее друг «пежик» рядом. Ее единственный друг.
* * *
Лена проводила Марию Петровну на автобусную остановку и заторопилась домой. «Вдруг он там без меня еще дом спалит?» – виновато сказала она о муже. Они скупо попрощались. Говорить было не о чем: и мать все понимала, и дочь знала, что та все понимает…
Мария Петровна пристроила тяжелую сумку на скамейку, чудом сохранившуюся на разоренной остановке. Расписание было вырвано с корнем. Да и без расписания ясно, что сидеть ей тут и сидеть. Может, час, а может, и два… Пока автобус не соизволит приехать. Попутку ловить бесполезно – кто ж ее, старуху, да еще и без денег, возьмет? У остановки мягко притормозила красивая заграничная машина.
* * *
Таня до того соскучилась и загрустила наедине с собой, что решила взять попутчика. Даже бесплатно – просто поболтать по дороге. После обеда ее клонило в сон, да и одиночество надоело. А попутчик и сон разгонит, и расскажет что-нибудь интересное…
Она держалась в правом ряду и смотрела, не проголосует ли кто-нибудь с обочины. Два парня в кирзовых сапогах… Не подходит. Крашеная девица в вызывающей «мини»… Нет, эта ждет явно не ее, а какого-нибудь изголодавшегося по ласке дальнобойщика. Наконец на остановке она увидела сухонькую бабулю. Бабуля не голосовала – она терпеливо сидела на лавке и явно ждала автобуса. Долго же ей ждать придется! Таня помнила, что единственный междугородний автобус она обогнала с час назад.
«Пежик» притормозил аккуратно и плавно – чтобы не испугать старушку.
Таня высунулась из машины и приветливо предложила:
– Давайте подвезу!
Увидев испуг в глазах старой женщины, добавила:
– Я в машине одна. И подвезу бесплатно!
* * *
Мария Петровна уютно устроилась на переднем пассажирском сиденье. Сумку они положили в багажник. Мария Петровна сначала хотела взять ее себе на колени, но девушка сказала:
– Зачем вам такую тяжесть на руках держать? А заднее сиденье у меня все завалено…
Марии Петровне никогда раньше не доводилось ездить в таких шикарных машинах. Дороги не чувствовалось – они вроде как по реке плыли. Не то что этот автобус, который прыгает на каждой кочке. И сидеть так мягко и удобно – ее спина как на перине, ни одна косточка не ноет.
Девушка молча смотрела на дорогу, с вопросами не приставала – давала ей возможность прийти в себя. Машину она вела уверенно и спокойно, обгоняла грузовики непринужденно и быстро.
Старушка устроилась на сиденье еще удобнее – оказалось, что можно спокойно вытянуть ноги и они ни во что не упрутся, – и завела разговор…
Они ехали вместе три часа. И все три часа проговорили, как равные. Как будто и не было у них разницы в возрасте. Как давние друзья – без секретов, без недомолвок. Таня рассказывала о своей семье, о своей жизни, о том, как ей везет в работе и не везет в любви. Мария Петровна говорила о дочке и о своей нелегкой жизни на одну только пенсию – помочь-то некому, муж давно умер…
За окном пролетел Воронеж. Они объезжали город по кольцевой дороге, которая проходила через чудесную сосновую рощу, и остановились там – подышать волшебным хвойным воздухом и перекусить. На том, чтобы остановиться, настояла Мария Петровна:
– Ты, дочка, с лица уже совсем спала. Отдохнуть тебе пора!
Мария Петровна попробовала Таниных «неправильных» бутербродов и с удовольствием съела целых два острейших помидора. Сказала, что очень вкусно и она в свои соленья теперь тоже станет добавлять больше уксуса и перца.
Поев, они стояли у машины и наблюдали чудесный летний закат. Смотрели, как молодое, сильное солнце неохотно опускается все ближе и ближе к сосновым вершинам…
И вдруг Марию Петровну как кольнуло. Она почувствовала что-то не то. Перед глазами поплыло, как тогда, в день свадьбы ее дочери Лены. Таня же ничего не замечала – она не сводила глаз с уже неяркого солнечного диска. Мария Петровна тихонько оглянулась… и увидела. Рядом с машиной стоял человек в черном. И внимательно смотрел на Таню, протянув к ней руки. От этой мнимой фигуры – Мария Петровна ни секунды не сомневалась в том, что ей опять видится, – исходила какая-то огромная тревога. И мольба. Мольба, обращенная к Тане.
Через секунду черный человек слился с наступающим сумраком и исчез.
* * *
– Танечка, а зачем ты едешь в Южнороссийск? – первым делом спросила Мария Петровна, когда они наконец отправились дальше.
Таня пожала плечами:
– Да так, маленькое семейное дело.
Она совсем не собиралась посвящать попутчицу – пусть и милейшую бабулю! – в свои планы.
«Как же ей рассказать о видении? Да чтоб поверила? Чтоб за психическую не приняла?» – ломала голову старуха.
Они уже свернули с трассы и подъезжали к ее дому.
– Дочка, переночуй-таки у меня! – в который уже раз предложила Мария Петровна.
Но Таня хотела добраться до Богучара и заночевать там. Это еще сто пятьдесят километров. Значит, за день получится семьсот тридцать, и еще столько же останется на завтра. К будущей ночи она уже будет в Южнороссийске – доберется туда за два дня, как и планировала. А Таня любила исполнять намеченные планы.
– Нет, баб Мань, на полчасика заскочу чайку выпить – и дальше.
– Упрямая ты, доча, – не переспорить. Со мной-то упрямься, мне не жаль, а вот мужики-то этого ой как не любят…
– Да я и сама уже поняла, что не любят, – сердито ответила Таня. – Только что ж с собой поделаешь…
Они подъехали к унылой пятиэтажке. Выгрузили сумку. Таня вызвалась нести ее сама. В квартире («Боже мой, неужели бывает такая бедность?» – подумала столичная девушка Таня) Мария Петровна захлопотала над чаем. А Татьяна прохаживалась по единственной комнате, оклеенной выцветшими, драными обоями, рассматривала фотографии, которыми вместо ковров были украшены стены. Вот баб Маня, совсем еще молодая, и рядом ее муж. Вот маленькая дочка Леночка… Леночка в школе… А вот уже Леночка с женихом – тем самым, непутевым. Таня сняла фотографию и всмотрелась в лица молодоженов. Красивая девушка с робко-влюбленным взглядом. И матерый, нахальный парень. С виду – идеальная пара. Но Таня поняла, что имела в виду Мария Петровна, когда говорила, что она раскусила жениха дочки с первого взгляда.
– Доченька, пошли, чай готов, – позвала ее с кухни баб Маня.
За чаем Мария Петровна решилась:
– Послушай меня, Танечка, только не бойся… Тут соседки говорят, что колдунья я… А я не колдунья… Я просто иной раз будущее вижу… И сбывается…
* * *
В Богучар Таня приехала вскоре после полуночи. Долго кружила в темноте по ухабистым улочкам в поисках гостиницы – останавливаться и спрашивать у редких прохожих не хотелось. Подумала, что город маленький и в конце концов она наткнется на гостиницу сама.
Поиски заняли почти час. Никак Тане не могло прийти в голову, что нужно сначала проехать городское кладбище, за ним, совсем рядышком, будет больница, и только потом – местный отель.
Регистраторша в гостинице скучала.
– У вас можно переночевать? – спросила с порога Таня.
– Нужно! – с готовностью откликнулась администратор. Гостиница была почти пустой, но советские правила оставались в силе. Служащая внимательно осмотрела Таню и ее багаж, тщательно пролистала все странички паспорта… Потом пришлось долго заполнять анкету.
– Вам комнату с туалетом? Это дороже. Ах, вы на машине… Место на стоянке стоит тридцать рублей…
Гостиница выглядела и, наверно, была пустой. На стоянке стоял лишь один «жигуленок» с московскими номерами.
Танин номер оказался обветшалым и казенным. Ванна и унитаз были засыпаны толстым слоем извести. «Ну и дезинфекция, – подумала она. – Эпидемия у них тут была, что ли? Пойдешь душ принимать – выйдешь с обуглившимися ногами».
Изловчившись, Таня поплескалась под краном.
В гостинице было тихо как в гробу. Из окна виднелось кладбище. Только в два часа ночи Таня провалилась в сон. Последней мыслью, перед тем как ей заснуть, была: «Интересно, а правда это – насчет человека в черном?»
Мария Петровна тоже долго не ложилась спать. Сначала она сидела на кухне. Потом бродила по комнате, разглядывая фотографии… Особенно долго стояла у той, свадебной, где Леночка такая красивая и ее муж так уверен в себе. Повинуясь какому-то внутреннему импульсу, сняла фотографию со стены. Из рамки выпала зеленая бумажка – сто долларов. Мария Петровна знала, что если перевести в американскую валюту ее пенсию, то получится – двадцать долларов. Откуда? Оставалось одно: изловчилась юная попутчица. Значит, Танечка подарила ей пять пенсий. Подарила от души, ничего не прося взамен и даже ничего не сказав…
* * *
Москва, июнь 1973 года
Июньское солнце густо заливало Москву. По жгучему асфальту улицы Горького тащились троллейбусы, нечасто проезжали грузовики и «Волги».
Антон остановил такси у перехода напротив Центрального телеграфа. Шофер в белой кепочке дважды крутанул рычаг счетчика. Цифры на табло высветили: «3.62».
– Как раз, – усмехнулся Антон.
– А на закусь-то будет? – обернул шутку в свою пользу водитель.
– Будет-будет, еще и на похмелку останется, – Антон протянул шоферу синюю пятерку. – Сдачи не надо.
– Возьми хоть рубль, я ж пошутил, – попытался для порядка отказаться от слишком больших чаевых водитель.
– Бери-бери, пока я добрый. – Антон поощрительно потрепал шофера, вдвое его старше, по плечу.
– Благодарствуйте, – чуть иронично произнес шоферюга и взял пятерку, а сам подумал: «Стиляга, фарца несчастная! Жизнь прожигает, Сталина на него нет!»
– Езжай, трудяга! – Антон хлопнул дверцей. Ох уж эта советская обслуга! Мало им дашь – хамят, много дашь – все равно хамят. Уроды!
«Волга», взревев и обдав Антона сизым дымом из глушителя, потащилась вверх по Горького.
Антон, в синих клешеных джинсах, в белом обтягивающем батнике с планочкой, пересек тротуар. За эти несколько секунд пара случайных девичьих взглядов успели остановиться на его упакованной, стройной фигуре, на пронзительно голубых его глазах, на прическе а-ля Леннон. Дамскому полу, на который решительно никакого внимания не обращал Антон, оставалось лишь гадать, кто он, сей богатый красавец: то ли молодой модный парикмахер, то ли подающий надежды балерун Большого, то ли официант из «Метрополя». Антон не был ни тем, ни другим, ни третьим. Числился он обыкновенным советским студентом. Больше того: если бы еще шесть лет назад, когда он, мальчик из села, приехал в Москву поступать, ему бы вдруг сказали, что он этак запросто остановит такси напротив Центрального телеграфа и пойдет стричься в самый что ни на есть модный салон столицы, он ни за что бы не поверил. Да, он умел хорошо рисовать – у него даже была персональная выставка. Точнее, его детские и юношеские рисунки повесили в детском кинотеатре соседнего с его селом города. Все соседи и родственники ездили туда за сто километров их смотреть. Но одно дело – фойе детского кинотеатра в провинции, и совсем другое – приемные комиссии Строгановского и Архитектурного.
Ни туда, ни туда он не поступил. Пришлось идти в текстильный. В текстильный его взяли.
Институт хоть и на задворках, и стыдно было признаваться знакомым и девушкам, что он учится там, зато парни в вузе были на вес золота, да и профессора там подобрались классные. Плюс к тому природная сообразительность, быстрый, цепкий ум и неутолимая жажда победы очень быстро сделали Антона заметной фигурой в институте.
Довольно скоро к нему в общагу пришел незнакомый высокий парень с цепким взглядом и густыми вьющимися волосами.
– Привет, мне о тебе Фарид рассказывал, – сказал парень, поставив на потертый общежитский стол объемистый портфель. В портфеле что-то звякнуло.
– Одна звенеть не будет, а две звенят не так! – весело прокомментировал гость и протянул руку: – Я – Слава.
Антон тоже представился, хотя не знал никакого Фарида и не ждал никакого Славы.
Слава между тем стал выгружать из портфеля: сначала – шесть бутылок пива, причем не «Жигулевского», а чешского! Затем бутыль водки, да такую, какой Антон никогда не видывал: из пузырчатого стекла, с синей этикеткой и красной надписью FINLANDIA. После водки на столе появилась внушительная банка черной икры, две огромные светящиеся воблы и блок сигарет CAMEL. Ну и по мелочи: хлебушек, маслице, кусок швейцарского сыра, палка сырокопченой колбасы… Это даже сейчас – целое богатство, а тогда содержимое портфеля Славы можно было приравнять к золотым слиткам.
– Чем обязан? – проговорил обалдевший Антон. Почему-то в первый момент ему показалось, что его пришло вербовать ЦРУ или КГБ. Но он сразу отогнал эту мысль. ЦРУ он на фиг не нужен, а КГБ вербует своих собственных граждан без затей, безо всяких там швейцарских сыров.
– Сейчас, выпьем – поговорим, – сказал Слава. – Не люблю о деле – насухую.
Слава почему-то вызывал у Антона доверие, да и не выгонять же из голодной общаги гостя с таким богатством!
Они уселись. После того как прикончили пиво и воблу, беседуя о том о сем (Слава оказался интересным собеседником: умным, острым и начитанным), гость заговорил о деле.
Из недр бесконечно объемистого портфеля он вытащил коричневую гипсовую маску индейца.
– На, посмотри, – протянул он ее Антону через стол, заваленный ошметками рыбы.
Антон внимательно осмотрел маску со всех сторон. С тыльной стороны у индейца имелась железная скобочка – чтобы, значит, вешать на стену, украшать жилище. Антон поскреб индейца пальцем.
– Плохое качество, – сказал он. – Через месяц облупится.
– Согласен, – весело промолвил гость. – Было плохое «какчество», – продолжил он, подражая Райкину, – и мало «коликчества» – будет хорошее «какчество» и много «коликчества».
– Но это же китч… – пробормотал Антон, разморенный прекрасным пивом и разговорами, что они вели со Славой о высоком искусстве.
– Опять согласен. Но что еще народу-то нужно? Он что у нас, когда-нибудь Меламида с Комаром с базара понесет?.. Ха!.. Индейца он моего с базара понесет! Десять «рэ» за одного Чингачгука! Налетай-торопись, покупай живопись!.. Короче, Тоша, ты мне можешь сделать такую же форму?
– Да это любой скульптор может… – пожал плечами Антон.
– А мне «любой» не нужен. Мне ты нужен, – загадочно сказал гость.
Антон согласился.
Довольно скоро он стал не числившимся ни в каких ведомостях художником в какой-то полуподпольной (а может, и просто подпольной) артели. В артели дела шли хорошо, судя по тому, что за форму головы индейца Слава отвалил Антону триста рублей – сумму огромную, не соизмеримую ни с объемом работы, ни тем более с Антоновой стипухой. Затем Антон сделал для Славы форму девушки с молитвенно сложенными руками. Потом – образец пепельницы в виде черепа. После – нечто вроде театральной маски, изображающей Терпсихору. За каждую работу Антон получал круглую сумму.
Слава в общагу больше не приходил. О времени следующей встречи извещал письмами без обратного адреса, которые поступали в общагу. Готовые образцы он забирал у Антона всегда в людном месте – где-нибудь на Калининском, или на лавочке на Тверском бульваре, или даже в бассейне «Москва».
Первое время Антон дико боялся, что за ним вот-вот придут. К каждому стуку в дверь, к каждому шороху прислушивался. Однажды он поделился своими страхами со Славой. Тот пожал плечами: «А за что тебя сажать? Даже если вдруг чего случится – ты-то будешь проходить как свидетель. Друг тебя просил – ты формы делал».
– А деньги?
– Какие деньги?!. За бутылку ты мне их делал, за «спасибо», за банку икры. Нет, старина, перед законом ты чист.
После этого разговора Антон почти успокоился. Стал с удовольствием тратить деньги. При этом не слишком усердствовал, расходовал их осторожно, чтоб не дай бог не стукнули, что студент живет не по средствам.
Вот и сейчас Антон вошел в парикмахерский салон напротив Центрального телеграфа – один из самых модных в Москве, но в то же время не такой дорогой, как «Чародейка» на Калининском.
Через час он вышел преобразившимся. Кудри а-ля Леннон исчезли. Белоснежка их никогда не любила, а сегодня предстоит решительный разговор. Надо ей угодить.
Из зеркала в фойе салона на Антона глянул модный парень в джинсах и с аккуратной стрижечкой в духе комсомольских работников среднего звена. Единственная вольность, которую он оставил, – бакенбарды в стиле западногерманского защитника Беккенбауэра. До свидания оставалось семь минут. А она никогда не опаздывает.
Антон вышел на жаркую улицу Горького. Припекать стало еще сильнее. Антон не пошел к переходу – условленному месту встречи, остановился в тени дома.
А вот и она. Поднимается снизу, от гостиницы «Москва», помахивает сумочкой.
Подошла, улыбаясь. Он наклонился, поцеловал небрежно.
– Куда мы пойдем? – спросила она, беря его под руку.
– Давай промочим горло глотком доброго фалернского, – предложил Антон.
Девушка пожала плечиком. Они спустились на сто метров ближе к Кремлю, к самому модному молодежному кафе «Космос». В «Космосе» Антона знали, тут же посадили их за столиком у окна на втором этаже.
Антон заказал коктейль «шампань-коблер» и два по сто пятьдесят мороженого. Девушка от выпивки отказалась, и ей принесли газировку с сиропом. Здесь было самое вкусное в Москве мороженое. В креманках лежали политые шоколадом шарики с торчащим, как антенны, печеньем. Из открытого окна дул ветерок, и жары почти не чувствовалось.
– Ты наконец постригся, – удовлетворенно заметила она, облизывая ложечку с мороженым.
– Битлы уже не в моде.
– А что в моде?
– «Джизус Крайст – суперстар». Слышала?
– Нет. А что это?
– Рок-опера. В следующий раз притащу тебе запись. Там Йан Гиллан поет. «Энд Джизус, энд Джизус, энд Джизус маст дай!..» – тихонько запел Антон.
– Тш-ш! Услышат ведь! – зашикала она. И правда, с соседних столиков стали оглядываться. – Ну что ты за несерьезный человек!.. «Госы» на носу, а ты – «Джизус»!
– Ох-ох-ох, подумаешь, «госы»!.. Все равно сдадим. Тройки-то поставят, куда они денутся. Меня другое волнует… – Он сделал паузу. Пауза была значительной.
Они должны были как-то определить свои отношения. К этому подталкивало не развитие их чувств, но логика советской действительности. Они оба не были москвичами, оба учились в разных вузах. Скоро распределение, и, если они не узаконят свою связь, его могут отправить в один город, ее – совсем в другой. Ей-то, впрочем, как отличнице, светила аспирантура, а значит, еще три как минимум года жизни в столице. Но Антона вполне могли сослать куда-нибудь в Иваново – «город невест».