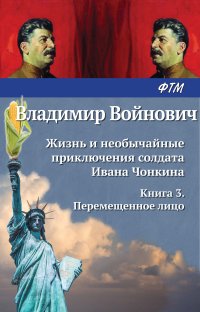Читать онлайн Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Лицо привлеченное бесплатно
- Все книги автора: Владимир Войнович
© Текст. В. Н. Войнович, наследники, 2020
© Агентство ФТМ, Лтд., 2020
* * *
Часть первая
От тюрьмы да сумы…
1
Нач. АХО тюрьмы № 1
т. ТИМОФЕЕВУ С. П.
Для помыва з/к Чонкина И. В. прошу Вашего распоряжения о выдаче мыла хозяйственного – 20 гр.
Ст. надзиратель ПОТАПОВ
Зав. складом т. КУДЕЯРОВОЙ
Выдать для помыва з/к Чонкина мыла жидкого 15 гр.
ТИМОФЕЕВ
Заведующей баней № 1
Долговского райкоммунхоза
т. ФРУКТ
Прошу обеспечить санобработку и помыв з/к Чонкина с выделением для этой цели воды горяче-холодной не менее 8 (восьми) шайко-объемов.
Нач. АХО тюрьмы № 1
СПРАВКА
Чонкин И. В. санобработку прошел.
Завбаней С. ФРУКТ
ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В КАМЕРЕ № 1 ТЮРЬМЫ № 1
1. Нары простые деревянные – 3 яруса
2. Табуретка простая деревянная – шт. 1
3. Судно канализационное деревянное (параша) – шт. 1
Ст. надзиратель ПОТАПОВ
Примечание. Лица, виновные в предумышленной порче, или порче по неосторожности, или в иных действиях, которые могли бы привести к порче социалистического имущества, будут нести ответственность по законам военного времени.
Командиру войсковой части
полевая почта № 249814
Срочно, секретно
4 сентября в селении Красное арестован по обвинению в дезертирстве военнослужащий вашей части рядовой Чонкин И. В. При аресте у обвиняемого изъята винтовка Мосина образца 1891/30 г. и патроны к ней в количестве – шт. 4. Прошу срочно сообщить, когда, при каких обстоятельствах обвиняемый скрылся из части с приложением личной характеристики.
ВРИО начальникаотдела НКВДДолговского районалейтенант ФИЛИППОВ
ВРИО начальника
отдела НКВД
Долговского района
лейтенанту ФИЛИППОВУ
Срочно, секретно, со спецкурьером
В ответ на ваш запрос сообщаю: рядовой Чонкин Иван Васильевич был направлен в селение Красное для несения караульной службы по охране самолета «У-2» 634805321, потерпевшего аварию и совершившего вынужденную посадку вблизи указанного населенного пункта. При себе имел винтовку Мосина образца 1891/30 года и патроны к ней в количестве шт. 20.
В результате вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз часть получила задание спешно перебазироваться в район военных действий. В связи с невозможностью своевременного отзыва рядового Чонкина к месту службы последний зачислен в списки пропавших без вести. Вместе с тем авторитетная комиссия в составе подполковника Опаликова С. П. (председатель), техника-капитана Кудлая Ю. И. и старшего моториста сержанта Чебурданидзе А. Г., изучив соответствующую документацию, пришла к заключению, что указанный летательный аппарат подлежит списанию ввиду полной выработки им самолето- и моторесурса (акт заочной технической экспертизы прилагается).
Полностью доверяя органам следствия, командование части просит сообщить окончательное решение по делу Чонкина И. В.
Командир войсковой частиполевая почта № 249814п/полковник ПАХОМОВ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Рядовой Чонкин Иван Васильевич, 1919 года рождения, русский, холостой, беспартийный, образование незаконченное начальное, проходил службу в войсковой части № 249814 с ноября 1939 года, исполняя обязанности ездового. Во время прохождения службы отличался недисциплинированностью, разгильдяйством, халатным отношением к своим служебным обязанностям. За неоднократные нарушения воинской дисциплины и несоблюдение Устава РККА имел 14 взысканий (впоследствии снятых).
Обладая низким образованием и узким кругозором, на занятиях по политической подготовке проявлял пассивность, конспекта не вел, слабо разбирался в вопросах текущей политики и теоретических положениях научного коммунизма.
Общественной работой не занимался.
Политически выдержан, морально устойчив.
Командир в/ч п/п № 249814п/полковник ПАХОМОВКомиссар частист. политрук ЯРЦЕВ
Начальнику управления НКВД
по …ской области
подполковнику тов. ЛУЖИНУ Р. Г.
В ответ на Ваш запрос (исх. № 014/209) сообщаю: ордер на арест Чонкина И. В., обвиняемого в дезертирстве, был выписан на основании заявления за подписью «жители д. Красное» бывшим начальником нашего учреждения капитаном Милягой А. П. и санкционирован райпрокурором т. Евпраксеиным П. Т.
Во время ареста обвиняемый при содействии своей сожительницы Беляшовой А. оказал вооруженное сопротивление, в результате которого сержант Свинцов получил тяжелое ранение.
Капитан Миляга, прибывший к месту происшествия позднее, затем бежал и погиб при не выясненных пока обстоятельствах.
В настоящее время преступник захвачен и содержится под стражей в тюрьме № 1 города Долгова. Прошу дальнейших указаний.
Лейтенант ФИЛИППОВ
2
– Давай, вали дальше! – потребовали сверху.
– Дальше-то? – Чонкин задумался.
Вся камера № 1 возбужденно ждала продолжения.
Время было – после отбоя. Чонкин лежал на средних нарах между блатным пареньком Васей Штыкиным по прозвищу Штык и паном Калюжным, пожилым дядькой с вислыми усами.
Чонкин пытался собраться с мыслями, его торопили, сбивали с толку, кричали снизу и сверху: «Ну телись же ты, падло!», словно он был коровой.
– Ну вот, – сказал он, поправляя под собой шинель, – сижу, значит, я с пулеметом в кабинке, Нюрка хвост заворачивает, бутылки летят, а эти кричат «сдавайся!» А как же сдаваться, я ж не могу, я на посту, мне ж не положено. И тут вдруг что-то ка-ак сверканет, и так у меня в голове все поплыло, и сделалось так хорошо, и дальше ничего не помню, лежу как мертвый.
Вся камера притихла, как бы почтив молчанием память Чонкина, а пан Калюжный, лежа на спине, быстро перекрестился и сказал тихо: «Царствие небесное».
– Ну вот, – помолчав, продолжал Чонкин, – очинаюсь это я, значит, в животе бурчит, башка будто чужая, открываю глаза и вижу передо мной…
– Черт, – подсказал кто-то снизу, но на него цыкнули, и он умолк.
– Не черт, – поправил Чонкин, – а генерал.
– Ха-ха, генерал, – засмеялись уже наверху. – А может, маршал?
– Закрой хлебало! – оборвали и этого.
– Закрой, – сказал и Чонкин. – Ну вот. Я и сам сперва не поверил и говорю: «Нюрка, это же генерал». А он мне: «Да, – говорит, – сынок, я и есть, – говорит, – генерал». Ну, я встаю, калган гудит, но, как положено, пилотку поправил, руку к виску… – Чонкин приподнялся на локте и, как бы вытягиваясь перед воображаемым начальством, на всю камеру прорявкал: «Товарищ генерал, за время вашего отсутствия никакого присутствия не было». А он… – Чонкин обмяк и усталым, отчасти даже старческим голосом изобразил: «Спасибо, сынок, за службу». И сымает с себя… ну, это…
– Штаны, – подсказали из-под нар.
– Дурак, – оскорбился Чонкин за своего генерала. – Не штаны, а этот… Ну, круглый такой… ну, орден.
Штык на своем месте заерзал, приподнялся, наклонился над Чонкиным.
– Орден? – переспросил недоверчиво.
– Орден, – подтвердил Чонкин.
– Какой?
– Ну, этот… Ну, Красного этого…
– Знамени?
– Ну да. Ну, Знамени.
Штык поднес к носу Чонкина руку со скрюченным указательным пальцем:
– На, разогни.
– Чего это? – ожидая подвоха, Чонкин недоверчиво смотрел на согнутый палец.
– Да разогни же.
– А на кой?
– Разгинай, не бойся.
Пожав плечами, Чонкин разогнул. Он не знал этой нехитрой шутки и не понял, почему все смеются.
– Ну и свистун, – сказал Штык. – Генерал, орден…
– Не веришь? – оскорбился Чонкин. – Да вот же ж она, дырка.
– За гвоздь зацепился, – сказал Штык.
– Штык! – окликнули его снизу. – Отвали, падло, не мешай человеку. Давай, Чонкин, трави, не тушуйся.
– А ну вас! – махнул рукой Чонкин.
Он обиделся, замолчал и, встав на карачки, долго расправлял шинель на узком пространстве между Штыком и паном Калюжным. Его звали, ему обещали больше не перебивать, его упрашивали, он не ломался, он просто молчал, думал. Защищая свой пост, он не знал, что совершает что-то особенное, а теперь по интересу слушателей и даже по их недоверию понял, что совершил что-то особенное и даже по-своему выдающееся, а вот не верят, и некому подтвердить.
Народ в камере был разношерстный. Некий индивидуум, которого звали почему-то Манюней, сказал Чонкину:
– За дезертирство это тебе сразу вышку дадут, расстреляют.
– Манюня! – окликнул его востоковед (в Долговской тюрьме были люди самых диковинных профессий) Соломин. – Перестаньте пугать человека.
– Да я не пугаю, – возразил Манюня. – Я говорю: раз дезертирство, значит, вышка. Это если б он, скажем, в самоволку пошел или, допустим, от эшелона отстал, ну тогда, конечно, можно бы ограничиться штрафной ротой, а когда дезертирство, да еще с сопротивлением властям, тут уж без вышки никак… – Манюня помолчал, подумал. – Ну, вообще-то сейчас расстрел гуманный. Раньше-то было как. Раньше тебя выводят во двор; отделение с винтовками, прокурор, доктор. Приговор читают, глаза завязывают, потом командуют: «Отделение, приготовиться!» Жуть! Теперь все не так. Теперь гуманно. Повели тебя, скажем, в баню, а по дороге – бац в затылок, и все. Охо-хо! – зевнул он. – Поспать, что ли.
Народ еще крутился на нарах, переговариваясь о том о сем, перекидываясь шуточками. Грузин Чейшвили рассказывал, как на воле жил сразу с двумя певицами. Другой голос излагал длинный и скучный анекдот, вся соль которого заключалась в том, что в нем действовали русский, еврей и цыган.
– Когда мне бывает трудно, – сказал бывший профессор марксизма-ленинизма Зиновий Борисович Цинубель, – я всегда читаю Ленина.
– Легче становится? – спросил кто-то.
– Напрасно иронизируете, – отозвался Цинубель. – Когда-нибудь вы поймете, что у Ленина есть ответы на все вопросы.
– А за что сидишь, батя? – спросил Чонкин пана Калюжного.
– А бис його знае. За якийсь процкизм, чи шо, – беспечно ответил Калюжный.
– И давно?
– Та давно. З тридцять четвэртого року. Только раньше я сыдив за воровство, за мошенничество, за бродяжничество, а теперь ото за процкизм.
– А на волю хочется? – спросил Чонкин.
– На волю? – удивился Калюжный. – Ни. А шо там хорошего?
– Как? – всполошился Чонкин. – Дак как же чего хорошего? Ну, там… это… солнышко светит, птички поют.
– А на шо тоби та птичка? Шоб вона тоби на голову какнула?
Чонкин растерялся и не знал, что ответить.
– Ото ж уси кажуть: воля, воля, – развивал свою мысль пан Калюжный, – а разобраться, так вона никому и не нужна. Тут тэбэ утречком разбудылы, несут баланду. Много чи мало, а принесут. А на воли хто тоби принесе? Та никто. В мене жинки немае, а сестра пише письма. Цей пид поезд попав, другий от пьянки вмер, третий утонув, четвертый ше шось… И це ж только в мирное время. А колы война, то ще хуже. Тут свистить, тут бабахае, та ты шо! У тюрьми луче. Тут люды яки сидять – профессура! А на воле шваль одна осталась, ей-бо!
Пан Калюжный еще долго убеждал Чонкина в преимуществах тюремной жизни, вдруг неожиданно смолк на полуслове и захрапел.
Чонкин повернулся на другой бок, лицом к Штыку, подтянул к подбородку колени, накрылся свободной полой шинели, полежал – неудобно. Спина прикрыта, перед открыт, в грудь дует. Лег на спину, попробовал обе полы на себя с двух боков натянуть, опять на все не хватает. Лег на левый бок, спереди шинель на себя завернул, спина мерзнет. А пока вертелся, шинель снизу сбилась в один комок, пришлось опять на карачках ползать, вызывая неудовольствие и пана Калюжного и Штыка.
Всегда считал себя Чонкин неприхотливейшим существом, а тут, к собственному удивлению, обнаружил, что за время жизни у Нюры разнежился, привык к пуховой подушке, пуховой перине и ватному одеялу. Здесь ему было и тесно, и жестко, и холодно.
Поэты-романтики-орденоносцы немало лирических стихов насочиняли о солдатской шинели, будто на ней замечательно спать, одновременно ею же укрываясь. А еще лучше, если делается это на снегу или в крайнем случае под дождем, то есть чтобы она была непременно и мокрая, и пулями пробитая, и как-нибудь в боях обожженная. Вот тогда-то, мол, спать на ней и ею же укрываться очень уж романтично. Романтично, это, пожалуй, да, но сказать, чтоб очень уж удобно, это, конечно, нет.
Крутился Чонкин, крутился – постепенно как-то устроился, как-то особенно съежился, как-то примирился с жесткой реальностью, осознав, что, как ни плоха шинель для спанья, голые нары – хуже. Приспособился, приладил щеку к завернутому рукаву и заснул в сильно скрюченном положении.
И как только впал в забытье, так сразу, а может быть, даже не совсем сразу, может быть, по прошествии какого-то времени, приснилось ему, что не скрюченный на нарах и завернувшись в шинель он лежит, а на пуховой перине, под ватным одеялом и с Нюрой. Лежит Нюра с ним рядом, пышет жаром, как печка, и пахнет вкусно, как мармелад. И потянулся он томно к Нюре, прижался к ней, положил руку на спину, а потом ниже, а вторая рука уже шарила на том же уровне, но с другой стороны. И, ухватившись за все, на что рук хватало, воспылал он неодолимым желанием, задышал глубоко и часто, кинулся на Нюру с рычанием и впился в нее, как паук.
Он не понял, почему она сопротивляется, почему отпихивается коленями и руками, ведь не только ему с ней, но и ей с ним было всегда хорошо.
Он пытался сломить ее сопротивление, но она схватила его за горло, он проснулся и увидел перед собою Штыка.
– Опять, сука, педрило попался, – шипел и плевался Штык. – Что вы ко мне, падлы, липнете!
Проснулись, заворочались на нарах другие. Кто-то наверху спросил, что происходит, другой голос лениво ответил:
– Новенький Штыка хотел трахнуть.
– А-а, – отозвался первый голос без удивления: видать, здесь ко всему все привыкли.
Чонкин спросонья тряс головой, пялился на Штыка, не понимая, в чем дело, а когда разобрался, сконфузился.
– Нюрка наснилась, – объяснил он и повернулся на другой бок, чтоб избежать повторения неприятности. Штык тоже спиной к нему повернулся и долго еще чего-то бухтел, пока не заснул, а Чонкин лежал, досадуя, что так неудобно все получилось, но постепенно досада его ослабла, и он снова заснул.
И опять, как ни странно (а впрочем, что уж тут странного?), приснилась ему перина и подушка, приснилось ватное одеяло и Нюра под ним. Помня во сне, что, обнимая Нюру, получил он в ответ какую-то неприятность, Чонкин на этот раз долго лежал недвижно, но запах Нюриного тела и волны жара, идущие от нее, опять его одурманили, опьянили, он потянулся к ней робко, потом смелее, и она на этот раз не противилась, и она потянулась к нему. И вот тела их коснулись друг друга по всей длине, и вжались друг в друга, и его руки торопливо оглаживали и мяли ее, а ее руки то же самое делали с ним, и хотя показалась она ему какой-то костлявой и жесткой, накинулся он на нее, впился в ее губы своими губами, и она его целовала, и она бурно дышала, и она страстно шептала почему-то по-украински:
– Ты мэнэ хочешь?
– Хочу! Хочу! – жарко выдыхал Чонкин.
Ошалев совершенно, он грыз ее губы, он касался языком ее языка, и единственное, что ему сейчас мешало, что раздражало его, были ее усы.
– Зачем тебе усы? – спросил он недоуменно.
– А шоб тэбэ имы колоты, – смущенно хихикнула Нюра, и он, просыпаясь, увидел совсем близко отвратительное лицо пана Калюжного, который, целуя его взасос, одной рукой прижимал к себе его голову, а другой шарил в том месте, куда Чонкин не допускал еще никого, кроме Нюры.
– Ты что? Ты что? – забормотал Чонкин, отпихивая и убирая блудливую руку Калюжного. – Тронутый, что ль?
– Та тише ты, – испуганно зашептал пан Калюжный. – Хлопцив разбудишь.
– А чего ты лезешь? – сердился Чонкин. – Чего лезешь?
– Тю на тэбэ! – возмутился в свою очередь Калюжный. – Та кому ты нужен. Сам пристае то до одного, то до другого. Тю!
Опять наверху завозились, и кто-то спросил, что происходит. И опять кто-то сказал, что новенький хотел изнасиловать пана Калюжного.
– Так он и до нас скоро доберется, – предположил первый голос, впрочем, совершенно беззлобно.
Чонкин, раздосадованный, спустился вниз и сел посреди камеры на табуретку. На ней, клюя носом и ерзая, просидел до подъема.
3
После завтрака вошел в камеру заспанный вертухай, ткнул пальцем в Чонкина:
– Ты! – и еще в кого-то: – И ты, на выход!
– С вещами? – засуетился тот, второй, маленький тщедушный человек без двух верхних зубов.
– С клещами, – беззлобно сказал вертухай. – Когда с вещами, по фамилии вызывают.
Он привел их в уборную, довольно-таки грандиозное помещение с двумя дюжинами дырок в цементном полу.
– На уборку даю сорок минут, – сказал вертухай. – Ведра, метлы и тряпки в углу.
С этими словами он вышел. Чонкин и его напарник остались стоять друг против друга, работать не спешили.
От резкого запаха хлорки и застоявшейся мочи свербило в носу, слезились глаза и кружилась слегка голова.
Напарник Чонкина, как уже сказано, был маленького роста, может быть, даже меньше Чонкина, хотя и сам Чонкин, как читатель, вероятно, помнит, тоже не великан. Но держался напарник прямо, развернув плечи и выпятив узкую грудь. При маленьком росте у него была крупная голова с выдающейся вперед нижней челюстью и внимательными немигающими глазами.
Когда напарник улыбнулся, это было так неожиданно, что Чонкин даже вздрогнул. Напарник, улыбаясь Чонкину, не спеша засунул руку в карман, казалось, он вынет оттуда пистолет, но вынул он тусклый металлический портсигар, нажал кнопку, крышка отщелкнулась, в портсигаре лежали папиросы «Казбек».
– Прошу! – сказал напарник и протянул портсигар Чонкину.
Смутившись еще больше, Чонкин сунул руку в портсигар, долго ковырялся в нем своими корявыми пальцами, наконец вытащил одну папиросу из-под резинки. Он долго ее разглядывал, как небольшое чудо, – такие папиросы он и на воле видел только издалека.
Закурили. Чонкин зажал папиросу, как цигарку, большим и указательным пальцами, напарник держал по-интеллигентному – между указательным и средним пальцами. С аппетитом затянувшись и пустив дым ровными кольцами, напарник опять улыбнулся Чонкину и сказал:
– Позвольте представиться: Запятаев Игорь Максимович, латинский шпион.
Чонкин посмотрел на него с любопытством, но не сказал ничего.
– Не верите? – усмехнулся шпион. – А я вот вам сразу поверил. Потому что моя история, будучи совершенно реальной, выглядит гораздо фантастичнее вашей. Да-да, не удивляйтесь. Вот вы, например, сколько их уничтожили?
– Их? – переспросил Чонкин. – Кого это?
– Я имею в виду большевиков. Кого же еще? – пояснил Запятаев, несколько раздражаясь.
– Большевиков? – снова не понял Чонкин.
– Слушайте, Чонкин, – возбудился Запятаев, – я же вам не следователь. Зачем вы со мной дурака валяете? Вы вчера рассказывали, как сражались с целым полком. Было это или нет?
– А что ж, я врать буду? – обиделся Чонкин.
– Я и не говорю, что врете. Я верю. Именно поэтому я и спрашиваю: сколько вы их уничтожили?
– Так ведь нисколько.
– Вот-вот, – обрадовался шпион. – Как раз к этому я и клоню. У вас были пулемет, винтовка, несколько пистолетов, вы стреляли и не убили ни одного. А почему? – Он смотрел на Чонкина, чуть прищурясь и слегка потряхивая головой, лицом показывая, что ответ ему совершенно ясен, но он хочет услышать его от Чонкина. – Почему?
– Не попал, – сказал Чонкин растерянно. Сейчас ему стало даже неловко, что он оказался таким растяпой.
– Вот видите! – удовлетворенно сказал Запятаев. – Ни одного. Не попали. Ну, а если б и попали, то сколько могли бы убить? Одного, двух, трех, ну десяток от силы. То есть это в лучшем случае. А вот я… – Он переложил папиросу из правой руки в левую, резко нагнулся и, как фокусник, извлек из штанины какой-то маленький предмет, оказавшийся огрызком химического карандаша.
– Вот, – торжественно сказал Запятаев и потряс огрызком над головой. – Вот оно, современное оружие, которое пострашнее пулемета и пострашнее картечи. Этот предмет я берегу, как священную реликвию. Он достоин того, чтобы быть помещенным в музей на самое видное место. Этим безобидным на вид предметом я вывел из строя и уничтожил полк, дивизию, может быть, даже армию.
Чонкин посмотрел внимательно на огрызок, на тщедушного Запятаева. «Псих какой-то», – подумал он, холодея.
– Теперь вы мне не верите? – улыбнулся понимающе Запятаев.
– Верю, верю, – поспешно сказал Чонкин. Затянувшись последний раз, он затоптал окурок и пошел в угол, где стояли два ведра и несколько метел.
– Нет, вы послушайте, – засуетился Запятаев, хватая его за рукав.
– Опосля. – Чонкин выбрал метлу получше, взял ведро и пошел в другой угол к водопроводному крану.
– Да послушайте же! – побежал за ним Запятаев. – Вам будет интересно.
– Некогда, – сказал Чонкин. – Работать надо.
Набрав воды, он поставил ведро на пол, обмакнул в него метлу и пошел махать ею вдоль стены.
– Ну, как хотите.
Запятаев обиделся, спрятал карандаш и тоже пошел за метлой и ведром.
Некоторое время трудились молча. Чонкин махал метлой и с опаской, но не без любопытства поглядывал на Запятаева. Обладая конкретным воображением, он попытался представить себе вооруженное до зубов воинство и маленького Запятаева, размахивающего своим огрызком.
– Это ж надо, – засмеялся Чонкин. – Карандашом, говорит, дивизию. Ну и сказанул!
– Если бы вы послушали, – сказал Запятаев обиженно, – вы бы согласились, что в этом ничего невероятного нет.
– Ну ладно, валяй, рассказывай, – великодушно согласился Чонкин. Он понял, что хотя Запятаев, может, и псих, но в данных условиях, очевидно, безвредный. Чонкин поставил метлу перед собой, упер ручку в подбородок и приготовился слушать.
Теперь Запятаев заартачился, говоря, что Чонкин сбил настроение. Но все-таки, видно, уж очень хотелось ему кому-нибудь поведать свою историю. Он ждал «вышки» и боялся, что никто никогда не узнает о его героической деятельности.
– Ну так слушайте, – сказал он торжественно. – Вот в двух словах мое начало. Выходец из петербургской дворянской, не очень знатной, но состоятельной семьи. Дом с лакеями, боннами, собственным автомобилем еще перед прошлой войной. Я гимназист, юнкер, подпоручик в армии Врангеля. Когда все бежали, я остался, чтобы продолжать борьбу с советской властью, которую тогда ненавидел даже больше, чем сейчас. Перебрался в Москву, сочинил себе пролетарское прошлое, болтался в разных кругах, искал себе подобных – безуспешно. Попадалась, правда, разная шантрапа, но это было совсем не то, что я искал. Одни писали заумные стишки, другие курили гашиш, третьи увлекались свальным грехом и спиритизмом. Некоторые тискали на гектографе жалкие прокламации и с парой заржавленных пистолетов готовили военный переворот. Ну и, конечно, рано или поздно все попадали куда? На Лу-бян-ку. И поэты, и спириты, и те, которые с револьверами. Я вовремя понял – от таких надо подальше. Нет, я не сдался, я хотел продолжать борьбу. Но с кем и как? Приглядываюсь, вижу: Советы с каждым годом все крепнут и крепнут. Реальной оппозиции нет, тайная деятельность невозможна. Всеобщая бдительность, все друг на друга доносят, чека каждого видит насквозь. Все ужасно. Для серьезной борьбы нужна организация, нужны единомышленники, но где они? Никому нельзя открыться, никто никому не верит. Я долго думал над происходящим, скажу вам откровенно, я начал впадать в отчаяние. Если никакая борьба невозможна, то для чего же я здесь остался? Чтобы стать таким же, как все, и послушно есть из того же корыта? И тут я сделал открытие, которое без ложной скромности можно назвать каким? Ге-ни-аль-ным! Да, – сказал Запятаев и счастливо засмеялся. – Именно гениальным, на меньшее я не согласен. Вот вы, – он отпрыгнул от Чонкина и ткнул в него пальцем, – скажите мне, что вы считаете основной особенностью нынешней власти? В чем ее достоинства? Какая она?
– Она-то? – Чонкин задумался. – Ну, вообще-то хорошая.
– Остроумно, – улыбнулся Запятаев. – Ну, а если без шуток, я вам скажу по секрету… – Он приблизился к Чонкину и снизил голос до шепота: – Запомните раз и навсегда – основная, главная, замечательная особенность этой власти состоит в том, что она до-вер-чи-ва. Да, именно доверчива, – повторил он громко и опять отскочил. – Вы скажете: ка-ак? – Он вытаращил глаза и раскрыл рот, изображая невероятное удивление Чонкина. – А вот так, дорогой мой Иван… как вас… Васильевич?.. Именно так. Вы скажете, какая там доверчивость, когда она всех во всем подозревает, когда она хватает и уничтожает главных своих идеологов и столпов по мельчайшему подозрению. Вы мне скажете – Троцкий, вы мне скажете – Бухарин с Зиновьевым, вы мне скажете – Якир с Тухачевским. Да, конечно, она подозрительна, она своим не доверяет, но таким, как я, она верит как? Без-гра-нич-но. К сожалению, я сделал это открытие не сразу. Я тогда уже был не в Москве, а здесь, в области. Работал мелким служащим в одном важном учреждении. В таком важном, что даже сейчас боюсь сказать. А руководителем у нас был некий Рудольф Матвеевич Галчинский. Не помните? Ну, был такой известный большевик, герой Гражданской войны, личный друг Ленина. Такой преданный, такой доверенный, что он из-за границы, знаете ли, не вылезал. Добывал какое-то там военное оборудование, какие-то секреты и, если не ошибаюсь, руководил общей подрывной деятельностью, то есть подготавливал мировую революцию. Очень вредный был человек. И вот когда я сделал свое открытие, я его на этом самом Галчинском и испытал. Взял я как-то клочок бумаги, этот вот самый огрызок (он был чуть-чуть побольше), натянул на левую руку перчатку и написал: «Во время пребывания в Англии Галчинский был завербован британской разведкой». И подписал простенько, без затей: «Зоркий Глаз». А? Как вам нравится?
Постепенно Запятаев входил в раж, отбросил метлу, размахивал руками, сам себе задавал вопросы и сам на них отвечал, расчленяя слова на слоги. Смеялся, подмигивал, при этом одна половина лица, как на шарнирах, поднималась вверх, а другая, наоборот, опускалась.
– Но тут… – Запятаев помолчал и покачал головой. – Меня ждало первое испытание. На другой день на работе я подошел по какому-то делу к секретарше нашего начальника, к этой очаровательной жирной свинье Валентине Михайловне Жовтобрюх, и делаю ей походя комплимент: «Валентина Михайловна, какой на вас прекрасный жакет». Сволочь была невероятная, а все-таки женщина. Вся зарделась, краска сквозь жир проступила: «Правда, вам нравится?» – «Прекрасный, – повторяю, – жакет, и очень вам к лицу». А она и вовсе расцвела: «Это мне, – говорит, – Рудольф Матвеевич из-за границы привез». – «Из Англии?» – спрашиваю. «Нет, из Бельгии. А в Англии он никогда не бывал». – «Как? – сказал я. – А в последний раз?» – «Вот именно в последний раз он был в Бельгии и Голландии. До этого в Германии, во Франции и даже в Канаде, а в Англии никогда. Да что вы так побледнели? Что с вами?»
Вы представляете, что я чувствовал, если даже не смог скрыть своего состояния? Несколько суток после этого я не находил себе места. День проходил еще кое-как в работе, а ночью – сплошные кошмары. Я забирался под одеяло и дрожал, даже не фигурально, а самым обыкновенным образом. Чего только мне не мнилось. Остановилась внизу машина – за мной. Дверь хлопнула – за мной. Я не трус, Иван Васильевич. Но мне было до слез обидно, что вот так глупо, с первого раза… Но вот однажды иду на работу, поднимаюсь по лестнице и глазам своим не верю: два молодца в форме и один в штатском ведут под белы ручки нашего героя, то есть самого Рудольфа Матвеевича, бледного, без очков. Я посторонился… И даже, кажется, поздоровался, но он меня не заметил, а один из молодцов буркнул мне: «Не путайтесь под ногами». Поднимаюсь в приемную, там как после погрома: ящики столов вынуты и стоят на полу, бумаги рассыпаны, а у окна в углу плачет Валентина Михайловна. Я, разумеется, к ней: «Валентина Михайловна, что случилось?» Она платочком глаза промокнула и смотрит на меня строго: «Рудольф Матвеевич оказался британским шпионом. Не могу себе простить, рядом была, а не заметила». Я, конечно, – Запятаев подмигнул радостно, – с удовольствием стал ее успокаивать, мол, не переживайте, ведь еще ничего не доказано, все еще может разъясниться. Ведь Рудольф Матвеевич, кажется, в Англии никогда не бывал. Тут она как завизжит: «Что значит кажется! Что значит не бывал? Вы что же, нашим органам не доверяете?» Мне же пришлось заверить ее, что доверяю. Прошло сколько-то времени, и в газетах – вы, может быть, помните – появилось сообщение о суде над врагом народа Галчинским. Говорилось, что под тяжестью предъявленных улик подсудимый полностью признал, что во время пребывания в Англии он был что? За-вер-бо-ван.
Тут Запятаев замолчал, задумался, и Чонкин, решив, что рассказ окончен, пробормотал что-то вроде того, что, мол, да, бывает, и взялся за метлу, но Запятаев его остановил:
– Нет, вы послушайте, что было дальше. Свалив Галчинского, я ободрился. Я понял, что выбрал правильный путь. Я купил несколько тетрадей в линейку и принялся за работу. Вижу какого-нибудь активного большевика, и тут же сигнал: завербован такой-то разведкой. Вижу, в Красной Армии появился какой-нибудь выдающийся командир – сигнал на него. Вижу, какой-нибудь ученый, какой-нибудь талант новоявленный собирается то ли необыкновенную машину создать, то ли урожай небывалый вырастить – сигнал. Ну, с талантами, знаете ли, расправляться проще простого. Если он в науку свою или в искусство свое углубился, он вокруг себя ничего не видит и непременно глупости понаделает. На собрания не ходит, когда предлагают выступить, старается отмолчаться, а если уж и скажет что-нибудь, то обязательно невпопад. Уничтожать таланты, Иван Васильевич, самое приятное и безопасное дело. Витает он где-то там в своих эмпиреях, а его вдруг на землю спустят и спрашивают: а что вы, милейший, думаете относительно, скажем, левого уклонизма или правого оппортунизма? А он, видите ли, как раз про это ничего и не думал. Да как же можно об этом не думать? Сейчас, когда обостряются противоречия, когда во всем мире сложная обстановка и капиталисты предпринимают новые атаки. И ведь не сразу, Иван Васильевич, и не всякого человека волокут в кутузку, а еще поиграют с ним, как кошка с мышкой, пусть выйдет, мол, на трибуну, пусть политические свои ошибки признает, а он упирается, он хочет, чтоб его поняли. «Что вы, товарищи, я политикой вовсе не интересуюсь». А ему в ответ головой покачают, да пальчиком погрозят, да подмигнут. «Брось, – говорят, – ты человек, конечно, умный, но зачем же нас-то за идиотов держать? Мы же понимаем, что отход от политики – это тоже политика». А он: «Да что вы, да я…» А иной начнет хорохориться. Как же, я талант, я гений, на мое место ведь кого попало не поставишь. А вот и поставим, а вот и поставим. То есть не то что даже кого попало, а самого последнего идиота возьмем и поставим. – Тут Запятаев захихикал, затрясся, а когда успокоился, продолжал: – Эх, Иван Васильевич, как вспомню, так плакать хочется, сколько через мои руки людей самых выдающихся прошло. Физики, ботаники, писатели, ваятели, артисты, партийные работники. Элита. Сливки общества. Я две дюжины тетрадей на них извел вот таких, общих. И ведь почти каждый раз без промаха. Нет, вы уж не говорите, доверчивей этой власти на свете нет. И каких только глупостей я не писал, во все верят. Про одного, например, сообщил, что в день открытия бухаринского процесса он вышел из дома с заплаканными глазами. Я же не писал, почему он был заплакан. Может, его жена скалкой побила, а не то чтобы он Бухарину особенно сочувствовал. А его взяли. Про другого очень заслуженного товарища я сообщил, что он в интимной беседе с таким-то отрицательно отзывался о нашем о чем? О кли-ма-те. Пропал и этот. И тот, который его слушал, тоже пропал. А как же! Разве можно о нашем климате отрицательно отзываться? – Запятаев подмигнул, перекосился, похихикал. – Вот, Иван Васильевич, и судите сами, какое оружие в современных условиях страшнее: пулемет, картечь или этот вот маленький огрызок.
Внезапно появился вертухай и, увидев, что работа не двигается, стал грозить обоим карцером. Но двух «Казбеков» – одного в зубы и другого про запас, за ухо – оказалось достаточно, чтобы смягчить его душу. Он удалился, а Запятаев, угостив Чонкина и сам закурив, продолжал свой рассказ:
– Любой преступник, Иван Васильевич, каким бы он ни был хитрым и ловким, рано или поздно попадается, и подводит его что? Бес-печ-ность. Нет, сначала он, конечно, бывает осторожен и осмотрителен и потому действует безнаказанно. Но как раз безнаказанность постепенно и неизбежно приводит к беспечности. Так было и со мной. Сначала я писал свои так называемые сигналы левой рукой, в перчатке, бросал в почтовые ящики подальше от дома, и всегда в разные, принимал другие меры предосторожности и не попадался. Но со временем становился все беспечнее, все нахальнее. То забуду надеть перчатку, то поленюсь нести в дальний ящик. И, естественно, дело кончилось полным чем? Про-ва-лом. Как-то вечером, возвращаясь с работы домой, иду я по тротуару, вдруг скрип тормозов, кто-то сказал: «Эй, товарищ!» Я оглянулся, и в этот момент какая-то сила оторвала меня от земли, по-моему, я сделал даже что-то вроде сальто, а пришел в себя уже на заднем сиденье «эмки» между двумя верзилами в шляпах, надвинутых на глаза. Я, конечно, пытался протестовать: по какому, мол, праву и так далее, но один из них сказал: «Сиди и молчи», – и я замолчал. Короче говоря, привозят меня к серому зданию, въезжаем во двор, выходим, поднимаемся по лестнице и оказываемся в кабинете самого Романа Гавриловича Лужина, главного их начальника. Если вы не знаете, что такое Лужин, я вам скажу: это чудовище. Впрочем, с виду похожее на человека. Сидит за большим столом уродливое существо, ростом с карлика, говорит с кем-то по телефону вполголоса, кажется, даже любезничает, улыбается и острит, но я-то знаю, что этому дяденьке ничего не стоит перестрелять хоть тысячу человек одновременно.
Стою ни жив ни мертв. Существо поговорило по телефону, положило трубку, выбирается из-за стола, подкатывается ко мне на коротких ножках вплотную и разглядывает в упор. Я понимаю – игра окончена, теперь главное – твердость, спокойствие и выдержка. Теперь-то я уж кое-что успел сделать. Но все-таки, знаете, к расплате сколько ни готовься, а когда доходит до нее, то, как бы вам сказать, приятного мало. И вдруг слышу:
– Так вот он, значит, и есть тот самый легендарный Зоркий Глаз? Долго же вы от нас скрывались. Чудовищно долго. (Это его любимое слово – «чудовищно».) И что же, так вот все и действовали в одиночку?
Когда он заговорил, я как-то сразу опомнился, чувствую, что взял себя в руки, и отвечаю с вызовом, дерзко:
– Да, в одиночку.
И тут произошло нечто для меня совсем неожиданное. Лицо его расплывается в широкой улыбке.
– Видали, – кивает он тем, которые меня привели, – какой герой? В одиночку.
Вижу, и эти улыбаются благожелательно. И опять голос Лужина.
– И напрасно, – говорит, – в одиночку. Вы для нас много сделали, спасибо, конечно, но время натпинкертонов прошло, давайте действовать сообща, давайте объединим наши усилия, давайте вместе бороться за нашу советскую власть.
Я смотрю на него и понять ничего не могу. Что значит – за, я же против, это же очевидно. Дурака валяет? Смеется над жертвой? Но слышу, он спрашивает что-то уж совсем несусветное – почему я до сих пор не в партии. Не знаю, как отвечать, что-то мямлю, а он опять улыбается и сам подсказывает:
– Считаете себя недостойным?
– Да-да, – хватаюсь я за эту соломинку, – именно недостоин.
Он доволен. И эти довольны.
– Скромность, – говорит он, – конечно, украшает человека, но ведь и самоуничижение паче гордости. Так что чего уж там скромничать, вступайте, мы поможем.
Короче говоря, обласкал он меня, с ног до головы елеем обмазал. Только один раз заминка вышла. Спросил он меня про материальные дела, а я сдуру возьми и ляпни: я, мол, не за деньги, а бескорыстно.
Тут он первый раз с начала нашего разговора нахмурился. Посмотрел на меня подозрительно, и я понял: ему бескорыстные непонятны. Надо сказать, меня спасло то, что я тут же перестроился и сказал, что, вообще-то говоря, от денег отказываться не собираюсь.
– Да-да, – он радостно закивал, – мы все, конечно, трудимся не за деньги, но мы материалисты и этого не скрываем.
Он обещал мне помочь, как у них говорят, материально. И вообще много раз повторял одну и ту же фразу: «Мы поможем». А потом проводил до дверей, долго жал руку.
– Идите, товарищ Запятаев, работайте. И помните: такие товарищи, как вы, нам нужны.
Я вышел на улицу совершенно ошалелый. Еще час назад, когда они везли меня в машине, я готовился к чему угодно – к тюрьме, к пытке, к смерти, а тут… Я шел, я улыбался, как дурак, а в ушах у меня все звучало: «Такие товарищи нам нужны». Ну, думаю, если вам нужны такие товарищи…
Тут Запятаев согнулся в три погибели, схватился за живот и мелко затрясся, словно в припадке. Чонкин испугался. Он думал, с напарником что-то случилось.
– Эй! Эй! Ты что? – кричал Чонкин, хватая его за плечо. – Ты чего это, а?
– Нет, – трясся Запятаев, медленно разгибаясь и рукавом вытирая слезы. – До сих пор, как вспомню, не могу удержаться от смеха. Нет, вы представляете, – повторял он, тыча себя пальцем в грудь, – им нужны такие товарищи…
Он смеялся до икоты, до судорог, пытался продолжить рассказ, но опять давился от смеха и корчился, и опять тыкал себя пальцем в грудь, на все лады повторяя слова «такие товарищи». Потом кое-как пришел в себя и стал рассказывать дальше.
После того как он побывал у Лужина, дело его значительно облегчилось. Ему уже не надо было прибегать к таким жалким ухищрениям, как писание левой рукой и в перчатке. Теперь он открыто составлял целые списки людей, которые, по его представлению, были еще на что-то способны, и со списками не бегал к отдаленным почтовым ящикам, а смело шел Куда Надо (правда, с черного все-таки хода) и передавал написанное из рук в руки. Постепенно и на работе дела у него пошли на лад. Он вступил в партию и стал делать головокружительную карьеру. Стоило ему подняться на очередную ступеньку служебной лестницы, как уже и следующая вскоре не без его участия освобождалась. И нажимались тайные пружины, и отступали на задний план другие претенденты, и Запятаев поднимался все выше и выше.
Но чем выше он поднимался, тем чаще сталкивался с неожиданной проблемой. Язык, на котором он говорил, резко отличался от языка новых хозяев жизни.
– Вы понимаете, – размахивал он руками, – я же дворянин. Я петербуржец. Меня бонна воспитывала. Я не умел говорить по-ихому… тьфу… вот видите, а теперь отучиться не могу. А тогда у меня просто язык не поворачивался. Ну, с манерами-то было полегче. Целовать дамам ручки я отвык быстро. Не подавать пальто и первому ломиться в дверь я более или менее научился. И когда мне кто-нибудь говорил о хороших манерах, я уже вполне привычно возражал, что женщина в нашем обществе такой же равноценный товарищ и ее можно отпихивать плечом, потому что и ей позволяется делать то же самое.
С языком было хуже. Элементарные слова вроде «позвольте», «благодарю вас», «будьте добры» вызывали недоумение, на меня смотрели удивленно, и я сказал самому себе: так дальше продолжаться не может. Ты, сказал я себе, можешь сколько угодно притворяться своим среди этих людей, ты можешь делать вид, что полностью разделяешь их идеи, но, если ты не научишься говорить на их языке, они тебе до конца никогда не поверят.
И вот я, как ликбезовец, засел за учебу. О боже, какой это был тяжелый и изнурительный труд! Вы знаете, я всегда был способен к языкам. В детстве меня учили французскому и английскому. Потом я неплохо знал немецкий, болтал по-испански и даже по-фински немного читал. Но этот язык… Этот великий, могучий… Нет, вы даже представить себе не можете, как это трудно. Вот некоторые умники смеются над нынешними вождями, над тем, как они произносят разные слова. Но вы попробуйте поговорить, как они, я-то пробовал, я знаю, чего это стоит. Итак, я поставил перед собой задачу в совершенстве овладеть этим чудовищным языком. А как? Где такие курсы? Где преподаватели? Где учебники? Где словари? Ничего нет. И вот хожу я на разные собрания, заседания, партийные конференции, слушаю, всматриваюсь, делаю пометки, а потом дома запрусь на все задвижки и перед зеркалом шепотом воспроизвожу: митирилизем, импирикритизем, экпроприцея экспроприторов и межродный терцинал. Ну, такие слова, как силисиский-комунисиский, я более или менее освоил и произносил бегло, но, когда доходило до хыгемонии прилитырата, я потел, я вывихивал язык и плакал от бессилья. Но я проявил дьявольское упорство, я совершил величайший подвиг. Уже через год совсем без труда и даже почти механически я произносил килуметр, мулодежь, конкрэтно. Но иногда я употреблял такие выражения и обороты, что даже искушенные партийные товарищи не каждый раз могли сообразить, что это значит. Ну вот, например, по-вашему, что это: сисификация сызясного прызводства? Поняли?
– Не, – признался Чонкин, – не понял.
– Естественно. Это означает интенсификация сельскохозяйственного производства. Это уж высший класс. Когда я овладел этим языком в совершенстве, некоторые товарищи смотрели на меня с умилением. Иные пытались подражать, не всем удавалось. Теперь благодаря таким товарищам и новому языку передо мной все дороги были открыты. Вскоре я занял тот самый пост, с которого сбросил когда-то кого? Рудольфа Матвеевича. Я к тому времени уже женился и, между прочим, на ком? На Валентине Михайловне Жовтобрюх. И детишек завел двоих. И делал карьеру, но цели своей главной не забывал никогда. Правда, карандашик мне уже был не нужен. Я уже работал в иных масштабах. Я всех самых лучших инженеров и конструкторов прямиком отправлял к таким товарищам. Я это дело, которым руководил, разваливал, как только мог. И вы думаете меня за это схватили? Как бы не так, меня за это орденом наградили. Меня ставили в пример как проводника образцовой кадровой политики. Меня уже в Москву собирались перевести. Вот бы где я развернулся. Но тут… – Запятаев двумя руками схватился за голову и покачал ею, – тут, Иван Васильевич, я совершил такую глупость, такую глупость, что даже стыдно рассказывать. Как вы помните, меня поднял кто? Я-зык. А кто меня погубил? Я-зык. Вы знаете, не хочется продолжать. Трудно. Давайте быстренько уберем, а то придет надзиратель, орать будет.
– Да не будет, – сказал Чонкин. – Ты давай дуй дальше, а я сам, я мигом.
Он выплеснул на пол ведро воды и стал метлой гнать ее к середине.
– Ну ладно, – согласился Запятаев, – трудно, но доскажу. Так вот, – продолжал он, стараясь держаться так, чтобы Чонкин мог его видеть, – в один прекрасный день прибыл в нашу контору с инспекцией первый секретарь обкома товарищ Худобченко. Дядя на вид простоватый, ходил в вышитой украинской рубахе, говорил на том же языке, что и я, может быть, без моей виртуозности, но все-таки в этом смысле кое-чего тоже стоил. Был тоже бдительным, искал у нас шпионов, вредителей и диверсантов, нашел только двоих, я до него хорошо поработал. Товарищ Худобченко остался мной очень доволен, собрал совещание, хвалил меня, ставил другим в пример, и дело, как обычно, закончилось большой пьянкой за казенный, разумеется, счет.
Народу набилось порядочно. Пили, пели «Йихав козак на вийноньку» (любимая песня Худобченко) и плясали гопака. Публика, доложу вам, собралась отборная. Все говорили на том же языке, что и я, все занимались тем же, чем я, то есть совершенно явно и открыто наносили максимальный ущерб тому делу, которым руководили, все при этом гордились своим рабочим или крестьянским происхождением. И вдруг мне, идиоту, спьяну, что ли, померещилось, что я в тесном кругу самых интимных единомышленников, которые так же, как и я, хорошо знают, что делают. И мне вдруг захотелось их как-то раскрыть, сказать, бросьте, мол, притворяться, здесь все свои. Да если бы я так сделал, это было бы меньшей глупостью, чем то, что я сделал на самом деле. Я встал… и вот, если вы даже попробуете представить себе, какую невероятную глупость я мог сделать, если даже у вас очень развито воображение, вы будете думать три дня, но, уверяю вас, ничего подобного не придумаете. Я встал и начал… язык не поворачивается признаться… и начал читать кого? Вер-ги-ли-я! И мало того что Вергилия, но на чем? На ла-ты-ни! О боже! Конечно, я сразу понял, что совершаю что-то ужасное, я еще только начал, а вижу, что лица у моих слушателей вытянулись, они переглядываются между собой, потом на Худобченко вопросительно смотрят. Смотрю, тот тоже поначалу насупился, а потом заулыбался, поманил меня пальцем. Вот так. Как собачку. И я приблизился, виляя хвостом. А Худобченко спрашивает очень доброжелательно:
– Що це ты, интересно, такое балакал?
– Та так, – в тон ему отвечаю, – Вергилия немного балакал.
– Кого?
– Вергилия. Вы разве не узнали?
– Ни, не узнав. И на какому ж языку?
– Сам точно не знаю, – говорю, – может быть, на латинскому.
– Ого! – удивился Худобченко. – И много ж ты знаешь подобных Вергилиев?
Понимаю, что дело плохо, плету какую-то чушь, что в нашей церковно-приходской школе был учитель, он знал немного латынь и нас учил.
– То, шо он знал, – перебивает Худобченко, – это неудивительно. Он, может, из буржуев был. А вот шо ты это запомнил, шо голова у тебя так устроена, это мне непонятно. Вот вы, хлопцы, – повернулся он к остальным, – кто из вас кумекает по-латинскому?
Те молчат, но видом своим каждый дает понять, что не он.
– И я не кумекаю. Ни. Потому шо мы с вами деревенские валенки, мы знаем только, как служить нашей партии, нашей советской власти и как бороться с ихими врагами. А если и заучиваем шо наизусть, то только исторические указания товарища Сталина. А вот товарищ Запятаев, он и по-латинскому понимает, а может, и еще по-какому.
И тут все добродушие с него вмиг слетело, лицо стало жестким и холодным, как промерзший кирпич.
Я попытался исправить положение, пробовал даже и гопака сплясать, но Худобченко, посмотрев, заметил вскользь, что и гопак у меня получается «по-латинскому».
В ту же ночь меня взяли прямо из постели, допрашивал лично Роман Гаврилович Лужин, разбил нос, выбил два зуба, и вот теперь я латинский шпион.
Запятаев вздохнул, вытащил из кармана свой портсигар, угостил Чонкина «Казбеком» и сам закурил.
– Что же делать, – сказал он, – винить некого, кроме себя. А ведь как шел! Как шел! Мне бы только до Москвы добраться, а уж там бы я… В условиях военного времени я бы столько мог наворочать. Да вот промахнулся. Но я знаю, я не один. Таких, как я, много. Они везде. Днем и ночью, все вместе и каждый по отдельности, они делают свое дело, и они непобедимы, потому что никто из них никогда, ни при каких обстоятельствах не должен раскрываться. А если попадется такой дурак, как я, он должен немедленно и безжалостно уничтожаться. Чтобы никто, никогда, ничего… – Запятаев бросил папиросу, сжал пальцы в кулаки, потряс ими и хотел заплакать, но тут в дверях появился вертухай и спросил:
– Кто из вас Чонкин? На выход! – и посторонился, уступая дорогу.
4
Подследственный Иван Чонкин сидел на табуретке у стены по правую руку от лейтенанта Филиппова, но на большом расстоянии от него, ближе к двери. Расстояние определялось инструкцией, предусматривавшей возможность нападения на следователя. Над белобрысой головой лейтенанта висел портрет Сталина с девочкой на руках. Девочка всем своим видом выражала Сталину глубокую признательность за свое счастливое детство. На стене напротив висела цитата из речи Сталина, оформленная в виде красочного плаката:
«Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми…» – прочел Чонкин и, устав от чтения, перевел взгляд на окно, которое было прямо перед ним. Нижняя половина была закрашена белой масляной краской с подтеками, в левом углу было процарапано одно недлинное слово, которое Чонкину приходилось читать и раньше.
Если бы была закрашена не нижняя половина окна, а верхняя или вообще никакая, то Чонкин мог бы увидеть неширокую пыльную площадь и Нюру, стоящую посредине, раскручивая сумку в руке. Чонкин не может видеть Нюру, и Нюра не может видеть его. Его видит ворона, взлетевшая на верхушку полувысохшего тополя. Ворона сидит на ветке и равнодушно косит глаза на Чонкина. Ей все равно, на кого или на что смотреть – на корову, на Чонкина или на столб. Вот она всполошилась, захлопала крыльями, тяжело поднялась, исчезла за левым краем окна, но тут же вновь появилась и села на ту же ветку.
Глядя на ворону, Чонкин задумался. «Это ж надо, – думал он, – сколько на свете всяких тварей. И вороны, и собаки, и индюки, и клопы, и люди, и гадюки, и рыбы, и всякие пауки. И каждая тварь для чего-то живет и чего-то хочет, а кто знает, чего?»
– Фамилия?
Чонкин вздрогнул и, оторвав взгляд от вороны, перевел его на лейтенанта, который, занеся над бумагой ручку, смотрел на Чонкина выжидательно.
– Чия? – спросил удивленно Чонкин.
– Ваша, – терпеливо объяснил лейтенант и обмакнул ручку в чернила.
– Наша? – еще больше удивился Чонкин. Он думал, может быть, самонадеянно, что его фамилия лейтенанту известна.
– Ваша, – повторил лейтенант.
– Чонкины мы, – скромно сказал Иван и посмотрел на лейтенанта с опаской – может, чего не так.
– Через «о» или через «ё»?
– Через «чи», – сказал Чонкин.
В кабинете лейтенанта была совсем веселая (не сравнить с камерной) обстановка. С треском топилась высокая круглая железная печь дореволюционного образца с надписью в виде эллипса: «Железоделательный заводъ Кайзерлаутерна». Волны тепла набегали на Чонкина, располагая ко сну, и вопросы лейтенанта казались лишними и даже, может быть, неуместными.
– Год рождения, образование, национальность, социальное происхождение….
– Чего? – переспросил Чонкин.
– Родители ваши кто?
– Так ведь люди, – ответил он, не понимая сути вопроса.
– Я понимаю, что не коровы. Чем занимаются?
– В гробе лежат.
– То есть умерли?
Чонкин посмотрел на лейтенанта удивленно: что он, лук ел или так одурел?
– Неужто живые? – сказал он и сделал гримасу, выражающую крайнюю степень недоумения.
– Чонкин! – повысил голос лейтенант. – Перестаньте валять дурака и отвечайте на вопросы, которые вам задают. Если родители мертвые, значит, так и надо сказать – мертвые.
– Вот тоже… – Как бы ища поддержки, Чонкин оглянулся на печку, потом на портрет Сталина. – Кабы ты спросил, какие они, я бы тебе сказал: мертвые. А ты спрашиваешь, чем занимаются…
– Не ты, а вы, – поправил лейтенант.
– Мы-ы? – переспросил Чонкин, вконец запутавшись. – Ты про кого спрашиваешь?
– Я говорю, Чонкин, что к следователю, тем более к старшему по званию, нужно обращаться на «вы». Ты меня понял?
– Понял, – сказал Чонкин, впрочем, не очень уверенно.
– Ну ладно, – сказал лейтенант. – Это оставим. Перейдем к другому. Скажи мне, как ты очутился в деревне Красное?
– Как очутился?
– Ну да.
– В деревне Красное?
– Ну да, да, – повторил лейтенант несколько раздраженно. – Как ты очутился в деревне Красное?
– А то ты не знаешь.
– Чонкин! – Лейтенант стукнул по столу кулаком.
– А чо Чонкин, чо Чонкин! – стал сердиться подследственный. – Будто ты сам не знаешь, как солдат очучивается где-либо. Старшина послал.
– Какой старшина?
– Ха, какой! – Чонкин развел руками и опять посмотрел на печку, на Сталина, на девочку, как бы призывая их в свидетели непроходимой тупости лейтенанта. Не знает, какой еще может быть старшина.
– Ну этот же, – сказал он. – Ну как его… Ну Песков же.
– Значит, старшина Песков? – переспросил лейтенант, записывая. – Проверим. А может, не было никакого старшины, а, Чонкин? – Филиппов хитро посмотрел на Чонкина и подмигнул. – Может, ты сам сбежал? Может, ты так решил: пусть, мол, Родину защищают всякие дураки, а я умный, я лучше с бабой где-нибудь полежу. Может, так было дело?
– Нет, – хмуро ответил Чонкин. – Не так.
– А с какой же ты тогда целью поселился у Беляшовой?
– У Беляшовой?
– Д-да, у Беляшовой. С какой целью ты у нее поселился?
– Так ведь с целью, чтоб жить с Нюркой, – объяснил Чонкин правдиво.
Лейтенант встал и ногой отодвинул стул к стене. Он не был доволен результатами допроса, который принимал дурацкое направление. Лейтенант нервничал. Он только утром вернулся из области, где подполковник Лужин всю ночь вынимал из него душу, въедливо выспрашивая все подробности и детали того случая, когда оперативный отряд под руководством Филиппова в полном составе был захвачен одним плохо вооруженным красноармейцем.
– Чудовищная история, – сказал Лужин. – Нет, я этого понять не могу. Тут что-то не так. Что-то ты от меня скрываешь. Может быть, ты сделал это намеренно, а?
– Зачем? – спросил Филиппов.
– Если бы я знал, зачем, – вздохнул Лужин, – я бы тебя расстрелял. Я этого не делаю только потому, что не хочу привлекать к этому делу внимание. Да. Потому что с меня тогда тоже спросят. Так что пока иди, но помни: я могу передумать.
– А как же быть с Чонкиным? – спросил лейтенант.
– С Чонкиным? – переспросил Лужин. – Как быть? Оформить как дезертира и – в трибунал. Дело не раздувать, никого не втягивать. Но чтобы я фамилию Чонкин никогда больше не слышал, нет.
Филиппов вернулся в Долгов на рассвете невыспавшийся и злой. Ему хотелось действительно с этим Чонкиным закончить как можно скорее, а для этого получить от него нужные показания. Но Чонкин явно над ним издевался и валял дурака.
– Ну так что же, – сказал лейтенант, приближаясь к Чонкину, – все более или менее ясно. Неясно только одно: как вы, советский человек из простой крестьянской семьи, докатились до того, что теперь сидите в тюрьме, как это понимать, а, Чонкин?
Чонкин пожал плечами и хотел сказать, что и сам он не понимает, как же это все действительно получилось, но ничего не сказал, потому что вдруг увидел перед собой ствол направленного на него револьвера.
– Застрелю-у-у! – завопил лейтенант.
Чонкин инстинктивно дернулся головой и ударился затылком о стену.
В кабинете сразу стало вроде бы неуютно. От револьвера пахло ружейным маслом и смертью.
– Сейчас, сука, падло, выпущу в тебя всю обойму! – зверел на глазах лейтенант. – Да я тебя… в рот и в нос, и в печенку…
Тут автор вынужден остановиться в полном бессилии. Боясь оскорбить нравственное чувство читателя, он и дальнейшую речь лейтенанта не может изобразить иначе, как точками, а отдельные печатные слова, которые случайно в ней попадались, приводить нет никакого резона, ибо, вырванные из контекста, они не передают ни глубины, ни яркости, ни даже смысла употребленных в данном случае выражений.
Сидя на табуретке, Чонкин пытался уклониться от револьвера. Он откидывал голову и стукался затылком о стену. Дырка ствола плавала перед глазами, двоилась, троилась и вызывала в переносице ощущение невыносимого зуда. Чонкин морщился. Верхняя губа его при этом непроизвольно задиралась и ползла к носу, обнажая редкие зубы.
Красное от возбуждения лицо лейтенанта то заслоняло, то открывало портрет Сталина с девочкой на руках. Сталин улыбался девочке и одним глазом сочувственно косил на Чонкина, как бы говоря ему: «Ты же видишь, что он психически ненормальный, ты уж лучше не серди его, не запирайся, а скажи сразу все как есть».
Чонкин вовсе даже не запирался, но от страху у него залипал язык и не мог вытолкнуть наружу ни единого слова. Лейтенант же воспринимал молчание подследственного как неслыханное наглое упорство. И был бы хоть человек, а то так, недотепа какой-то, с которым, если б не обстоятельства, можно делать все, что хочешь, можно посадить, можно расстрелять, а можно и просто выпустить в лес, на свободу, и пусть живет себе на дереве, как обезьяна.
– Встать! Сесть! – закричал Филиппов. – Встать! Сесть! Встать! Сесть!
Чонкин встал, сел, встал, сел, встал, сел – дело привычное.
– Будешь говорить?
Чонкин молчал.
– Руки вверх! Лицом к стенке! Ты чувствуешь, падло, сука, чем это пахнет?
Стволом револьвера он почесал Чонкину затылок, а коленом уперся в зад.
Чонкин чувствовал, чем это пахнет, ему было ужасно неприятно. Он уткнулся носом в стену. Хотелось влипнуть в стену и просочиться через нее.
Открылась дверь. Чонкин краем глаза увидел – вошла секретарша Капа. Нисколько не удивившись происходящему, Капа отозвала лейтенанта в уголок и стала шептать что-то, но что именно, Чонкин не разобрал. Он разобрал только, как лейтенант спросил: «А что ей нужно?» – но ответа Капы не слышал.
– Ну вот, – громко и недовольно сказал Филиппов. – Не дают работать. Ходят, ходят, ходят тут всякие…