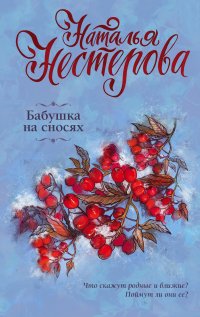
Читать онлайн Бабушка на сносях бесплатно
- Все книги автора: Наталья Нестерова
Часть первая
Побег
Сын
На планете Земля, в городе Москве, недалеко от метро «Шаболовская», в отремонтированной пятиэтажке находится удивительное место. Если бы я не считала действия «рамочников», отыскивающих с помощью двух рогаток воду под землей или участок для будущего храма, натуральным шарлатанством, то сказала бы, что моя кухня счастливым образом попала на источник земной благодати. В углу кухни, совершенно не гармонируя с остальной мебелью, стоит старое кресло. Потертая обивка целомудренно прикрыта наброшенным пледом. Случается, гость плюхается в мое кресло, вызывая у меня такой же душевный дискомфорт и смущение, как если бы он попросил поносить мое нижнее белье.
Когда, придя с работы или утром, едва разлепив веки, я сижу в кресле и пью крепчайший кофе, мир перестает меня волновать. Войны, землетрясения, террористические акты, дрязги на работе, скандальные соседи, гололедица, жара, безденежье – все мимо. Проблемы, которыми я утыкана, как дикобраз иголками, отпадают. Дикобраз без иголок, наверное, похож на заурядную свинью. Пусть! Внешний вид в этот момент меня тоже не заботит.
Подобное психотерапевтическое место-кресло есть у многих людей. Во всяком случае, потертое кресло с наброшенным старым пледом описано во многих романах. Интересно, другие люди так же, как я, опытным путем свили себе воображаемое гнездышко?
Прочла статью в женском журнале о том, как избавиться от плохого настроения и плаксивости, если вас обидел начальник, изменил муж или любимая кошка попала под трамвай. Нынешние публикации под стать времени. Раньше было время раздумий, теперь – действий. Раньше в статьях пространно рассуждали, теперь дают конкретные упражнения по избавлению от комплексов. Упражнение предлагалось следующее: сесть на стул, закрыть глаза и снова припомнить все самые обидные, хлесткие, обжигающие слова, которые вызывают чувство собственной никчемности, или растерянности, или агрессии. Вернувшись в униженное состояние, хорошенько его прочувствовав, нужно встать со стула и мысленно оставить на стуле все обидные ощущения…
В искомом состоянии крайнего раздражения (уже не помню, по какому поводу) я плюхнулась в кресло и, не закрывая глаз, воскликнула:
– Да пошли вы все к чертовой бабушке! Стульев в доме не хватит оставлять на них идиотские обиды! Села и забыла! Сидю и не помню!
Но сегодня магическое кресло не действует. Я забралась в него с ногами, передо мной чашка кофе и пачка сигарет. Пропади все пропадом!
Крепкий кофе и табак мне вредны. Я беременна!
В сорок восемь лет и без пяти минут бабушка!
Последние несколько месяцев моей любимой темой в разговорах с подругами было прославление женского климакса. Отличный период! Ни тебе регулярных недомоганий и страхов запятнанной одежды, экономия денег и сплошная благодать! Я радовалась тому, что вступила в естественный возрастной период без сопутствующих горестей: депрессии, упадка сил, отливов-приливов. Живи и наслаждайся!
Двадцать шесть лет назад, когда я носила своего сына, в начале беременности регулярно прибегала к врачу:
– Он шевелится! Я чувствую!
– Еще рано, – охлаждала мой пыл доктор. – Это вы чувствуете биение брюшной артерии.
Поэтому и теперь я пришла к врачу, когда моя брюшная артерия что-то уж сильно и регулярно стала пульсировать. Как же, артерия! Восемнадцать недель, все сроки для аборта пропущены. Он уже шевелится.
Вот и сейчас: тук-тук, тук-тук. Я смотрю на свой живот – нисколько не вырос, все юбки сходятся, а внутри свернулся клубочком… Господи! За что мне?
Посетила я не одного, а группу врачей. С «артерией» пришла к хирургу, он отправил меня к гастроэнтерологу. Испуганным носителем экзотической болезни я переползала из кабинета в кабинет районной поликлиники, пока не оказалась у гинеколога и не услышала приговор. Отказалась верить, бросилась в платный медицинский центр, к «женскому специалисту», берущему за прием полторы тысячи рублей. Он диагноз подтвердил и подробненько обрисовал перспективу.
В моем преклонном возрасте очень велик риск родить дауна или какого другого урода. Кроме того, если в моем теле имеется микроскопический зачаток опухоли, то во время беременности она расцветет пышным цветом. Научно-популярную лекцию мне прочитал, денежки отрабатывал:
– Ежесекундно в организме человека образуются сотни раковых клеток. Но другие клетки, так называемые киллеры, их подавляют. Во время беременности, когда все силы организма направлены на то, чтобы вырастить и выносить плод, иммунитет матери резко ослабевает, активность киллеров падает. Поэтому строжайше запрещено рожать женщинам, перенесшим онкозаболевания или с подозрениями на них. По этой же причине позднородящие мамы, и особенно имевшие большой перерыв между родами, редко доживают до совершеннолетия своих чад.
Словом, перспектива у меня получается радужная дальше некуда – произвести на свет кретина, который к тому же станет моим могильщиком.
Доктор, лысоватый сорокалетний мужчина с таким гладким лицом, словно никогда не бреется, смотрел на меня профессионально ласково и сочувственно. Он уже давно имеет дело с женщинами, причем с психически неуравновешенными.
Ведь его пациентки либо страдают от нежеланной беременности, либо никак не могут понести. А если они счастливо ждут ребенка, то с головой у них все равно непорядок, именуемый психозом беременных. Очевидно, доктор укрепился в мысли, что с нами надо разговаривать как с детьми или умственно отсталыми – спокойно и доброжелательно, но припугнуть, если надо.
Врач прямо не сказал, а намекнул, что помочь мне можно. По медицинским показаниям беременность можно прервать на любом сроке. Очевидно, это дело противозаконное, потому что доктор ходил кругами. Рассказывал, что в сумасшедших домах (хорош примерчик!) или в фашистских концлагерях (того краше!) методику давно отработали.
– Но вы не пугайтесь! – жужжал он. – У вас может обнаружиться… как бы обнаружится, заболевание сердца или та же онкология.
– А как это на практике происходит? – промямлила я.
– Не думаю, что пациенткам следует это знать.
Но вы, Кира Анатольевна, человек образованный, передовой, следовательно, дотошный, поэтому вкратце объясню. Все под наркозом! В полость матки вводят специальный раствор, плод погибает, вызываются искусственные роды. Все под наркозом, – повторил он. – Через месяц будете вспоминать это как страшный сон, не более.
Вздохнуть свободно? Забыть? Страшный сон?
Это мечта из мечт… мечтов… мечтаний – запуталась. Действительно, голова не варит, хотя и кипит.
С доктором я попрощалась, сказала, что подумаю. Он дал мне номер своего сотового телефона.
Если соглашусь на операцию, по телефону скажет ее стоимость и назовет дату. Конспиратор!
Тук-тук, тук-тук. Опять! Тебе там не сидится?
Чувствуешь, что конец приближается? Кто, интересно, мальчик или девочка? Сейчас уже хорошо видно, наверное. Сердце бьется, ручками-ножками шевелит… А мы зальем его формалином или кислотой – чем там они травят, вытащим на свет – еще не человека, но уже и не зародыш…
Не заметила, как выпила кофе и выкурила сигарету. Вдруг испугалась. Чего? Мне не вредно, а ребенка не будет. Или будет?
Я редко испытываю ненависть к людям. Все мы в общем-то похожи: чуть лучше, чуть хуже, умнее, глупее – нет оснований для бурных страстей. Но однажды я испытала острую, ослепляющую ненависть к человеку. Делала аборт, единственный в жизни, воспоминание не из приятных. На соседнем кресле женщине сказали, что у нее срок больше положенного, но операцию могут сделать, ведь у нее уже двое детей. Она встала и попросилась подумать. Меня везли из операционной на каталке, а женщина все ходила по больничному коридору и «думала». В затуманенном сознании у меня промелькнуло: «Как же можно, вот так, в коридоре маршируя, решать судьбу человека?» На следующий день я увидела ее в столовой. Аборт она сделала и с аппетитом уминала сиротский больничный суп. У меня руки задрожали от негодования, куска не могла проглотить, желчью захлебывалась. Прекрасно сознаю, что какой-нибудь психоаналитик объяснил бы мою жестокую ненависть к посторонней женщине тем, что я переношу на нее собственные угрызения и раскаяния. Пусть психоаналитик будет тысячу раз прав! Но если бы мне выдали в ту минуту лицензию на отстрел людей, я бы, не колеблясь, убила мать двоих малышей. И сейчас вспоминаю о ней как о великой злодейке.
Теперь вопрос. Чем я в данную минуту отличаюсь от той «злодейки»? Ребенок, который во мне тук-тукает, имеет не меньшее право на жизнь, чем мой первый (уже первый!) горячо любимый сын Лешка. Младенец, не исключено, даун или урод. А почему дауну отказано видеть солнце, улыбаться, пачкать пеленки? Он может свести меня в могилу.
Ну и что? Рано или поздно я неизбежно там окажусь. В природе задумано: семечко умирает и дает жизнь другим семечкам. И та же природа не предусматривала мое субъективное волеизъявление – оставить ребенка или убить.
Куда меня занесло? В примитивно философские дебри. А что говорят великие философы из женоненавистников? «Все в женщине загадка, а отгадка называется беременностью», – кажется, Ницше.
Ваше научное преосвященство, а как именуется прерванная на большом сроке беременность? Молчите? Вот и я не знаю.
Жутко хочется еще кофе и никотина. У меня низкое давление, кофе ежедневно литрами потребляю. Кофепроизводящим компаниям давно пора предоставить мне большую скидку на свою продукцию. То же самое касается табачных фабрик. Из тридцати последних лет я не курила и не глушила кофе только два года – пока была беременна Лешкой и кормила его грудью.
Если я не собираюсь оставлять ребенка, то почему с такой ненавистью-вожделением смотрю на пачку сигарет и на кофеварку?
* * *
Открылась входная дверь и захлопнулась. Возня в прихожей, чмоканье, хихиканье. Пришли дети. Лешка и Лика. Мой сын и его жена. Целуются, наверное. В домашние тапочки переобуваются и целуются. Можно подумать, в лифте они не тем же самым занимались, о высшей математике говорили.
А вот приложится ли сыночек к щеке родной мамы? У нас в семье было принято ушел-пришел отмечать прикосновениями к близким. А родители Лики – из другой, пуританской, секты. Когда на их серебряной свадьбе народ требовал «горько!», они, каменея от стыда, вытягивали губы трубочкой и едва касались друг друга. Мать Лики, она мне кто? Сватья? Так вот, сватья баба Бабариха весь вечер сидела пунцовая, как помидор.
Между тем целомудренный физический контакт между близкими людьми, он же дежурный поцелуй, я считаю прекрасным обычаем, ведь мы не так часто говорим друг другу приятные вещи.
Хотя был поцелуй Иуды. Как там по библейской легенде? Иуда согласился предать своего учителя за тридцать сребреников, и его поцелуй должен был указать стражникам на Иисуса. Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Их лица очень близко, они за секунду до поцелуя: прекрасное лицо Христа с высоким лбом и ясным взглядом и безобразный профиль Иуды со злобными глазами под низким лбом. Христос знал о предательстве и подставлял щеку…
Я думала о фресках, когда Лика, пропорхнув через кухню, подскочила ко мне и поцеловала в щеку.
– Здравствуйте, Кира Анатольевна!
– Здравствуй, ребенок! – отвечаю я.
Значит, Джотто? Тогда неизвестно, кто из нас Иуда. Скорее всего, я. Потому что, если бы я мечтала о дочери, если бы я имела ее и воспитала, как хотела, у меня бы все равно не вышло такой, как Лика, моя невестка. Всем нам: родителям Лики, Лешке, мне – часто хочется закатать ее в прозрачный пластик, чтобы обезопасить от грязи, пыли, царапин внешнего мира.
– Маман! Привет! – В другую щеку меня целует сын.
Нынче я у него «маман». От двух Лешкиных лет до его же пятнадцати я была исключительно «мамочкой». Потом он звал меня «мутер», как бы на немецкий манер. А на первом курсе института появилось лихое «мать», и вызвало у меня бурю протеста: «Я тебе не мать! Сам ты мать!» Короткий период продержалось «мамуля», и вот уже второй год я «маман».
– Представляешь! – Лешка поднимает крышки кастрюль в поисках ужина. – Лика купила фен, а он сдох через две секунды. Она пошла в магазин менять, а ей там не то что не поменяли, а задурили голову и еще всучили утюг дорожный на батарейках. Утюгу цена три сотни, а они слупили тысячу – вся ее стипендия. Во прикол! Лика, отдай маман квитанции и электроприборы. Что мы едим? Не врубаюсь: где ужин?
Подтекст понятен? Лика, девушка тонкой организации, не может объясняться с хамоватыми продавцами, а маман обязана. И ужин не приготовлен, опять маман плохо службу несет.
– Кира Анатольевна? – спрашивает Лика. – Вы себя плохо чувствуете? Отдохните в комнате, а мы приготовим. Хорошо?
– Нет. – Я поднимаюсь из кресла. – Ты иди полежи, целый день на ногах. Я вас позову. Нет, нет! – отмахиваюсь от предложений помощи. – Здесь накурено, иди, не дыши!
– Иди, не дыши! – подхватывает Лешка, обнимает жену и уводит.
Лика беременна, двадцать недель. У меня на две меньше, что неудивительно. Когда они поженились, я трезво рассудила: лучшее свадебное путешествие – это когда в привычной обстановке и никто не мешает. Иными словами, отселять надо не молодых, а самим от них отъезжать. И я взяла путевку в сочинский санаторий. Там случился курортный роман. Или маленькая повесть, рассказик?
Ответ на этот вопрос не дает мне покоя.
Переворачиваю рыбное филе на сковородке и казню себя. Почему я вдруг почувствовала неприязнь к Лике? Еще вчера я бы забрала у родного сына почку, чтобы отдать ей. Еще вчера… еще сегодня утром я не верила до конца, что ношу ребенка.
Когда Лешка решил жениться, только ленивый из друзей и знакомых не сказал мне: отговори сына. Нынче, мол, никто не женится, все живут.
То есть живут, живут, пока перезреют, что именуется «проверят свои чувства», потом расписываются и рожают детей. Мол, это свидетельствует о цивилизованности общества, о серьезном и ответственном отношении к такому институту, как брак.
А для меня, если бы Лешка жил и жил с Ликой, не взваливая на себя никаких обязательств, было бы самое обрушительное из всех возможных разочарований – разочарование в сыне. Я вырастила трусливого приспособленца?
Кроме того, только дурак не мог сообразить, что Лику нужно приковывать к себе немедленно и крепко. Лика – это Божий подарок. Третий подарок Всевышнего моему сыну. Первые два – мы с отцом. От меня Лешка взял стройную фигуру и неземную красоту, от отца – часть интеллекта.
Хорошо, что только часть. Если бы ему достались все отцовские мозги и он их приумножил, я бы отправилась в монастырь.
О Лике нельзя сказать, красивая она или безобразная. Вернее, или красивая, или безобразная.
Одни люди немеют от ее вида, другие внутренне передергиваются. На лице все не правильно: форма сердечком, очень большие глаза и высокие брови, губы узкие, хотя и волнующе очерченные. При этом кожа потрясающей персиковой гладкости. В романах Вальтера Скотта или Теккерея полно девушек с прекрасной кожей. Но как они сохранились в наши дни, вскормленные на докторской колбасе и нитратной картошке? Росту Лика предлинного – метр восемьдесят шесть. Наденет каблуки – и возвышается над Лешкиными метр девяносто. Когда я вертикально оказываюсь рядом, то задираю голову, разговариваю с ними как страус с жирафами.
Внешность (я в группе тех, кто Лику считает небесно прекрасной) – полдела. Не видели мы красоток с поганым характером? Нрав у Лики мягкий и железобетонно добрый. Точно девушка воспитывалась исключительно на великой русской литературе, с ее идеями женской чистоты, преданности и самоотверженности. Лика в меру наивна и глупа, хотя очень умна – на отлично учится в Финансовой академии, а там сплошная математика. Я могу про Лику написать тысячу слов, но достаточно одного, уже упомянутого. Подарок! Нам с Лешкой Подарок!
И вот к этой подарочной девочке я воспылала почти ненавистью. Объяснение простое, как две копейки. Вчера расклад нашей жизни на несколько лет вперед был ясен. В пику доброхотам, друзьям и родным, которые в ужас пришли: мало того что Лешенька рано женился, ему еще и ребенка заделали (кто кому заделал – вопрос), – я радовалась Ликиной беременности. Радовалась эгоистично. Во-первых, я люблю детей, во-вторых, я получалась вся из себя молодая, красивая и уже бабушка. Ах, шарман! Ах, пикантно! Моя зарплата, Лешкина аспирантская стипендия и приработок, Ликины будущие гроши-пособие – проживем!
Профланируем на медленном полете, зато у нас маленький будет!
А теперь? Из-за беременной невестки я должна собственным ребенком жертвовать. Боливар двоих не выдержит. А Лешка даже не Боливар. Он, считай, четверых нахлебников не выдержит. Лешка хоть и молодой крепкий мужчина, муж и будущий отец, но без моего финансового подспорья жилы надорвет. Бросит науку, уйдет в бизнес. Бизнес ему противопоказан, как слону балет. Слон, конечно, может выступать в цирке, ноги задирать. Но то бедный слон. А в науке, в своей квантовой физике, Лешка многое может сделать. Недаром научный руководитель подбивает вместе книгу написать. Где видано, чтобы научный руководитель едва не каждый вечер своему аспиранту названивал? Интерес к маме аспиранта не учитываем. Интерес мы прихлопнули, когда Лешка еще диплом защищал.
Стоп! Назад! С чего мы начали? С того, что я Лику захотела со свету сжить. Временно? Это у меня пройдет? Вот извлекут зародыш, и пройдет?
– Кира Анатольевна! – Лика оказалась тихо под боком. – Давайте я помогу. Вы все переворачиваете и переворачиваете рыбу. Она уже готова, и овощи поспели. Вы садитесь, я накрою.
– Тебе было велено лежать! – говорю я строго, отдавая Лике поварскую лопаточку. – Ты витамины сегодня пила?
– Пила, пила, пила! – нараспев произносит Лика и усаживает меня в кресло.
– Я пью! Все мне мало! – дурным голосом орет Лешка, помогая жене. – Уж пья-я-яною стала!
– У тебя прекрасный голос! – щедро улыбается Лика. – Настолько прекрасный…
– Что отсутствие слуха, – подхватываю я, – почти незаметно.
– Медведь только на одно ухо наступил, – соглашается Лика, – второе…
– Не додавил, – подсказываю.
Все в порядке: я встала на привычные рельсы, запрыгнула в поезд – на два голоса мы незлобиво перемываем Лешке косточки. Это наше любимое занятие по вечерам за ужином. У нас отличная семья, веселая. Если шутим над кем-то, то по-честному – двое против одного.
– Вы курите, – предлагает Лика, когда мы пьем чай. – Мне правда не мешает.
– Бросила курить, – вырывается у меня.
– Час назад? – усмехается сын.
Но Лика не поддерживает его и спрашивает серьезно:
– Почему? Что случилось?
Дети знают, что от безуспешных попыток бросить курить я отказалась. Поставила на них крест и нашла оправдание: «Я исключительно волевая и сильная женщина. Но для гармонии и равновесия у меня имеется один недостаток – табакозависимость. Если брошу курить, для той же гармонии может обнаружиться другая слабость. И неизвестно, какая лучше».
– Ты ведь у врача была? – спрашивает сын, озабоченно напрягаясь. – Что нашли?
* * *
Тут бы мне все и рассказать. Сложить руки на груди и признаться:
– Дорогие детки! Ваша мама немножко беременная, то есть не немножко, а очень основательно.
Лица у них вытянутся, и в первые секунды они не смогут скрыть растерянное отвращение.
– А папа знает? – спросит после молчания Лешка.
– Папа тут ни при чем, – вынуждена буду сказать я.
– А кто «при чем»? – с вызовом спросит Лешка.
– Дед Пихто! – огрызнусь я.
Но потом возьму себя в руки и начну лебезить перед ними:
– Дети! Не судите меня строго, так получилось. Давайте вместе подумаем над решением проблемы.
Есть два выхода. Первый: оставить все как есть, и через полгода, взявшись за руки, мы с Ликой дружно пойдем в роддом рожать. Выход второй: ребеночка внутриутробно прикончить, извлечь, выбросить и навсегда об этом забыть.
Лика, добрая душа, конечно, скажет вслух:
– Я за то, чтобы «взявшись за руки».
Но внутренне меня возненавидит как соперницу. Как человека, на которого рассчитывали, а он свинью, то бишь собственного ребенка, подсунул.
Лешка, сдерживая возмущение, процедит:
– Почему ты взваливаешь на нас ответственность и решение собственных проблем? У нас своих недостаточно?
И он, мой сыночек, будет совершенно прав! Сама садик насадила, самой надо поливать.
* * *
– Кира Анатольевна? – Голос Лики вибрирует от волнения. – Почему вы молчите? Что у вас обнаружили?
– Золото и бриллианты, – усмехаюсь. – Ничего у меня не обнаружили! Я совершенно здорова.
Здорова как корова, ведь не сказать «как бык». А курить я бросаю, потому что готовлюсь стать… бабушкой. Да! Прежде всего – бабушкой! Эдакая бабушка на сносях…
– Кормящая бабушка? – подхватывает сын.
Он даже не догадывается, насколько прав. Чтобы не догадался, перевожу разговор на другую тему:
– Вы над именем для ребенка думаете?
Вопрос не праздный. Дело в том, что в роду Ликиного отца принято чудить с именами. Лику полностью зовут… держитесь! Гликерия Митрофановна! Как купчиху! Имя настолько ей не подходит, что каждый, кто услышит, начинает смеяться. Отца Лики соответственно зовут Митрофан Порфирьевич. Вот я и боюсь, что моего внука назовут Нестором или Калистратом, а внучку окрестят Глафирой или Ефросиньей.
– Девочку я хочу назвать Варей, – говорит Лика. – Варварой.
– Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, – не соглашается Лешка. – Мальчика мы назовем Тимур.
Они смотрят друг на друга с вызовом. Незамеченная, я удаляюсь с кухни. Пусть сами посуду моют. И я знаю, что дальше последует. Они повздорят, Лика даже всплакнуть может. Потом бурно помирятся. Циклический процесс может повторяться по три раза на день. Милые бранятся…
* * *
Ночью мне снились кошмары. Мы с Ликой неутомимо рожали детей. Уже вся квартира была ими забита, шагу не ступить – кругом младенцы. А нас все тянет и тянет, как при поносе. Лика отлучится на минутку в комнату – возвращается с дитем.
Потом я, почувствовав настоятельную потребность, убегаю, прихожу с ребенком.
Мама Лики, Ирина Васильевна, с квадратными глазами то одного плачущего младенца схватит, потрясет, то другому соску в рот сунет, то третьему пеленки меняет. Дети почему-то разновозрастные – от месяца до полугода. В основном ведут себя смирно, лежат, почти не дрыгают ножками-ручками. И смотрят виновато-виновато, как бы прощения просят, что на свет появились.
– Дочь! – заходится в крике Ирина Васильевна. – Прекрати это безобразие!
Ирине Васильевне хочется и на меня заорать, но она не смеет, на Лике отыгрывается.
А у нас с Ликой совпадают позывы, мы хватаемся за руки, уносимся в темную комнату и возвращаемся с парочкой новых младенцев.
– Мамочка! – плачет Лика. – Я не виновата! Кира Анатольевна первая начала!
– Что вы, собственно, имеете против? – говорю я торопливо, чтобы успеть оправдаться до следующего позыва. – Это природный жизненный процесс, он естествен и неостановим! Дети – цветы жизни!
– Да тут уже целая клумба, – поводит руками Ирина Васильевна. – Кто их кормить будет? Они же в гербарий превратятся!
Я не успеваю ответить, потому что снова убегаю метать икру…
Первой мыслью утром было: куда мы денем эту прорву детей? Потом я окончательно проснулась, вытерла пот со лба и сообразила, что рекордного приплода не будет. Родится двое детей, и только.
Наверное, решение оставить ребенка я приняла давно или сразу, как узнала о беременности. Но решение было крошечным и не очень твердым.
Пройдя через ночной кошмар, оно укрупнилось и отвердело. И я чувствовала, что дальше решение будет расти и каменеть, пока я не окажусь замурованная в нем, как в саркофаге.
Хотя внутренние монологи продолжались, та сторона меня, которая была за, явно побеждала.
Мое тело? Мое! Что хочу, то с ним и делаю! Никто мне не указ! Почему я должна оглядываться на других? До седых волос дожила и все оглядываюсь.
Вы, Ирина Васильевна, шокированы, что я в положении? Вот и живите в шоке! А я буду пребывать в радостном ожидании маленького человечка. Конечно, он может родиться дебилом-олигофреном. Но это будет мой дебил! Личный! Зато внук наверняка получится умственно здоровенький. Их обоих я и буду воспитывать. Дебил потянется за здоровеньким и поумнеет, а внук потянется… Ладно, когда они начнут мозгами обмениваться, я их разлучу. А Лика продолжит учебу, выйдет на работу. Пока же… Пока же я с двумя младенцами могу на паперти посидеть?
Есть другой выход: занять денег у подруги Любы.
Она жутко богатая и отвалит мне сколько угодно. А лет через сто мы долг отдадим…
Зачатие было вполне порочным, у ребенка есть отец. Как он отнесется к факту своего отцовства?
Возликует, прижмет меня к груди, осыплет поцелуями, прослезится от радости и умиления, предложит руку и сердце, будет носить на руках… А когда устанет на руках носить, посадит, а сам будет вокруг меня передвигаться исключительно на коленях…
Как бы не так! Еще скажи: тапочки в зубах принесет! Все это – из области фантазий, воспаленного воображения немолодой, влюбленной и беременной дурочки.
Невестка
Завтракаем мы с Ликой вдвоем. Лешка спит, ему на работу к двенадцати. Как говорит моя подруга Люба, «Леша аспирант, но работает в бассейне, чтобы не утонули». Все ясно сказано, хоть и не литературно. А литературно длинно получается: на аспирантскую стипендию не проживешь, у Лешки разряд по плаванию, днем он дежурит в качестве инструктора в бассейне. Сидит на стульчике, в одном ухе наушник, гремит музыка, второе ухо свободно для улавливания криков о помощи. Одним глазом следит за рукой, которая на бумаге формулы чертит, вторым сканирует бассейн, не пошел ли кто-то ко дну.
– Кира Анатольевна, кофе я вам сварила. Не очень слабый?
– Спасибо, в самый раз. Доставай творог и ешь!
Творог беременным полезен, в нем кальций. Я терпеть не могу кисломолочные продукты.
– Не хотите чуть-чуть? – как всегда из вежливости, предлагает Лика.
– Давай! – вздыхаю я. – Сегодня заеду на рынок и куплю тебе свежего.
– Сегодня у моей мамы день рождения, – говорит Лика. – Она ждет нас на ужин.
– Прекрасно помню! – вру, не дрогнув бровью. – И подарок уже купила, на работе лежит.
Оренбургский пуховый платок.
Кто меня дергал за язык выдумывать про платок? Это я от смущения, что забыла про памятные даты в жизни новой родни. А если не найду платок? С надеждой смотрю на Лику: может, у ее мамы уже есть сей предмет? Лика истолковывает мой вопросительный взгляд по-своему, как надежду на одобрение подарка. И одобряет:
– Прекрасно! Мама будет очень рада. Как вы думаете, а если мы с Лешиком подарим ей дорожный утюг?
– Вместе со сгоревшим феном? Твоя мама дальше дачи не любит ездить. Кстати, давай квитанции, утюг и фен. В каком магазине ты их приобрела? Сегодня, нет, завтра я к ним наведаюсь.
У ребят нет денег, поэтому – ненужный утюг в качестве подарка любимой маме. Мне не нравится их щепетильность в финансовых делах. Попросите на дело – я всегда дам. В стародавней коробке от кубинских сигар лежат деньги на наши текущие расходы – часть моей зарплаты. Собственные деньги Лешка и Лика тратят на ерунду вроде утюга или посещения кинотеатра, где стоимость билета равняется половине его стипендии. Из сигарной коробки они всегда берут на дело с пояснениями: продукты купить, за квартиру заплатить, белье в химчистку сдать. На книжной полке стоит том «Живопись Джотто», где я храню свои накопления, поскольку банкам не доверяю. Ребята ни разу не поинтересовались творчеством Джотто. И на самом деле их щепетильность мне по душе. Всем понятно, что сидят молодые у меня на шее. Но сидят скромно, руками не машут, ногами не дрыгают. Их желание стать на собственные ноги читается легко, да только раньше батьки в пекло не получается.
Заношу ложку над пиалой с творогом, политым медом, и соображаю, что нового не куплю – не успею после работы заехать на рынок, надо платок искать.
– Нет, не могу! – отодвигаю пиалу. – Убери в холодильник, завтра съешь.
– Кира Анатольевна! – умоляет Лика. – Я вас очень прошу! Я читала, что у женщин старшего возраста кости становятся хрупкими, как бы размываются. Процесс называется… называется…
– Остеопороз.
– Да! Вам и маме надо обязательно кушать творог, в нем кальций!
– Куда ни кинь, – невесело усмехаюсь, – со всех сторон мне кальций необходим.
Лика смотрит с неподдельным удовольствием, как я давлюсь творогом.
К слову, у беременных бывают бзики по поводу еды. Что-то они вдруг невзлюбят, а чего-то хотят нестерпимо. Даже термин есть такой, но я его не помню. Лика на первых порах страстно желала тертой морковки. Лешка все тер и тер морковь, приговаривая: «Мне, конечно, нетрудно. Мне уже терка снится ночами, но это мелочи. Об одном прошу: не роди зайца!»
А я не могу припомнить ничего специфического в изменении вкусов. Как любила рассыпчатую картошку с жирной селедкой, так и люблю. И раньше, и сейчас готова отдать врагу молочный суп. Неужели пищевые пристрастия беременных – капризы от сознания беременности, психологические штучки?
– Как замечательно, что вы не курите! – вздыхает Лика и сочувственно спрашивает: – Трудно держаться?
«Не то слово, девочка! – хочется воскликнуть мне. – Я готова продать душу дьяволу за одну затяжку! Но я могу распоряжаться только своей душой, а не здоровьем ребенка».
– Не напоминай! – прошу я мученическим голосом.
– Не буду! – обещает Лика.
– Возьми сразу деньги за фен и утюг. – Я открываю кошелек.
– Когда получите, положите их в сигарную коробочку.
– Ты меня поучи, куда что класть! – притворно обижаюсь. – Делать мне нечего, как помнить, сколько должна! Бери!
– Беру! – покоряется Лика и протягивает руку. – Спасибо! Мы похожи на дипломатов страшно дружественных стран.
Мне выходить на полчаса позже, чем ей. Лика стоически переносит мою заботу: витамины выпила? колготки под джинсы надела? укутай горло шарфом! зонтик не забудь! проверь сотовый телефон, батарейка заряжена?
Все девушки по горло хлебнули подобной материнской опеки. Выйдя замуж, им, естественно, хочется быть хозяйками, отвечать за мужа, за себя, за дом. А тут свекровь со старой песней! Другая на месте Лики давно бы меня возненавидела. Если бы на месте Лики была другая, я бы держала холодный нейтралитет.
– И самое главное! – Я перехожу к заключительному этапу прощания в прихожей. – Сколько перекрестков ты должна перейти?
– Четыре, включая один Т-образный! – рапортует Лика, целуя меня в щеку. – Обязуюсь идти на зеленый свет в толпе пешеходов. И не задумываться!
– Помни! – Я закрываю за ней дверь.
Наша чудная, распрекрасная Лика имеет привет в голове, он же черная дыра, он же способность вырубаться из действительности на несколько минут.
Маленький привет есть у всех людей: кто не захлопывал случайно дверь, оставив ключи внутри, не проезжал на автобусе свою остановку? Задумался – и приветик! Но если у нас маленький приветишко, то у Лики – пребольшущий. Она отключается, проваливается в черную созерцательную дыру, продолжая механически повторять действие или работу, которую делала до припадка. Начала резать хлеб – всю буханку пошинкует, то же касается сыра или колбасы. Или готовит Лика омлет. Нужно вбить два яйца. Она разбивает одно, второе, третье, четвертое… На ячеистой сетке лежат три десятка. Пока Лика не пустила в дело дюжину, не очнулась.
Сидит на диване с шитьем, второй час сидит. Я подхожу и строго восклицаю:
– Лика!
– А?
– Что ты делаешь?
– Юбку подшиваю.
– Ты ее уже по пятому кругу подшиваешь!
И познакомились Лика с Лешкой после одного из припадков, который едва не стоил Лике жизни.
Дело происходило в бассейне.
* * *
Лику приступ застиг в душе. Она помылась, надела шапочку и нижнюю часть купальника – трусики. До этого ходила в бассейн в закрытом купальнике, он пришел в негодность. Взяла летний, пляжный, но в голове сидело только одно привычное действие натягивания купальника – снизу вверх, и готово. Топлес Лика прошествовала в бассейн. Проплыла всю дорожку, когда сообразила, что вода как-то по-новому чувствуется телом.
Груди плавали-колыхались сами по себе. Бюст у Лики не шуточный, полноценный третий размер.
Лика забилась в угол бассейна, закрылась руками и оставалась на плаву благодаря интенсивным движениям ногами, которые быстро уставали.
Боковым зрением, то есть тем глазом, что присутствовал на работе, Лешка увидел: в углу корыта (так они называют ванну бассейна) кто-то бьется и совершает странные погружения. Лешка вытащил наушник из уха, отложил тетрадку, встал и, подойдя к краю корыта, присел на корточки.
– Эй! – позвал он. – С вами все в порядке?
– Уйдите! – завопила Лика, которой до этого момента удавалось избегать контакта с людьми. – Уйдите!
Ее крик привлек плавающих на соседних дорожках людей. Они повернули в ее сторону головы, казавшиеся в эту минуту Лике противными как у монстров – лысые из-за шапочек и кровожадно жестокие из-за выпуклых очков в резиновой оправе. Монстры заинтересовались, стали подплывать.
Лика была готова скорее умереть, чем пережить скандальный позор. Она так и крикнула:
– Лучше умереть!
И стала натурально захлебываться и опускаться на дно.
– Только не в мое дежурство! – воскликнул Лешка.
Он в секунду сбросил спортивные штаны и майку, прыгнул в воду. Была самоубийца одета или раздета, Лешка не сообразил, когда они боролись на дне корыта. Лешка – за спасение. Девица – против. Кругом бульки-пузырьки, завихрения воды – и все как в замедленном кино, которое нужно срочно убыстрить. Да еще мешались другие добровольные спасатели или просто любопытные, которые ныряли вокруг. Они составляли группу зрителей подводного действия, активно обсуждающую спектакль на поверхности. Вынырнут, перебросятся парой фраз, и опять на дно.
Бассейн кипел. Не умеющие плавать бабульки в полиэтиленовых чепчиках в цветочек, перебирая руками по канату дорожки, из неглубокой части бассейна устремились поближе к «сцене». У ныряющих бабульки активно интересовались: кто утонул? уже утонул? мужчина? женщина? давно?
Лешка пробыл под водой рекордное время. Хотя силы были неравны – девушка отчаянно сопротивлялась. Но водички все же наглоталась и обмякла.
Лешка схватил ее за волосы, потащил кверху. И, вынырнув, не озаботился вопросом, почему она нагая.
Он даже этого не заметил. Девушку надо было откачивать, часть признаков жизни она утратила.
Если бы действие происходило на земле, можно было сказать, что народ бросился врассыпную, освобождая инструктору проход. А здесь они врассыпную отплыли. Лешка притаранил утопленницу к лесенке, взвалил на плечо, поднялся по ступенькам и потрусил в инструкторскую – каморку, дверь которой выходила в бассейн.
Лешка положил девушку на топчан и оказал первую помощь утопающему – точно как учили на курсах спасателей. Помощь удалась – девушка изрыгнула воду, прокашлялась, посинела, побелела и стала ровного светло-красного цвета.
Лика испуганно оглянулась по сторонам, сдернула со спинки стула полотенце и прикрылась им.
– Как вам не стыдно! – воскликнула она.
– Мне очень стыдно, – заверил Лешка. – Сколько работаю, деньги получаю, а еще никто не тонул. Нашатырь нюхать будете? Или резкость восприятия уже восстановилась?
Лика смотрела на него с ужасом, если не сказать с ненавистью.
– Резкость? – повторил Лешка и постучал себя по голове. – Резкость наведена?
Лика зло кивнула. Лешка подумал, что, хотя это не зафиксировалось в его памяти, спасая утопленницу, он стянул с нее купальник.
– Вы, знаете ли! – произнес он возмущенно. – Покончить с собой в общественном бассейне! Ничего оригинальнее не могли придумать? И как вам, в ваши годы, жизнь успела надоесть? Мне моя еще лет сто будет нравиться.
– Кто вас просил ко мне подходить? – обреченно спросила Лика.
– А что мне было делать? – с вызовом ответил Лешка. – Смотреть, как вы погибаете?
– Прислать какую-нибудь женщину!
– А спасатель мужского пола вас не устраивает? Какие привередливые утопленники пошли!
– Купальник, – прошептала светло-красная от смущения Лика.
– Плавает на дне бассейна, – успокоил Лешка.
– Висит в душе.
– А как он туда переполз?
– У вас с головой проблемы? – спросила Лика прорезавшимся голосом.
– Не такие, как у вас, но тоже имеются. Послушайте, девушка! Поскольку вы не проявляете естественной благодарности спасителю, значит, не оставили мыслей о самоубийстве. Суицидальностью кто занимается? Правильно! Психиатры. Вот их сейчас я и вызову.
– Не надо психиатров! – испугалась Лика. – Я же вам простым русским языком объясняю. Я задумалась, со мной бывает. Забыла надеть верх купальника. Когда обнаружила, что я… что его нет… а тут вы… хотела на дне отсидеться… лучше не жить.
– Из-за купальника? – уточнил Лешка. – Вернее, его отсутствия?
Лика кивнула и закусила губу, собираясь плакать.
– Ну, вы даете! – развеселился Лешка, хотя на самом деле струхнул, что девушка зайдется в рыданиях. – Да у нас тут это привычное дело! И мужики и бабы, извиняюсь, женщины регулярно под нудистов косят. А недавно детсадовская группа была полностью без плавок. Кстати, вы задумывались, почему скульпторы голых мальчиков изображали, а девочек – нет? Ну, помните, статуя писающего мальчика в Стокгольме или в Амстердаме?
Ни там, ни там Лешка не был, зубы заговаривал, отвлекал. Не дожидаясь ответа, он тараторил:
– Как вы себе представляете скульптуру писающей девочки? А чего вам, простите, стыдиться? Где у вас уродство и недостатки? Вам гордиться своим телом надо. А стыдиться люди должны собственной глупости и невежества.
(В этом месте, когда мне Лешка рассказывал, Лика прокомментировала: «Сначала он не замечал, что я голая, а потом, оказалось, рассмотрел и оценку поставил»).
– Если вы такой добрый, – попросила Лика, – принесите мне, пожалуйста, купальник из душа.
– Легко! – согласился Лешка. – Только вы слово дайте, что обратно в корыто не броситесь топиться! У вас мама есть? Отлично? Поклянитесь своей мамой и моей заодно. Если с моей мамой что-нибудь случится, – пригрозил он, – я вас на том свете найду!
И он пошел прямо в женский душ. Просто пошел – как в мужской. То ли спасенная Лика уже произвела на него неизгладимое впечатление, то ли заразила своей забывчивостью.
Нагие женщины в душе не верещали, когда Лешка заглядывал в кабинки в поисках купальника. Женщины онемели от деловой наглости инструктора-спасателя, который кивал на купальники и спрашивал: ваш или чужой?
Лешка не отпустил Лику домой. Она плавала под его присмотром до конца смены. «Пупырышками покрылась, – гордо вспоминал Лешка, – но покорно плавала. Так я ей понравился!»
А дальше у них было как водится. Свидания, прогулки, кафе, поцелуи в парадном, свадьба.
Тот случай в бассейне хорошенько потряс Лику, и она почти перестала впадать в забытье, контролировала себя. Но когда забеременела, когда мы пережили естественное «конечно, рано, но все равно отлично!», когда Лика стала на путь подготовки себя к материнству, припадки возобновились.
Когда они случались дома – полбеды. Не жалко ведь нам дюжины яиц или десятикилограммовой пачки стирального порошка, который она засыпала в машину. Мы пол по колено в пене помоем и машину отремонтируем. Но ведь случись большой привет на улице, Лика под автобус может попасть! И мы стали бояться перекрестков, как злейших врагов. Отсюда – постоянный контроль по мобильному телефону и регулярные напоминания о правилах уличного движения.
* * *
Я шла к метро и невольно присматривалась к детям, спешащим в школу. Как хорошо стали одевать малышей! Яркие курточки, смешные трикотажные шапки с помпонами, веселые рюкзачки за плечами. А мордахи такие же, как были у наших детей, которых мы наряжали, выкручивая свою фантазию, скромненько и модненько.
Вот пацаненок точно не сделал домашнее задание. Шевелит губами – придумывает «правдивое» объяснение для учительницы. А девочка наверняка отличница, ноздри трепещут – репетирует свой ответ у доски. Этот не выспался, бедняга, а тот несет в рюкзаке «бомбу» – живую лягушку, пластикового, но очень натурального ужа или просто рогатку.
У ограды детского сада я затормозила и понаблюдала давно забытую сцену. Два карапуза выясняют отношения. Слов не слышно, но повод для разбирательства, конечно, важный. Например, вчера состоялся обмен фонарика на водный пистолет.
Сегодня первый хозяин фонарика хочет его обратно, потому что пистолет сломался. Конфликт! Словесные аргументы кончились, первый бьет второго. Драться по-настоящему он еще не умеет – наотмашь машет кулачком. Только бы воспитательница не подоспела, досмотреть хочется. Второму не больно, удар принимает толстая куртка на пуху, но после секундной паузы он начинает громко плакать. Первый смотрит на него внимательно, набирает сколько можно воздуха в легкие и тоже начинает орать. К ним спешит воспитательница…
Умные детки! Оба все сделали правильно. Первый сообразил, что у внезапно нападающего есть преимущество и надо применять другое оружие.
Второй уже усвоил: кто громче орет, тот и обиженный, его не накажут.
Еду в метро и думаю о том, как странно (с сегодняшнего дня) я стала воспринимать детей. Старый опыт, точно старая закваска в опаре, потихоньку начинает процесс ферментации: набухания и разрастания теста. Во мне набухает сознание того, что я могу воспитать очень достойного человечка или двух, считая внука. У меня есть опыт, есть терпение, отсутствуют эгоистические интересы по устройству карьеры и личной женской судьбы, я готова отдать детям остаток жизни. Готова физически и морально.
«Твой опыт ничего не стоит, – возражает внутренний голос-скептик. – Если бы родители накапливали позитивный опыт в воспитании детей, то в многодетных семьях последыши становились бы гениями или святыми пророками. Насчет моральной и физической готовности к подвигу – напыщенная фраза. Нас, женщин, сладким не корми – дай пафосу!»
– Выходите на следующей? – Меня толкают в плечо.
– А какая следующая? – спрашиваю я, уподобляясь своей рассеянной невестке.
До работы еще пять минут пешком. Трачу их опять-таки на размышления о детях. Мне вообще не хочется ни о чем и ни о ком думать, кроме детей.
Маленький ребенок – это вселенная, облако, в центре которого ты вращаешься. С годами вселенная-облако уменьшается и концентрируется, превращаясь в яркую самостоятельную звезду. Мой Лешка – это уже звезда. Потери облака или звезды страшны. У меня есть знакомые, которые потеряли маленьких детей, и другие, потерявшие больших. В первом случае была нелепость, во втором – война в Чечне. Смерть маленького ребенка – как потеря кислорода в воздухе. Гибель взрослого сына – как перечеркивание твоей жизни, отказ в бессмертии. И то и другое невыносимо больно, но переживаемо. Будь наоборот, было бы легче…
Почему я о смерти? Ведь я рожать настроилась?
Потому что мне уже за него страшно! Вдруг под машину попадет? Возьмет от Лики способность отключаться и зашагает на красный свет…
Минуточку! Ликиных генов во мне нет и быть не может. Есть наследственность совершенно другого человека. О! Как я гоню мысли о нем! А они лезут и лезут, как белые корешки из лука-порея.
Живучие, подлецы! Я их оборву, а они опять лезут.
Против личности отца ребенка в качестве генофонда я ничего не имею. Против свиданий с ним – имею, но не могу противиться. Бегу по свистку, то есть по звонку. И с ужасом представляю ситуацию, когда я – женщина, которой через два года пятьдесят стукнет, – говорю мужчине, на шесть лет меня моложе, что беременна. «Извини, милый! Но, несмотря на свой преклонный возраст, я залетела!»
Кошмар! Хуже, чем ночной бред с детородным конвейером!
* * *
Я работаю в государственной корпорации, которую называют естественной монополией. Мы добываем, перерабатываем и продаем нефть. Лично я ничего не добываю и не продаю, тружусь в управлении кадров. Перекладываю бумажки из одной бумажной папки в другую, из одного компьютерного файла в другой.
Меня можно назвать человеком без специальности или профессии. Высшее образование, конечно, имеется, окончила химический факультет МГУ.
Преподавала в школе и в ПТУ. Школа была с сильным уклоном в гуманитарные науки, поэтому химия остальными учителями, родителями и учениками воспринималась как чужеродное наслоение, вроде бородавки. Кому нужны бородавки?
В кулинарном ПТУ я читала курс по организации общественного питания. Спрашивается: что я понимаю в общественном питании? Во-первых, есть учебники, а я человек быстро и хорошо обучаемый. Во-вторых, преподавать то, что никому не нужно, труда не составляет.
В моей трудовой книжке значится районный отдел образования, где я трудилась методистом, парикмахерская, где была администратором, контора по озеленению – там я называлась специалистом по новым технологиям. В фирму, производящую газированные напитки (в подвале), я трудовую книжку не сдавала, вовремя унесла ноги.
Цех вскорости разгромили не то конкуренты, не то бандиты, не то милиция.
Прыгая с места на место, я руководствовалась двумя критериями – зарплатой и географией. Пока Лешка был маленьким, близость к дому имела решающее значение. До последнего времени зарплаты хронически не хватало. А когда десять лет назад наступили последние времена, и я выписывала липовые накладные на липовые газированные напитки, и в семье был полный швах, единственным моим желанием было добровольно сдаться в психиатрическую клинику, попроситься на койко-место.
На помощь пришла подруга Люба, мой добрый ангел. Она купила мне с Лешкой квартиру и заставила своего мужа Антона устроить меня на работу в нефтяную корпорацию. Там я и тружусь поныне, довольная окладом и регулярными премиями.
Ответ на вопрос, почему я не приобрела нормальную специальность, не делала карьеру на последнем месте работы, прост и сложен. Прост для миллионов женщин, которые спросят в свою очередь: зачем мне это нужно, когда мне было думать о карьере? Сложен, потому что надо рассказать всю свою жизнь. Если коротко: в нашей семье (муж, Лешка и я) упор делался не на служебный рост, а на самосовершенствование. Муж по этой тропе двигался семимильными шагами, я брела за ним.
Выбиться из преподавателей в завучи или заместители директора ПТУ – какая проза по сравнению с тремястами двадцатью новыми прочитанными книжками! Наши интересы, моральные приоритеты, победы и свершения лежали вне производственных коллективов. Вот только кушать хотелось!
Поэтому я работала где попало, а муж почти не утруждался, не опускался до прозы бытия.
* * *
Поздоровавшись с коллегами, прохожу в дальний угол комнаты, где находится мой стол. Место стратегически выгодное. Компьютер повернут так, что никому не видно изображение на мониторе.
Если кто-то приближается, я всегда успеваю переключиться на рабочую программу, закрыть книжку, которую скачала дома из Интернета и читаю.
Со стороны посмотреть – я вечно уткнута взором в экран. Нужно иметь ноль целых пять десятых пяди во лбу, чтобы выполнять мои обязанности. восемь рабочих часов. Двух часов вполне хватает.
А если книга интересная, то работа не волк, до завтра не убежит.
Сослуживцы ко мне относятся хорошо. Во-первых, усвоили, что я не рвусь в карьерные выси. Во-вторых, не поддаюсь на провокации, интриги и не вступаю в группировки. В-третьих, можно поплакаться мне в жилетку с гарантией, что дальше информация не уйдет. В-четвертых, меня охраняет имя Антона Хмельнова – полуолигарха-получиновника. С Любиным мужем я на короткой ноге, мы знакомы со студенчества, хотя сейчас видимся нечасто.
Вокруг, конечно, бушуют страсти, текут подводные течения, плетутся козни, выстраиваются ходы-выходы – все десять лет, что я работаю. То нас из управления делают департаментом, то сокращают, то укрупняют, то вакансии открываются по случаю повышения начальства, то варягов присылают, то просто народ заскучает и начинает кого-нибудь со свету сживать.
Сама себе напоминаю центр торнадо. В центре вихревой воронки – зона покоя, в которой я отсиживаюсь и наблюдаю, как одного подхватывает и уносит прочь, другого волочит по земле, и кости все его перебиты. Нет, тут я, пожалуй, на себя наговариваю. Когда я вижу, что отчаянно несправедливо сжирают человека, то подаю голос. На каком-нибудь общем собрании беру слово и поясняю, как все это выглядит с точки зрения элементарных норм порядочности и человеколюбия.
Поэтому меня называют «наш нравственный камертон» или «священная корова с правом решающего голоса». Но своим коровьим правом я пользуюсь нечасто. Как правило, все овцы на заклание есть волки в овечьей шкуре.
Сегодня мне не читается и уж тем более не работается. Выслушала свою коллегу, Олю Маленькую. Она подошла как бы по делу, с бумажкой, и жалуется на Олю Большую. Еще неделю назад две Оли были неразлейвода, несмотря на разницу в возрасте – тридцать и пятьдесят шесть. Нынче светит сокращение, Олю Большую, как пенсионерку, могут турнуть в первую очередь. Она ведет работу, чтобы уволили Олю Маленькую за профессиональную непригодность.
Через час подходит Оля Большая. В ее изложении картина выглядит диаметрально противоположной.
Мол, столько сделала для этой особы, а она неблагодарная, за неблагодарность надо наказывать.
А мне хочется поговорить с ними просто по-бабьи, о своем. Это была бы сенсация! У Оли Маленькой глаза бы полезли из орбит.
– Да вы что, Кира Анатольевна! Вы беременная, честно? Я думала, вы давно не… то есть, конечно, – запутается Оля.
– Предохраняться надо! – авторитетно заявит Оля Большая, которая уж точно «давно не…».
– Девочки! Что же мне делать? Срок большой!
– Избавляться! – скажут они хором.
– Даже я на второго не отважилась, – попеняет Оля Маленькая.
– Какие дети, когда бабушкой скоро будешь? – задаст разумный риторический вопрос Оля Большая.
У обеих во взоре я прочту нетерпение – включить сарафанное радио, идти дальше рассказывать потрясающую новость. И зашушукается народ, забросает меня косыми взглядами. Покатится волна, дойдет до Антона. Информатора он, конечно, обматерит, а потом меня призовет. Антон хороший мужик, только очень богатый и замордованный десятилетиями ответственной работы.
– Не твое собачье дело! – скажу ему я.
– Ты мне четко отвечай! Есть факт или нет факта налицо?
– Он не на лицо, он в животе.
– Ты сдурела на старости лет?
– Тебя, благодетеля, не спросила, с кем мне спать и от кого рожать!
– Кира! – будет орать он мне в спину, потому что я развернусь и уйду. – Кира! Если что-то надо, передай моему секретарю!
Мечты, мечты! Никому я не признаюсь, сплетники могут отдыхать. Через несколько месяцев у меня вырастет живот, но никто не заподозрит, по какой причине. В моем возрасте женщины легко полнеют. Я буду говорить: «Климакс, на гормонах сижу, от них вес прибавляется». А потом уйду в декретный отпуск, и все выпадут в осадок. Но этой трогательной картины я не увижу. Господи, помилуй! Не дай лицезреть сослуживцев в осадке! Иначе от стыда рожу раньше времени!
Родня
Ирина Васильевна, мать Лики, как водится, жарила-парила, целый день у плиты простояла. Стол ломится от разносолов, а на усталую именинницу без слез не взглянешь.
Пуховый платок, повезло, я купила в переходе метро. Могла бы поехать в дорогой магазин народных промыслов и там за другие деньги приобрела бы то же самое. Экономию компенсировала роскошным букетом в кружевной многослойной обертке. Ирина Васильевна не знала, куда пристроить вызывающе помпезный букет, поставила в большую хрустальную вазу, переселив из нее подаренные мужем гвоздики. Обертку мещанскую не сняла, и букет смотрелся как отдельный гость в маскарадном костюме.
Лика и Лешка подарили Ирине Васильевне книгу «Ландшафтный дизайн на шести сотках», а потом, призвав всех к молчанию, вкатили в комнату главный подарок – велосипед. Молчание затянулось.
Я кашляла, чтобы не смеяться, – представила, как непросто будет упитанной Ирине Васильевне удерживать в равновесии центр тяжести на маленьком сиденье.
– Полезная вещь! – пришел в себя Митрофан Порфирьевич.
– Спасибо, я давно такой хотела, – вежливо и неискренне проговорила Ирина Васильевна.
Когда рассаживались за стол, я тихо спросила Лешку:
– Велосипед – твоя идея?
– Ага! На даче нет велосипеда – это же глупость!
– Циолковский! – обругала я сына.
– Кто-кто? – не понял Лешка.
– Циолковский токарный станок на свадьбу жене подарил, ему станок нужен был для опытов.
– Берем пример со старших гениев. – Лешка раскаяния не испытывает и скромностью не отличается.
Тонкие материи, вроде взаимоотношений с новой родней, он во внимание не принимает. Я к вам хорошо отношусь? Хорошо! В случае нужды кровь свою отдам? Отдам! Чего еще нужно?
Ирине Васильевне и Митрофану Порфирьевичу нужно, чтоб все было как у людей. Чтобы мы приезжали каждый выходной на дачу, ели свое варенье и свои огурцы, обсуждали проблемы всходов помидоров и заморозков в период цветения вишни. Чтобы копались в огороде и окучивали картошку. Шесть соток могут занять столько рабочей силы, сколько этой силы имеется. Конечно, Ирина Васильевна и Митрофан Порфирьевич от помощи отказываются – на словах. На деле им было бы по меньшей мере странно, если бы мы прохлаждались в тенечке, когда они корячатся.
Мне же мило в шезлонге с книгой посидеть.
Лешке – погонять мяч, пожарить шашлыки, врубить музыку на полную громкость. А петрушку-зеленушку мы на рынке купим.
И получается: нас тянут в нормальную жизнь родни, а мы сопротивляемся. Я противлюсь замаскированно и идеологически. Лешка – не задумываясь и природно. Его природа состоит из науки, спорта и узкого круга личностей: Лики, меня, отца, друзей – тех, с кем ему интересно. Заставить его общаться с неинтересными людьми практически невозможно. Лешка признает обязанности, но отрицает повинности.
Ирина Васильевна и Митрофан Порфирьевич – очень милые, хорошие люди. Я бы даже сказала, интеллигентные люди с неинтеллигентными профессиями. Она – кладовщица, он – слесарь. Работают на заводе… «Серп и молот»? «Молот и серп»? «Красный богатырь»? «Богатырь в красном»? Не помню.
За столом, кроме хозяев и нас, присутствуют две соседки-подружки Ирины Васильевны и сестра Митрофана Порфирьевича с мужем. Звучат тосты за здоровье именинницы, споро поедаются салаты, студни – народ с работы, голодный.
Поднимается с фужером Лешка. Сейчас брякнет чтонибудь не в дуду. Так и есть.
– Всем известно, как много придумано анекдотов про тещу. Теща – любимый фольклорный персонаж. «Почему?» – спросим мы.
«Ответь себе на досуге», – хочется сказать мне.
Ирина Васильевна улыбается натужно и слегка испуганно. Митрофан Порфирьевич хмурится. Лика замерла от дурных предчувствий.
– Потому что, – как ни в чем не бывало продолжает Лешка, – народ любит своих тещ! Смеется над ними, потому что любит! – повторяет он, замечая на лицах присутствующих непонимание.
«Ох, сыночек! – думаю я. – Будет тебе смех! Сквозь слезы!»
– Так какой анекдот? Расскажи! – перебивает муж сестры.
– Например… – с ходу соглашается Лешка, большой знаток фольклора.
Я изо всех сил лягаю его под столом ногой.
– Э-э-э! – запинается Лешка. – Примеры в данном случае не существенны. Множество проведенных ранее экспериментов доказывают верность моей теории. Давайте выпьем за мою тещу, она же, не побоимся этого слова, мать моей любимой жены!
Все сдвигают фужеры.
Ирине Васильевне после сегодняшнего вечера западет в голову мысль, что единственный зятек рассказывает про нее анекдоты и проводит эксперименты. Эта глупость со временем обрастет массой деталей, подтверждающих неблагонадежность Лешки. Так рождается неприязнь и семейные драмы. Втолковать это Лешке невозможно. Он слишком умный, чтобы понимать простые вещи.
На горячее подается запеченная рыба, мясо в горшочках и рассыпчатый вареный картофель. Все выглядит очень аппетитно, но гости, как говорится, подорвались на ерунде – на закусках и без энтузиазма ковыряются в тарелках. А впереди еще десерт – торт домашнего изготовления, щедрый на жиры и холестерин.
Лешка насытился, заскучал, хочет домой. Обращается ко мне:
– Ты еще побудешь? Мы поехали.
Лика слышит его вопрос и постановление. Не отрывая взгляда от тарелки, тихо произносит:
– Я не поеду. Нужно помочь маме убрать после гостей. Вы поезжайте, я дома заночую.
– Твой дом в другом месте! – злится Лешка.
– Тише! – пинаю его локтем. – Всякое растение, даже самое мощное, произрастает из семечка, мелкого и подчас глазу незаметного. Чтобы не росло, нужно не сажать.
– Ты тоже ударилась в сельскохозяйственные забавы? – хмыкает сын.
– Я имела в виду семена раздора.
– Мура! – отмахивается Лешка. – Ну что? Ударим по мясу? Тебе положить?
– Имей терпение в очереди, – говорю я, вяло жуя, пытаюсь зайти с другого конца.
– Маман! Ты сегодня весь вечер притчи толкаешь. Коэльо начиталась?
– Представь, что ты в очереди, – продолжаю я. – В очереди к врачу, к академику, которому ты принес свою статью, за театральными билетами, за колбасой, за пивом, наконец. Мы большой кусок жизни проводим в очередях. И хотя это время тратится впустую, без него не получить желаемого.
– Ладно! Я не отъезжаю! – Лешка рассмеялся.
Юмор заключается в каламбуре. На их молодежном, сленге «отъехать» – значит прийти в восторг, получить удовольствие. (Купил классный диск. Послушал – отъехал.) Этот глагол также синоним выражению «напиться пьяным». (Слабак! Стакан принял и отъехал.) И третье значение – умереть, преставиться. (Мой дедушка давно отъехал.) Вот Лешка и смеется довольно – употребил слово в четырех значениях, и все подходят.
Мы давно и неделикатно шушукаемся втроем.
Поворачиваюсь к соседке справа, она же соседка по лестничной клетке Ирины Васильевны.
– В ее-то годы и рожать! – говорит соседка. – У самой внук уже в первый класс пошел.
Тема меня живо заинтересовала.
– Женщина в возрасте родила? – уточняю.
– Да, пятьдесят три года, завсекцией трикотажа в нашем магазине.
– Хватит тебе о всякой грязи говорить! – одергивает соседку Ирина Васильевна и брезгливо морщится.
Но меня тот факт, что не одна я дура на свете, очень греет. И есть много вопросов:
– Как она беременность перенесла? Ребенок родился здоровеньким?
– Пока маленький, ведь не разглядишь. Маленькие все здоровенькие, а вырастет безотцовщина, по кривой дорожке пойдет.
– Мужа нет, – киваю я.
Соседка удивляется моей непонятливости:
– Я же говорю, парализовало его от инфаркта.
– От инсульта, – поправляю механически, – парализует после инсульта.
– Один черт! Вот и сидит она, слезами умывается, ребенка грудью кормит. А на кровати муж лежит пластом, мычит и под себя ходит. А дочка не ходит, не помогает. Пока мать в силе и при деньгах была, так нужна, а теперь – сама кувыркайся со своим выродком.
– Ребенок от другого мужчины? – Мне интересны все детали.
– Врать не буду, не знаю. Только она про своего мужа говорила, что у него давно конец в начало превратился.
– Какой конец? – удивляется Ирина Васильевна.
Во мне умер просветитель. Не удерживаюсь от объяснений, даже когда они лишние.
– Конец – это мужской половой орган. Например, о контактах гомосексуалистов говорят: свести концы с концами.
Несколько секунд женщины смотрят на меня молча, переваривая информацию.
– Нет, – качает головой соседка. – Они не гомосексуалисты, просто несчастные люди.
– Как будто гомосексуалисты счастливые, – вставляет вторая соседка.
Разговор уходит в сторону, и я вопросом возвращаю его на старые рельсы:
– Тяжело у завтрикотажем протекала беременность?
Соседка не успевает ответить, именинница Ирина Васильевна рубит тему на корню:
– Хватит нам о всяких гадостях говорить! Тьфу! Противно слушать! Сладкое подавать?
Разговор как разговор, нормальный, женский.
Сплетни как сплетни. А Ирина Васильевна у нас моралистка. Моралите и консоме – назидательный аллегорический спектакль и бульон. Моя подруга Люба однажды в ресторане заказала официанту моралите вместо консоме. Официант мгновенно нашелся: «Кончилось! Из меню есть только то, что галочкой отмечено». На моралите много охотников.
Легко представить брезгливый ужас и отвращение на лице Ирины Васильевны, когда она узнает о моем грехопадении. О том, что я повторяю путь завсекцией трикотажа… Девушка в подоле принесет – на нее косятся, а если у бабушки в подоле что-то барахтается – так это ни в какие ворота. Фу, мерзость!
Осуждать и клеймить то, к чему неспособен по старческой немощи или по темпераменту, проще простого. Многие этому предаются с вдохновенным азартом. А куда еще азарт девать?
Уж на что наш светоч, Лев Николаевич Толстой! В молодости-то ненасытен был. А в старости, прогуливаясь с Чеховым и Горьким, выспрашивал у них подробности интимных отношений с женщинами, чем вызывал понятное смущение.
Себя молодого Толстой называл гулякой, используя «грубое мужицкое слово», как вспоминал Чехов. Толстой ополчился на его «Даму с собачкой», называл ее развратной книгой, поощряющей блуд.
Вот Чехов и припомнил тот разговор. А Лев Николаевич главной своей книгой считал «Путь жизни». Большинство людей о ней и не слышали, что неудивительно – это евангелие от толстовцев страшно нудное. В нем есть глава, посвященная интимным отношениям мужчины и женщины. На полном серьезе и на нескольких страницах Толстой утверждает, что совокупление без цели зачатия ребенка есть страшный грех. Послушал бы он эти проповеди в молодости!
Впрочем, Ирина Васильевна, скорее всего, не лишена плотских радостей. Ее Митрофан-то герой! Однажды мы были у них на даче, и Митрофан Порфирьевич здорово перепил, назюзюкался до остекленения. В этом состоянии у мужиков в мозгу остается одна короткая и емкая фраза: «Бабу бы! Чужую!» Митрофан Порфирьевич, глядя хрустальными глазами прямо вперед, подлез рукой под стол, захватил мою коленку и сжал. Я повернулась к нему и сказала тихо и точно в ухо:
– По морде захотел?
Других, более куртуазных, отказов он бы не понял. Руку испуганно убрал. Наутро выглядел пристыженно испуганным. Видно, помнил, что домогался, получил отлуп. Но детали стерлись. А детали в этом деле играют главную роль. Я держалась гордо-холодно, хотя внутренне посмеивалась. Митрофан был вынужден подловить меня в укромном уголке и извиниться:
– Простите за вчерашнее!
Ответила как чопорная гранд-дама:
– Ваши извинения принимаются. Но на будущее…
– Никогда! – воскликнул Митрофан Порфирьевич.
С тех пор он держится от меня подальше и настороженно. Будто я храню на него компромат и могу в любой момент предъявить свету, то есть семье. Дурачок! Хорошо бы я выглядела, заяви Ирине Васильевне: «А ваш муж полгода назад меня за коленку щупал!»
Как отреагирует Митрофан Порфирьевич на известие о моем интересном положении? «Вот шлюха! – воскликнет он. – А строила из себя честную!» Ирина Васильевна согласно кивнет и вспомнит еще одно определение для таких, как я, – женщина легкого поведения. С полным основанием я могла бы возразить: «Мое поведение столь долго было серьезным, что порцию легкости я давно заслужила».
Хочешь не хочешь, а с мнением новой родни приходится считаться, Лешка им не чужой. Мало того что зятек с гонором попался, так и матушка у него гулящая. Ведь известно, что с мужем я не живу десять лет, значит, ребенка нагуляла.
Кстати, с Сергеем мы не разведены. Следовательно, юридически он будет считаться отцом ребенка. Надо при случае Сережу порадовать.
* * *
Домой мы ехали на такси. Лика и Лешка все еще дулись друг на друга. Когда вошли в квартиру, Лешка заявил:
– Отрубаюсь! После обильной еды и флейма (пустых разговоров) я способен только читать великого письменника Храповицкого (спать).
Переодевшись, я пошла в ванную и услышала всхлипы на кухне. Лика сидела в моем кресле и плакала, уткнувшись в кухонное полотенце.
– Ой! – шмыгнула она носом. – Ваше место заняла.
– Сиди! – позволила я и присела на табурет.
– Понимаете, – быстро заговорила невестка, – мои родители простые люди. Но они непростые!
– Ясно дело. А мы сложные, но несложные.
– Да! Мама с папой очень добрые. Они меня очень любят и… – запнулась, – и Лешку, и вас… очень.
– Лика! У тебя прекрасные родители! Тебе с ними повезло, да и нам тоже. Если ты видишь какие-то проблемы, причина не в Ирине Васильевне и твоем отце, а в нас. Мы кажемся снобами, хотя, тешу себя надеждой, таковыми не являемся. Просто нужно время привыкнуть друг к другу.
«Со временем я преподнесу такой подарочек, что вам будет легко слиться на почве презрения ко мне».
– Кира Анатольевна! Я вам тайну выдам! У ПАПЫ БЫЛА ЖЕНЩИНА!
– Одна? – невольно вырвалось у меня.
– Это не мама! – пояснила Лика. – Это совершенно другая женщина, тоже кладовщица.
«Любопытная специализация», – подумала я, но вслух ничего не сказала.
– Она, та женщина, на заводском складе работает, а мама в цеховом, – уточнила Лика. Рассказывая, забыла о слезах. – У папы, это ужасно, конечно, был роман, в результате которого родился мальчик. Никто не знал, то есть не знали, от кого ребенок. Папа дополнительную работу взял и тайно помогал им. А когда мальчику исполнилось пять лет, все открылось. Ту женщину в больницу положили, некому было с Дениской сидеть. Моего братишку Денисом зовут. Подруга той кладовщицы не могла Дениску взять, потому что он краснухой заболел, а у нее свои дети. Вот папа все и сказал маме, и ушел на месяц к сыну. Что мама пережила! Как она страдала!
– Надо думать, бедная женщина!
– А потом папа пришел и говорит нам: согласен на любой ваш приговор, вы моя семья, я вас люблю больше жизни, мне, подлецу, нет прощения, но подлецом я быть не желаю, чтобы бросить одного больного мальца в пустой квартире.
Когда Лика волнуется, речь ее становится простонародной, совсем как у Ирины Васильевны.
– И каков был приговор?
– Мама сказала: «Живи, но чтобы ни полсловом, ни полвзглядом я о тех не слышала». Кира Анатольевна! – заговорщически зашептала Лика. – Мама их кровати в спальне раздвинула и тумбочку в середину поставила. Понимаете?
– Догадываюсь. Епитимья отлучением от тела. Долго продержались?
– Три года!
Я не уловила, говорит Лика с гордостью или с печалью.
– Сколько же сейчас Денису лет?
– Двенадцать. Вы никому не говорите, но я с ним вижусь. Папе ведь нельзя, а он мне все-таки братишка, в смысле Дениска. Смешной, хулиганит, но учится хорошо. Кира Анатольевна, можно мне Дениску сюда привести? Я хочу с ним математикой заняться, чтобы он перевелся в математическую гимназию.
– Конечно, приводи. Я питаю особую нежность к внебрачным детям. Лешка знает о твоем брате?
«Не проговорился мне, секретчик!» – подумала я с досадой.
– Что вы! Никто ничего не знает! Мама не знает, что папа материально помогает. Папа не знает, что мама через своих приятельниц на заводе передает Денису одежду и другие вещи, она ведь думает, будто они бедствуют. Папа и мама не знают, что я с братом общаюсь. Только тетя Люда, мать Дениса, в курсе, но она не болтливая.
– Тайны мадридского двора!
– Да! Вот я и говорю, кажется, простые незамысловатые люди, а на самом деле у них шекспировские страсти бушуют. У вас наоборот: все очень умные, но никто не прячется, говорят, что на языке, живут не оглядываясь. Я не знаю, что лучше.
Вдруг Лика округлила глаза и схватилась за живот:
– Он шевелится!
– Это пульсирует брюшная артерия.
– Нет, точно он, так раньше не было.
– Вот и отлично!
Я тоже схватилась за живот, в котором ощутила толчки. Дядя с племянником азбукой Морзе переговариваются?
Лицо у Лики стало отрешенным – впала в очередной ступор. Пусть немного помедитирует, пока я Лешку в чувство приведу.
Пришла в их комнату и рывком сдернула с Лешки одеяло.
– Дрыхнешь, бессовестный! У тебя там ребенок шевелится, а ты храпишь!
– Где? Что? – вскочил Лешка. – Кто шевелится?
– Твой ребенок! И запомни! – Я схватила ремень и принялась его стегать. – Никогда! Никогда! Никогда не ложись спать, не помирившись с женой!
Лешка помчался на кухню.
Кто сказал, что у нас мудреная семья? Куда уж проще – беременная мама наказывает ремнем великовозрастного сына.
Последний, точнее, предпоследний, раз я с полотенцем гонялась за Лешкой по квартире, когда он учился в седьмом классе. Перед приходом какой-то комиссии в школу он с приятелем поменял местами таблички «Туалет» и «Директор».
Подруга 1
Прошел месяц. Два внутриутробных создания подросли: у меня появился небольшой животик, у Лики – порядочный. Мы уж думали, не ждать ли близнецов. Сделали Лике ультразвук, все нормально, один мальчик. Я запаниковала: нет ли у меня маловодия, почему живот не крупнеет, и тоже ультразвук сделала, тайно. Все в норме, девочка.
У меня будет доченька! Хорошенькая, во младенчестве кудрявенькая, буду покупать ей платья с оборочками, заплетать косички и отдам в музыкальную школу по классу фортепиано. А если даун родится? Даун-девочка все-таки лучше, чем даун-мальчик!
Лика стоит на учете в женской консультации, как и все прочие беременные, каждые две недели ходит к врачу. Ее там осматривают, измеряют, взвешивают, дают направления на анализы. Мы следим, чтобы Лика не пропустила очередной визит к доктору. Я же ни на какие учеты не становилась, хотя нахожусь в группе риска, ведь я даже не просто позднородящая, а сверхпоздно. К врачу не иду по той же причине, по какой никому не открываюсь, – мне стыдно. И еще не хочется выслушивать предложений по умерщвлению плода. Это не плод, это мой ребенок.
Но теоретически я слежу за здоровьем, и жаловаться на него грех. Даже давление, без кофе и сигарет, пришло в норму, гемоглобин отличный (у Лики пониженный, мы ее пичкаем зеленью и гранатом). Я регулярно шарю по Интернету, в нем полно сайтов про беременность, с вопросами и ответами, а также чатов, где беременные молодые женщины обмениваются информацией. Лика пишет в эти чаты, я только инкогнито читаю. Мой интерес не вызывает подозрений – как бы для невестки стараюсь.
В последнее время стала часто вспоминать маму.
Скучаю без нее пронзительно. Будь она жива, взяла бы на себя большую часть моих сомнений, обид и страхов. Бабушкам на сносях тоже нужны мамы!
* * *
Мама умерла, когда я училась на втором курсе университета. У нее была прободная язва, желудок разорвало на части. Я пришла домой, она лежит на диване, скрючившись в болевом шоке, коленки у подбородка. На носилках в «скорую» так и несли, как воробушек, свернутую. До больницы живую не довезли. Умерла, с трудом выпрямили. Когда я училась на пятом курсе, умер папа, от инфаркта.
Прошло больше двадцати лет, а я не могу смириться с их потерей. Могу только задвинуть мысли о них в дальний темный угол сознания и не трогать.
Даже Лешке про бабушку с дедушкой мало рассказывала. Только вкратце: она была учителем, он инженером, они были прекрасными людьми.
За столько лет у меня не появилось светлой печали в памяти о родителях. Начну о них думать – горло обручем стягивает. Я никогда не прощу их безвременного ухода! Не знаю кому, но – не прощу!
Отец моего ребенка три недели не кажется – в командировке, дважды звонил. Когда любят, звонят пять раз на день…
Моя тайна перезрела, отчаянно хочется с кем-нибудь ею поделиться. У меня столько мыслей, новых чувств, ощущений – распирает. Постоянно веду внутренние монологи сама с собой, рассказываю себе о себе. Иногда мне кажется, что эти знания и чувства бесценны и должны войти в копилку человеческой мудрости, научной и поэтической, иногда – что они интересны только мне.
Выбора, кому первому открыться, по большому счету нет. Конечно, подруге Любе! Несколько слов о ней…
Я не сумею связно рассказать о Любе. Отделаться общими фразами, что, мол, она уникальный, неповторимый человек, – значит ничего не сказать. Она как торт, большой и в розочках. С какого места его кушать? Послойно анализировать?
Технологию печения отразить?
Можно начать сначала, с нашего знакомства.
Только я все равно собьюсь на параллельные сюжеты, стройного повествования не выйдет.
* * *
Весна, первые теплые майские дни, я учусь на первом курсе. Иду по Тверскому бульвару в сторону кинотеатра повторного фильма. Там ждет подруга. Мне преграждает дорогу невысокая девушка с круглым потным лицом. Такое впечатление, что она нарядилась на свидание, прическу сделала, лаком покрыла, а потом давала круги по беговой дорожке стадиона. Впрочем, так и было.
– Стой! Ты местная?
– Нет, – сурово отвечаю. – Я живу в Кузьминках.
– Но в принципе москвичка?
– В принципе.
– Где памятник Тимирязеву?
– Наверное, в Тимирязевской академии, – усмехаюсь.
– Там я уже была, мимо. Он сказал: на бульваре. Перечисли московские бульвары!
– Страстной, Тверской, Гоголевский… Послушайте, что вам от меня надо?
– Мне нужен памятник Тимирязеву.
– У меня его нет. – Москвичи, задери вас леший! – Она вытирает ладошкой пот со лба, задевает глаза, тушь и тени тянутся грязной полосой по щеке. – Ты пятая! Никто не знает, где стоит Тимирязев! Для чего его тогда поставили?
– Вы тушь размазали.
Она достает платок, сует мне в руки:
– На! Вытри! – подставляет лицо.
«Эти приезжие, – думаю я, – такие бесцеремонные, никакой культуры!» Но покорно привожу ее лицо в порядок. Попутно удостаиваюсь комплимента:
– Ты красивая. Мне три часа девчонки рожу малевали, а на тебя не нарисуешься.
Она говорит без доли зависти, точнее, с хорошей завистью, без упрека.
– Возьмите, – возвращаю платок. – Теперь все в порядке. Я могу идти?
– А Тимирязев?
– Извините, не знаю и тороплюсь.
– А как же я?
– Что – вы? – теряю терпение.
– Он мне сказал: на каком-то бульваре у памятника Тимирязеву, в шесть часов. Уже полседьмого! Такой парень! Мы три раза виделись, а потом я влюбилась с первого взгляда!
«Отличный стеб», – подумала я. Стебом мы называли шутку, розыгрыш, смешную ситуацию.
Уметь стебаться – значило уметь хохмить. Остроумный человек соответственно именовался стебком. И эту девушку я записала в стебки. Надо же придумать: виделись три раза, а потом влюбилась с первого взгляда!
Но это был не стеб. И о речи Любаши следует рассказать отдельно, связного повествования я не обещала. Начнем издалека, с известных людей современности. Бывший премьер-министр Черномырдин уж как ляпнет – сатирики от зависти съедают свои тупые перья. Чего стоит только фраза «хотели как лучше…». Далее… Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-младший. Его оговорки потянули на две книги. Даже термин появился – бушизмы, как синоним глупости. Кто-нибудь станет утверждать, что в премьер-министры России или в президенты США выбиваются идиоты? Никто не станет! Так и Любаня моя! Она не идиотка, просто у нее речь сумасшедшего.
И ведь все, что она несет, по смыслу понятно и по экспрессии точно. Поссорилась в деканате с секретаршей, которая потеряла ее зачетку, теперь головная боль все зачеты и результаты экзаменов восстанавливать. Люба так описывает свою реакцию: «Я упала в обморок от возмущения, развернулась и ушла!»
Со временем я превратилась в переводчика с Любочкиного на русский. Сходили в театр, в компании моих приятелей она делится:
– Смотрели с Кирой «Три сестры» во МХАТе. Я получила низменное удовольствие!
Народ притих, думает: что там у Чехова крамольного?
– Неземное, – перевожу я. – Люба получила неземное удовольствие.
Когда она употребляет иностранные голова, это вообще швах.
– Увидела дом на набережной – прямо дежустив у меня! Как будто я тут раньше была.
– Дежа вю, – поправляю я. – Дежустив – это десерт. – И начинаю сама смеяться, придумав: – Встретились как-то Де Жавю и Де Жустив…
Мои попытки привить ей литературную речь кончились полным провалом.
– Люба! В замке поворачивается ключ!
– А я как сказала?
– «Повернула замок в двери».
– Подумаешь, ты же поняла.
– Люба! Так не говорят: он обманул мои иллюзии. Иллюзии – это уже обман.
– Значит, он дважды обманул!
– Люба! Как сказать по-русски «я улыбалась всем телом»?
– Так и сказать!
В добавление к изысканной речи Люба имеет неистребимый южнорусский акцент. Ее «хэкание» особенно заметно, когда звук «г» идет перед согласной. Мой муж Сергей обожал придумывать для нее каверзные предложения.
– Любаня, скажи: «Глеб показал свою гренку».
Люба послушно произносит:
– Хлеб показал свою хренку.
Сергей специально выискивал фразы, нейтральные на русском и неприличные на украинском.
– Любаня! Переведи: «Куда бумагу деть?»
* * *
Наверное, с той ее нелепой фразы про первую любовь и началась наша дружба. Отбросив столичный снобизм, я с интересом смотрела на девушку.
– Я Люба, – представилась она. – А ты?
– Кира.
– Как Кира полностью?
– И полностью и кратко только Кира.
– Запомню. Как революционер, но без окончания.
– Какой революционер?
– Киров, не знаешь, что ли? Говорят, его Сталин от ревности зарезал в попытке самоубийства.
– Вообще-то Кирова убили в Ленинграде.
– Кто говорит, что в Москве? Я в станкостроительном учусь, а ты где?
– В МГУ, на химическом факультете.
– В самом МГУ?! Зашибись!
Ее восхищение мне польстило. Но Люба вспомнила, что она тут по делу:
– Слушай, что мы с тобой болтаем, когда у меня судьба рушится? Где Тимирязев? Это кто стоит?
Она показала на памятник у Никитских ворот, в конце Тверского бульвара, на углу с Герцена (ныне Большой Никитской). Я честно призналась, что не знаю. Кстати, потом мы любили экзаменовать москвичей: где памятник Тимирязеву? Или: кому памятник в конце Тверского? Восемь из десяти не знают.
А памятник большой, как уменьшенная копия снесенного Дзержинского. Его почему-то не замечают.
– Вот он, видишь? – затрепетала Люба, когда мы подходили.
– Со спины я не могу сказать, кому памятник.
– Да не памятник! Антон! Я сейчас описаюсь, он с цветами!
Молодой человек, внешность которого я бы описала как табуретка с ушами, действительно держал букет цветов. Трогательно: рука вытянута, словно капающее эскимо держит, тюльпаны поникли, согнулись, смотрят в землю.
– На! – Он протянул Любе «букет» и уставился на меня. – Сорок минут стою, зимой бы шары отморозил.
«Провинция, – подумала я. – Две провинции».
Но Антон мне понравился. Главным образом, потому, что я ему не понравилась. Он смотрел на меня не отрываясь и не видел! Он видел только Любу. Оттопыренными ушами, затылком, всем своим, как она скажет потом, «улыбающимся телом» – только ее! Чужая любовь, зарождающаяся и мощная, какую трудно описать словами из-за того, что она переливается северным сиянием, ни секунды не постоянна и в то же время очень прочна и надежна, – это как электрическое поле, в которое ты шагнул.
Да и вызывали в те годы у меня интерес только люди, которые не проявляли рьяного интереса ко мне. Я, наверное, не могла жить без воздыхателей, потому что они были всегда, но уже утомили. Как в песне:
- Ах, кавалеров мне вполне хватает,
- Но нет любви хорошей у меня.
Люба тараторила со скоростью телеграфного аппарата:
– Это Кира, моя подруга (уже подруга!). Отгадай, где учится. Не поверишь, в самом МГУ. Правда, красивая? Я как увидела, прямо присела – везет же некоторым! Но она простая, ты не думай. Кира, ты правда простая?
– Как валенок! – Я рассмеялась.
– Видал зубы? – восхитилась Люба. – Кира, покажи еще раз зубы, Голливуд отдыхает.
Ни до, ни после я не встречала женщину, способную при мужчине, в которого влюблена, хвалить другую. Причем восхищаться искренне, без бабьих штучек, без напрашивания на протест, мол, ты, а не эта красотка всех милее. Если Люба чему-то радуется, то без подтекста или мыслей о выгоде. Если ненавидит – то наотмашь. Можно сказать, ее натура примитивна. А можно – что она всех нас обогнала в эволюции души.
– До свидания! – попрощалась я. – Приятно было познакомиться.
Перешла бульвар, улицу Герцена, когда услышала «Кира!» и разбойничий свист. Они стояли у ТАСС, через дорогу от кинотеатра повторного фильма (давно закрытого), по шоссе непрерывно двигались машины. Антон, заложив пальцы в рот, пронзительно свистел.
– Стой! – орала Люба. – А телефон?
Машины остановились на светофоре, ребята перебежали через дорогу.
– Ты телефон свой не дала! – потребовала Люба. – Куда записать? Дай ручку!
Почему-то у нее не было сумочки. И она записала… на руке Антона. Получилось как татуировка, меня очень тронуло.
Люба позвонила через несколько дней:
– Записывай адрес общаги, с тебя бутылка красного, сегодня вечером.
– Чего красного? – не поняла я. – Вечер у меня занят.
– Вина красного или белого, чтоб не водки, водку пацаны купят, а я галушек наварганила. Как не можешь? Ой! А я уже всем про тебя рассказала! Ой, Кирка!
Отец выбирал мне имя гладкое и прочное, чтобы у него не было вариантов. Но ласкательных суффиксов родители обнаружили массу – Кирочка, Кирюшенька, Кирюлечка… А в школе за худобу и долговязость завистницы девчонки звали меня Киркой, как инструмент шахтера. Надо ли говорить, что вариант моего имени с уменьшительным суффиксом мне крайне не нравился? Но Любино «Кирка» прозвучало как обращение младшей сестры.
Если сравнивать нашу дружбу с сестринскими отношениями (Люба тоже одна у родителей), то роли постоянно менялись: то я оказывалась старшей, то она. Зависело от того, кто кого на плаву держит. Так было и у нас в семье: то папа главный, то мама главная. Наверное, это называется гармонией, которая есть равновесие.
Поехала я в общагу к Любе. Свадебным генералом или, точнее, слоном на ярмарке она меня водила по комнатам и знакомила с подружками.
Потом сидели за столом, пили водку и «красное».
Бравые юноши-станкостроители, только захмелев, осмелели и начали приставать. Люба кричала с другого конца стола:
– Антон! Чего там Петька к Кире клеится? Отлипни его! Нашелся кавалер! Для Киры!!!
Инициатором нашего общения была Люба. В ней непостижимым образом умещались две страстные любви одновременно – к Антону и ко мне.
В ответ я не могла не вводить их в свой круг. Каюсь, был с моей стороны элемент циркового представления: познакомьтесь, друзья, Люба и Антон, гости столицы, студенты передовых вузов.
Антон учился в Керосинке, институте нефти и газа. Это сейчас туда очереди длиннее, чем в театральный, а в семидесятые годы мало было охотников работать за полярным кругом в вечной мерзлоте. В Любин станкостроительный и в Керосинку поступали московские троечники и ребята из провинции. Лучшие ребята из провинции – они потом нам показали, кто сколько может и стоит.
Когда умерла мама, я не зафиксировала момент появления Любы рядом. Я получила страшный удар, падала навзничь. Люба меня подхватила и моего отца тоже. Ему было столько лет, сколько мне сейчас, а я помню его старичком с дребезжащим голосом и дрожащими руками. Он так и не оправился от потери.
Люба переехала к нам, стала нянькой, кухаркой и утешительницей. Утешала одной фразой. Повторила ее, наверное, миллион раз: «Люди умирают! Умирают, хоть ты их режь!» Она была поплавком, который тянул нас вверх, тренером, который тормошил спортсмена в нокауте, детсадовской воспитательницей, которая следит за режимом сна и приема пищи. В такой замечательной обстановке протекал их праздник любви с Антоном.
Вечерами он сидел на нашей кухне и переписывал конспекты работ Ленина, Маркса и Энгельса.
Хотя мы были технарями, каждый семестр включал общественную дисциплину: исторический материализм, марксистско-ленинскую философию, историю КПСС, критику буржуазных теорий. На экзамен нужно было приносить по десятку конспектов работ классиков. Никто этих работ не читал, списывали друг у друга, не вдумываясь, что там Ленин не поделил с Каутским.
Если меня спросить, чем наше поколение отличается от поколения наших детей, то я вспомню это тупое переписывание абракадабры. Мы воспитаны на бесполезной работе. Мы прокладывали себе путь, не спрашивая, кто вешки установил. Мы терпеливы в глупости и закалены в мартышкином труде. Мы выносливы, как бедуинские верблюды в пустыне. А наши умные дети, знающие в совершенстве языки, подключенные кровеносной системой к компьютерам, хотят все и сразу, с вечера на утро. Они спрашивают «зачем?» в тех ситуациях, когда мы не задавали вопросов, потому что слышали «надо!». Они думают, будто далеко шагнули вперед в сравнении с нами. Шагнули. Только без панциря. Он у них не вырос, а у нас броня ого-го!
На свадьбу Любы и Антона приехали их родные, ее – из Херсона, его – из Брянска. Жили у нас, спали на полу. В туалет стояла очередь, на плите постоянно что-то кипело, по квартире на веревках висело мокрое белье, балкон был завален мешками с картошкой и луком, банками с консервами, холодильник забит рыбой и домашней колбасой.
Вечерами на кухне сваты, как называли себя родители Любы и Антона, хорошенько выпивали – сдруживалась родня – и пели протяжные песни, украинские и русские. Соседи от возмущения колотили по батарее. Сваты думали, что у москвичей принято перестукиваться в двенадцать ночи, и вежливо стучали по радиаторам в ответ.
Этот цыганский табор вернул в наш дом жизнь.
Бытовые неудобства – мелочь по сравнению с жизнелюбием, которое заполнило нашу квартиру до потолка. Нас с отцом сразу приняли в родственный круг. Меня до сих пор называют Наша-Кирау-Москве. Отца чуть не женили. Он робел перед женщинами с пышным телом и мощным южным темпераментом. Но какую-то маленькую, несожженную, часть его души они радовали.
– Ото у нас есть одна вдовица, – сватали папу, – як и вы, Анатолию Петрович. Женщина чистоплотная, курей разводит, шоб яйца на продажу. Свой дом, участок, садик, виноградник имеются. Опять-таки от мужа остался мотор для лодки. А лодки нет, схнила, врать не буду.
– Э-э-э, мэ-мэ-мэ, – мялся отец. – Я, право, вам благодарен за участие…
– Та какое участие? Я ж не себя! Ховорю – вдовица с курями.
Только папа отобьется от одной кандидатки, на следующий день ему другую подсовывают, уже из Брянской области:
– Учительница младших классов, лет сорок, замужем не была, но не больная, так жизнь повернулась. Жилищные условия – в отдельной квартире.
– Спасибо, – юлит папа, – но этот разговор несколько преждевременен.
– Никто не торопит. Значит, она вам напишет или вы ей? А лучшее – пусть приедет, тут и познакомитесь.
– Нет! – испуганно вскрикивает папа. – He надо приезжать! Я напишу… сам.
И осталось у нас несколько адресов, по которым, наверное, ждали и не дождались женщины весточки от жениха из столицы. Папа ни разу не съездил ни в Брянскую область, ни в Херсонскую.
Опасался активных свах да и плохо себя чувствовал.
Мы с Сергеем любили отдыхать у Любиной и Антона родни. Какие грибы под Брянщиной! Какая рыба, арбузы, виноград и персики на Херсонщине!
Помню, первый раз приехали с мужем на Украину. Там все говорят полувопросительными предложениями, приставляя в конце «чи шо?». Дождь пойдет, чи шо? Надо кавунов (арбузов) купить, чи шо?
– Ничего не понимаю, – признался мне Сергей. – Какой-то артикль чишо.
– Или что, – перевела я. – Чи шо – значит «или что». Пойдем купаться, чи шо?
– Сначала чишо, потом купаться.
И с тех пор на нашем с ним языке «чишо» обозначало занятие любовью.
Конечно, и к нам приезжали. Не только прямые родственники Любы и Антона, но и двоюродные братья и сестры их соседей ехали в Москву за дефицитными промтоварами, искать правду в прокуратуре, поступать в институты. Эти нашествия не были нам в тягость, только в корысть. Навезут продуктов на полгода и еще сокрушаются:
– Что ж вы в зиму без картошки? К поезду подойдете, я мешка три передам. Хватит?
Гости девушки и женщины обязательно устраивали генеральную уборку в квартире. Приду вечером с работы – только руками развожу:
– Таня! (Галя, Маня, Света…) Ты на что время тратишь? Тебе к экзаменам готовиться надо! И потолок побелила!
– Та я трошки прибралась. Люба ховорила, что вы борщ со старым салом не любите, чи шо? Так я маслом подсолнечным заправила. А тюлевые занавески хладить или так повесим?
Гости-мужчины были исключительно рукастые.
После их отъезда в доме не оставалось ни одного капающего крана или висящей на соплях розетки.
Не могу сказать, что мы скучали без гостей. Но когда их долго не было, нет-нет да заметит Сергей или Лешка:
– Пылищи набралось, – и подражая украинскому акценту: – Шо-то нихто з Херсону нэ еде.
Теперь перестали ездить вовсе. Старики умерли или одряхлели, молодежь отоваривается на местах и поступает в свои национальные вузы. И все мы, спасибо перестройке, – как птицы с выщипанными крыльями. Без маховых перьев летать нельзя.
Еще одно слово из украинского перешло в наш семейный язык, полностью изменив значение. По-украински доба – сутки, цылодобово – круглосуточно. Но у нас цылодобово – выражение крайней эмоциональной экспрессии, как положительной, так и отрицательной. Упал кирпич на ногу – цылодобово! Выиграли в лотерею пылесос – цылодобово!
* * *
После свадьбы Люба и Антон два месяца жили у нас, никак не могли снять комнату. Они вдребезги, на досточки, разрушили диван-кровать. Ночные звуки их бушующей плоти разбудили во мне половой инстинкт. Раньше никакого биологического зова я не испытывала. А тут прямо пылала огнем и скручивалась от томления. Как-то встала ночью воды попить. Папа в проходной комнате плакал, уткнувшись в подушку. Я сделала вид, что не заметила. Выпила воды, вернулась, подсела к нему.
Мы плакали обнявшись. Папа – в тоске по маме, я – не зная, куда пристроить свои инстинкты. А в соседней комнате скрипел-грохотал диван…
Старшую дочь Люба родила на пятом курсе, защищая диплом. По списку она была десятой, но, не дожидаясь очереди, обхватив живот, ворвалась в аудиторию:
– Я рожаю! Схватки! Скорей меня защищайте!
Дипломная комиссия перепугалась, и ей задали только один вопрос:
– Вы на какую оценку рассчитывали?
Люба не смогла сразу ответить, скривилась от боли.
– Пять! – замахал руками председатель комиссии. – Вы получаете «отлично»! «Скорую»! Девушка, только не здесь!
Еще сутки Люба пролежала в больнице, пока не родилась Алиска. Младшего сына, Егорку, она родила уже на Севере.
Антона распределили в Сургут. Они жили в продуваемом бараке. Зимой до льда замерзали стены, у детей с декабря по июнь зелеными вожжами из носа текли сопли. На три летних месяца детей с Севера увозили в пионерские лагеря.
Я приходила на вокзал – увидеть, передать гостинцы. Поезда с детьми все шли и шли. Радио объявляло: из Тюмени, из Мурманска, из Норильска, из Сургута… Поезда, забитые детьми, как в войну. Детям нужны солнце и фрукты. Я даже боюсь задать вопрос, где берут сегодняшние дети-северяне солнце и витамины.
Летнего запаса здоровья Алиске и Егорке хватало до Нового года, а потом снова – бронхиты, гаймориты, ангины. У бабушки на каникулах они были загорелыми и крепкими, к весне – дохлятиками.
Для Любы, выросшей на юге, круглосуточные полярные ночи, морозы и метели были почти каторгой. Но за мужем она бы поехала и на каторгу.
Очень долго жизнь ребят напоминала мне борьбу за выживание. И все, что они теперь имеют, заслужили по праву.
Антон успешно двигался по служебной лестнице, к моменту дележа нефтяного пирога имел в руках большой ножик. Но из государственной корпорации не ушел, превратился в метиса – гибрида олигарха и чиновника. Ребята вдруг разбогатели.
Конечно, деньги у них были всегда. Приезжали в Москву – шиковали, как капитаны дальнего плавания. Но теперь денег стало не просто много, а не переварить.
У меня же все катилось по наклонной: семья, работа, психическое состояние. Люба приехала отправлять детей на учебу в Англию и покупать квартиру в Москве. Детей она отправила, а первой квартиру купила мне. Возражения отмела с обидой:
– Неужели я бы от тебя не взяла?
– Хорошо, но только если ты и себе купишь апартаменты.
– Гроши кончились.
– Вот видишь!
Она набрала их сургутский номер:
– Антон! Кирка стоит в позе, можешь мне пять тысяч зеленых выслать, чтоб ее распрямить?
Тогда, в начале девяностых, хорошая квартира в центре так и стоила – пять тысяч долларов. Для меня эта сумма была не просто большой. Астрономической!
Люба купила четырехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. От меня десять минут езды.
Но жила там недолго.
Подруга 2
Лет семь назад Люба поселилась на Майорке, на одном из островов Балеарского архипелага, в Испании. Приезжает два-три раза в год, но никогда – зимой. Она натерпелась холодов на всю оставшуюся жизнь. Антон к ней периодически, но не часто летает.
Не знаю, что произошло между ними. В своей семье не разобраться, что уж других судить. Они не разводились, не ссорились, они по-прежнему муж и жена.
– Но почему? – пытала я Любу. – Как можешь ты допустить, что Антон приходит вечерами в пустую квартиру? Как можешь ты без него существовать? Вы выдержали испытание холодом, нищетой, болезнями детей, а богатством не выдержали?
– Оно рассосалось, – ответила Люба.
– Что «оно»? Любовь? Муж, дети?
– Все! Был тугой комок, стала тонкая пленка. Такая тонкая, что и дыр не заметно. Да ты не переживай, у нас все отлично. Вот в Англию полечу.
Барон охоту на лис завел. Костюмов специальных из сукна нашили, красное с белым и при котелке.
Буду за лисами на лошади скакать.
Старшая дочь Хмельновых Алиса вышла замуж за обнищавшего английского барона. На папины деньги баронесса отремонтировала родовой замок.
Теперь там какая-то помесь музея и отеля. Егорка Хмельнов ушел в бизнес. Что-то с помощью папы отпочковал от российской промышленности и качает нашу нефть в Англию.
Наверное, Алиса и Егорка, которые для меня почти такие же родные, как Лешка, никогда не вернутся на Родину. Мне от этого плохо. Мне кажется, будто их обокрали, хотя они разбогатели.
– Почему Лешка не ездит к моим? – спрашивает Люба.
– Он ездил… он весь в науке, ты же знаешь.
Лешка один раз наведал в туманном Альбионе друзей детства. Его приняли по первому классу.
Вернулся, сказал: «Мне это неинтересно!» – и прекратил общение. Первый перестал отвечать на электронные письма, даже на дни рождения забывает без моего напоминания Алиске и Егорке позвонить. Они ему неинтересны. Точка. Кол на голове теши!
– Я никому не нужна, – Люба усмехалась, плакала без слез, – ни Антону, ни детям.
– Ты максималистка! Тебе подавай быть нужной на сто процентов, а восемьдесят, сорок или тридцать тебя не устраивают! Дети выросли, у них своя жизнь, они не болеют и плевали на наш жизненный опыт.
– Муж тоже вырос?
– А ты хочешь, чтобы он, как в двадцать лет, табуреткой с ушами торчал у памятника Тимирязеву?
– Кирка! У нас все нормально. На других посмотреть, так они только зубами в глотку друг другу не вонзаются. Вот и ты с Сергеем… не смогла… Но когда вакуум в двадцати или в шестидесяти процентах, надо его каким-то дерьмом заполнять? Вот я собой и заполнила.
– Ты себя называешь дерьмом?
– Не придирайся к словам. Лучше приезжай ко мне на Майорку! Все поймешь!
Но прежде, чем нанести визит, я регулярно общалась с Любой по телефону. Там у них целая колония отселенных жен новых русских образовалась.
– Что вы делаете? – кипятилась я. – Прозябаете? Я читала в газете: тупеют, жиреют и спят со своими шоферами.
– Про банкиршу Райку, что ли, написали? – живо интересовалась Люба.
– Меня не интересует Райка! Меня волнуешь ты! Чем у тебя день заполнен?
– Во-первых, дом и участок. Во-вторых, я стала писать.
– Кому?
– Писать – это рисовать, деревня! Беру уроки акварели. Еще хочу вокалом заняться, диск свой иметь.
Как я поняла, маленькое сообщество российских женщин бесилось с жиру. То они повально увлекались живописью, то музыкой, то делали пластические операции. Люба приехала в Москву из Швейцарии, где ей утянули лицо и впрыснули какой-то распирающий состав в губы. Я без дрожи не могла смотреть на ее губы – африканские лепешки.
– Через месяц, – хлопала Люба телячьими губами, – спустятся, в норму придут. – Сама же подходила к зеркалу и ругалась: – Половые губы на харю натянула, дурында! Может, их розовым перламутром закрасить?
– Теть Люба! – веселился Лешка. – Только зеленым! Вы ж у нас хиппи, цылодобово!
Я все откладывала поездку к Любе. Не получалось денег скопить. Пока у нее не лопнуло терпение – прислала мне два авиабилета, туда и обратно с двухнедельным интервалом.
Майорка – это сказка! Я вспоминаю о ней с содроганием. Я там, как выражается мой сын, чуть адидасы не отбросила.
Рай невозможно описать, потому что слова черно-белые, не имеют красок и запаха. Единственное, в чем я разочаровалась, когда мы ехали из аэропорта Пальма-деМайорка, столицы острова, так это в авторах Библии, которые нам рай в другой жизни придумали. Халтурщики! Просто описали эту средиземноморскую благодать! Буйство зелени, цветов разноцветье, яркая лазурь моря и воздух как вермут! Газообразный вермут! Его можно резать на куски и продавать в полиэтиленовых пакетах.
К поездке я подготовилась. Все, что можно было прочитать о Майорке, прочитала.
– Мы находимся в столице? – Я листала блокнот. – Куда мы уезжаем? Я хочу посмотреть здесь дворец Альмудайна, где жили короли-мавры, а впоследствии – короли католические. На Майорке, – читала я, – оставили следы многие народы античности: финикияне, византийцы, арабы. Интерес также представляют Кафедральный собор, здание Консуладо-дель-Мар, монастырь Святого Франциска…
– Сеньора знает Майорку, – уважительно отозвался таксист.
Он говорил по-испански, Люба мне перевела.
– Сеньора – академике русо, – записала меня подружка в русские академики и забрала у меня блокнот. – Все увидишь! И пещеры со сталактитами, и готические храмы, и потрясающие пляжи с белым песком и сосновыми рощами, и аквапарки, и дельфинарий, и черта лысого. Но сначала – домой! А в Пальму еще приедем специально, у меня программа для тебя по часам расписана.
Программе не суждено было осуществиться.
По дороге в городишко, где обосновались русские дамы полусвета, Люба показывала достопримечательности:
– Это вилла Майкла Дугласа. Смотри, смотри, на горе, видишь дом с колоннами? Там принцесса Диана со своими бойфрендами тусовалась. А тут королевская семья любит отдыхать.
– Каких королей?
– Испанских, порсупуэсто (конечно)! – воскликнул таксист (хотя мы говорили по-русски!). – Король Хуан Карлос и донья София, – произнес он с монархическим восторгом.
Исторически на Майорке говорят на каталанском наречии, чистый испанский – кастельяно – презирают. Поскольку остров живет туризмом, жители худо-бедно владеют английским, французским, немецким и теперь русским. Словом, все друг друга понимают. То есть понимают, что надо в этом интернациональном компоте.
– Вон, видишь, – показала Люба в окно, – вилла Клаудии Шиффер.
– Си (да)! – подтвердил таксист. – Ошень красивый!
Он вмешивался в наш разговор с доброжелательным нахальством, характерным для южных народов.
– Милый домик, – похвалила я поместье, оставаясь к нему равнодушной.
Таксист пересыпает речь фамилиями знаменитых артистов, моделей, спортсменов, наследников королевских кровей, чьи дома мы проезжаем.
Чужие дворцы, где кладовки стоят как вся моя квартира, зависти у меня не вызывают. Глупая смазливая мордочка или накачанные мышцы обходятся дорого, и пусть. Я знаю многих людей блестящего интеллекта, они едва ли не с хлеба на воду перебиваются – и не торопятся мошну набивать.
Каждому свое: глупости – богатство, уму – покой.
Моя подруга Люба, естественно, вне счета.
Я начинала понемногу понимать ее. У этого климата и у этой природы хочется попросить политического убежища. И ничего не делать. Просто жить: дышать и смотреть. Для разнообразия выкинуть номер, накачать губы идиотским гелем или заняться акварелью.
Мы подъехали к Любиному дому, таксист выгрузил мой чемодан. Люба расплатилась. Конечно, не вилла Клаудии Шиффер, но тоже красота. Дом с открытой верандой в глубине. К нему ведет дорожка, по обеим сторонам которой пятна газона, обрамленные цветущими кустарниками, цветами всех колеров. Цветов – море, как на кладбище в урожайный день.
Не иначе как за сравнение с кладбищем я едва не поплатилась – первый (по порядку) раз чуть не погибла.
Прямо передо мной с неба упал снаряд. Чудом не задел. Я взглянула вверх. Двадцатиметровый ствол кокосовой пальмы, наверху гроздь орехов. Один метил мне в голову. Кокосовый орех в оболочке, размером с хороший арбуз и твердости необычайной, килограмм восемь, упал и даже не треснул.
– Е-если бы-бы, – заикалась я от испуга, – попал по башке, я бы по грудь в землю ушла.
– Не-а, – не согласилась Люба. – Просто голова бы раскололась.
– Хорошенькая перспектива! Ты зачем их тут насажала? С противниками расправляться?
– Это моя гордость! Кокосовые пальмы у многих есть, но только у меня орехи вызревают. Поэтому и вилла называется «Кокосовый орех».
– Скольких твои орехи уже прикончили? Ты знаешь, что по крепости они как пушечные ядра? Распространялись по тропикам вплавь. – Из меня стали выскакивать сведения периода преподавания в ПТУ. – Буря смоет, в океан унесутся, месяцами болтаются, даже морская йода в них не проникает! Выбросит на другой берег, они приживаются.
– Ты, Кирка, – похвалила Люба, – как была умной, так и осталась. Хуан!!! – завопила она неожиданно во все горло. – Хуан! Где тебя черти носят?
– Си, сеньора!
На дорожке показался загорелый юноша лет восемнадцати. Босой, единственная одежда – шорты.
Молодой стройный Адонис испанской масти.
Они заговорили на тарабарщине. На смеси языков, из которых мое ухо улавливало только русский.
– Тра-ра-та-ра-та дурак! – бранилась Люба. – Ри-туру-ту-ру, моя подруга Кира. – Она размахивала руками, показывая то на меня, то на упавший орех, то на гроздь, висящую на уровне третьего этажа. – Тур-мур-пур тебя, козла, первого убьет.
– Ка-на-ва-па-па я ноу дурак, – отвечал Хуан, – туму-ру-пу, добро жаловать, сеньора Кьирья. – Поклон в мою сторону. – Ле-ме-пе-ве я не козел, лу-ку-ни-фу, обоймется, сори, обойдется!
– Неси чемоданы в дом! – на чистом русском гаркнула Люба, строго указала на крыльцо и повернулась ко мне. – Как тебе это нравится? Он утверждает, что ветер все равно сбросит, он, видите ли, сводку читал! А кому я лестницу специальную покупала?
– Не знаю кому. Кто такой Хуан?
– Как бы садовник и вообще по дому. Ты не представляешь! Свет не видел таких ленивцев! Я каждое утро беру дубинку и гоню его на работу. А этот жеребец только о девицах думает. У него их эскадрон!
– Зачем ты держишь плохого работника?
– Они бедные. Мать Хуана, Мария, каждую неделю у меня уборку делает. Только соберусь его выгнать, она в слезы: «Сеньора! Пятеро детей, мал мала меньше, муж в море погиб, Хуан старший, он кормилец!» Вот и терплю, нервы мотаю. Здесь у местных другой работы нет, как виллы и туристов обслуживать.
– Ты добрая капиталистка, – похвалила я.
Пока мы разговаривали, я, поглядывая наверх, выбрала безопасное место, куда не мог упасть орех-снаряд, и отошла. В Любином саду было так красиво, что не хотелось уходить. Возле большого куста бугенвиллеи рос японский клен, по его стволу вилась лиана. Я сорвала листочек, помяла в руках, понюхала.
Люба, живописующая свою трудную буржуазную жизнь, вдруг прервалась.
– Выкини! – велела она мне, показав на листочек. И снова завопила: – Хуан!! Сучий потрох! Иди сюда!
Хуан приближался медленно и безо всякого страха-почтения на лице. Потом Люба расскажет, что во время визитов Антона садовник преображается. Ходит в комбинезоне и обуви, по первому зову прибегает и в целом всячески изображает истового трудягу. Знает, из чьего кармана денежки капают.
Они опять заспорили на своем международном языке. Теперь предметом спора была лиана, листочек которой я сорвала. Ничего не понимая, уловив только «идиот» – «я не идиот, сеньора», «сколько раз говорить?» – «говорить глюпость!», я их прервала:
– Люба, в чем дело?
– Этот молокосос утверждает… впрочем, ладно! Может, обойдется. Пошли в хату!
Дом у Любы прекрасный. Большой, светлый и прохладный. Она водила меня по комнатам первого и второго этажей, мы спускались в подвал, где стоял бильярдный стол, находилась сауна и маленький зал с баром. Я искренне радовалась за подругу – в своем политическом убежище она свила роскошное гнездо.
– Эта спальня решена в мавританском стиле. Эта – с античными мотивами. Вот украинская, видишь рушники? – говорила во время экскурсии Люба. – Тут под будуар… не Людовика, а его зазнобы.
– Марии-Антуанетты? – подсказывала я.
– Нет, дизайнер по-другому называл.
– Мадам Помпадур?
– Точно! Хочешь – выбирай Помпадур, хочешь – в стиле ар-деко.
– Люба, ты знаешь, что такое ар-деко?
– Я столько деньжищ отвалила, что спрашивать не обязательно. А ты почему туалеты не считаешь?
– Чего не считаю?
– Понимаешь, как кто-нибудь из наших приедет, так обязательно туалеты считает. Вазы китайские, картины японские – им побоку, носятся по дому, горшки нумеруют. Кира, нам что, прежде унитазов не хватало?
И тут я почему-то, как все соотечественники, воспылала интересом к туалетным комнатам. Не знаю, чего нам не хватало, но я бегала по дому с этажа на этаж и восхищалась наличием санузла при каждой спальне. Пробегая через столовую, где Люба смешивала коктейли, я докладывала:
– Пять спален, правильно? Итого пять туалетов плюс три гостевых и один в подвале?
– Гостевой один, – со светлой капиталистической печалью отвечала Люба, – ты лишний круг дала. Выпей, Кирка! – Она протягивала стакан.
– Не может быть! – Меня подстегивал азарт, и я неслась по дому считать горшки по новой.
Сей феномен мне объяснить трудно. Почему нас не трогает столовое серебро или канделябры восемнадцатого века? Почему возможность справлять нужду в персонально отведенном месте воспринимается как благодать?
Впрочем, сейчас о Любиных туалетах я вспоминаю с содроганием. Весь отпуск в них провела!
Приняв душ и переодевшись, мы должны были ехать в ресторан ужинать. Форма одежды – платье на бретельках. В Москве, по ее наущению, я себе такое купила. Сарафан и сарафан, но называется пышно: «платье для коктейль-пати».
Мы стояли перед зеркалом в холле. Люба на полголовы ниже меня и на десять килограммов тяжелее.
– Ты просто девушка! – восхищается она. – Больше тридцати пяти не дашь, в темноте – двадцать шесть. Даже двадцать два! – с перехлестом нахваливает.
Ничьи комплименты меня так не радуют, как трогательное любование подруги. Так говорить могла только мама.
– Ты отлично загорела! – в долгу не остаюсь. – И ни одной морщинки!
– В общем, – подводит итог Люба, – мы девки хоть куда и хоть кому.
По ее плану сегодня был вечер ознакомления с местной кухней. Попробовать всего понемногу, а в следующие дни углублять гастрономические знания.
У Любы есть машина, в марках я не разбираюсь, серебристая, с откидной крышей, и четкие правила по управлению. В пределах городка она водит сама, на тридцать километров в сторону – Хуан, дальние поездки, вроде встречи меня в аэропорту, – только профессиональные таксисты.
Ресторан, куда привезла нас Люба, длинным пандусом уходил в море. Сверху крыша из сухих пальмовых листьев, официанты в смокингах. Такой скромный шик – деревенская крыша и официанты при параде. Море билось о скалистый берег, пенилось и шипело. Я смотрела на него сверху и чувствовала себя небожителем, взирающим на безумную стихию.
– Начнем с устриц. – Меню Люба не открывала.
Заказала какое-то белое вино и две дюжины устриц. Этих морских гадов я прежде не ела и даже не представляла, как они выглядят. Нам принесли две огромные круглые тарелки, на половинках открытых раковинок лежало… если деликатно сказать, оно напоминало содержание носовых пазух при сильном рините. Меня слегка замутило, когда Любаня взяла одну раковинку, выдавила на устрицу сок из половинки лимона, подцепила маленькой вилочкой морского гада (надо полагать, еще живого!), отправила в рот, блаженно причмокнула и запила соком из раковинки.
– Восхитительно! – Она положила пустую раковину и взялась за следующую. – Что же ты не ешь?
– Собираюсь с духом. Нет, Люба, я не смогу это проглотить.
– Да что ты? – Моя подруга чуть не плакала, смотрела на меня точно заботливая мать, у которой ребенок отказывается кушать полезные продукты. – Только попробуй, тебе обязательно понравится!
А мне в голову лезли неаппетитные и даже отвратные литературные ассоциации.
– В русском фольклоре, в легендах про клады, герою нужно пройти череду испытаний. В частности, выпить ведро соплей с харкотиной. Кто бы мог подумать, что подразумевалось ведро устриц!
– Фу, какая гадость! – передернулась Люба. – И не ведро тебя просят скушать, а только одну. Ну! Открой ротик!
Она поднесла к моему лицу раковинку, отковырнула вилкой устрицу. Я помотала головой: не могу!
– Вспомни какой-нибудь положительный литературный пример, – велела Люба. – Ты же много цитат знаешь, а устриц все нормальные люди обожают.
– Из Ахматовой, – вспомнила я. – «Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду».
– Вот видишь! Ахматова не глупей тебя была! Пора, голубушка, к цивилизации приобщаться.
– Посредством устриц?
– В том числе. Давай с закрытыми глазами. Хорошая девочка! Ну-ка, глазки закрыла, а ротик открыла! Хорошо! Глотай скорей! Запивай вином!
Третью устрицу я съела самостоятельно, на шестой вошла во вкус, прикончила всю дюжину и поняла, что у аристократов и прочих любителей морских деликатесов губа не дура.
Устрицами ужин можно было бы и ограничить, я вполне насытилась. Но Люба заказала еще жаренных в чесноке больших креветок, потом филе какой-то экзотической рыбы, потом собрасаду – знаменитую свиную колбасу с перцем, на десерт – энсаймаду, воздушный пирог в форме спирали.
Мой бунт при появлении нового блюда она подавляла решительно:
– Не порть мне праздник! Я столько тебя ждала, а ты привередничаешь. Съешь колбаски, если меня любишь!
Под устрицы пили одно белое вино, под креветки – другое, под колбасу – красное, к десерту подали ликер. Всякий вкус я потеряла в середине ужина, осоловела от еды и опьянела от спиртного. Подруга знай себе утрамбовывала в меня, как в рождественского гуся, угощеньица.
К машине я топала на растопыренных ногах: несла набитый живот и пыталась сохранить равновесие. Язык заплетался, но будущее я предсказала точно:
– Это плохо кончится. Ты же знаешь, у меня слабый желудок. Кстати, надо сделать рентген. Сегодняшняя трапеза показала, что у меня по меньшей мере пять желудков. Тебе лишний не нужен?
– Приедем домой, – успокаивала Люба, – я тебе «Пало» дам, от всех болезней им лечусь.
– Что у тебя пало?
– «Пало» – это местный ликер, миндальный и настоянный на многих травах.
– Давай «Пало»! – Мне было море по колено.
Обычно излишек спиртного действует на меня как снотворное. В молодости Люба частенько прерывала застолье призывом: «Включайте скорее музыку! Давайте танцевать! Кира отключается!» Если не танцевать, то спать – выбор у меня ограничен.
Но тут, не иначе как благодаря устрицам и другим дарам океана, воздуху, в котором было не меньше градусов, чем в вине, на меня накатило поэтическое вдохновение. Боком плюхнувшись на сиденье, я принялась сочинять стишки с рифмой на «пало» и развлекала ими всю дорогу Любу. Она живо реагировала на мое «творчество».
С декадентскими подвываниями я тянула:
- Всю ночь над городом летало кресало.
- И лишь к утру на Профсоюзной пало.
– Что такое кресало?
– Леший его знает! Из любовной лирики, слушай!
- Сердце мое пало, до пяток не дошло.
- Застряло в пищеводе, как заяц в огороде.
– Подавиться любовью? Мощно!
– Производственная тема, сельскохозяйственная.
- Коровье стадо много молока давало,
- Но от сибирской язвы, к сожаленью, пало.
– Ты зачем целое стадо погубила?
- Оно лежало тихо, не воняло.
- Подобного доселе не бывало!
– Все, приехали, поэтесса!
– Ой! – Я с трудом обрела равновесие, выбравшись из машины. – Чуть не упало!
Момента распития ликера «Пало» я не помню, а также как добралась до кровати, сняла платье и натянула пижаму. Но среди ночи меня разбудила революция, которая началась во всех желудках одновременно. Я рванула в туалет: то обнимала унитаз, склоняя в него голову, то плюхалась попой на стульчак. Проделав это упражнение несколько раз, обессиленная, наконец, подошла к зеркалу, чтобы умыться. Увидела себя и завопила благим матом…
– А-а-а! – кричала я в ужасе, выскакивая в коридор и натыкаясь на японские вазы на подставках.
Вазы падали и бились, я вопила. На шум прибежала Люба, включила свет.
– А-а-а! – увидев мое лицо, в страхе закричала она.
В первый момент Люба меня не узнала. И, как призналась позже, подумала: «Специально грабителей с мерзкой рожей подбирают, чтобы людей пугать. Но хоть бы оделись прилично, когда на дело идут! Обнаглели! В пижамах!»
Лица, как такового, у меня не было. А была страшная распухшая харя, почему-то напоминающая маску льва. От глаз остались щелочки, нос увеличился в три раза, раздувшиеся щеки при беге колыхались. И вся эта красота – в алом цвете и в буграх крупной сыпи. Покраснело все тело и покрылось прыщами.
Меня захватил очередной позыв, я заскочила в спальню, кажется мавританскую, повезло – знала, где туалет, бросилась туда.
Я стонала, сидя на унитазе. Люба, оказывая мне посильную помощь, стояла рядом и периодически нажимала на рычаг сливного бачка.
– Сволочь! – ругалась она. – Уволю без выходного пособия! Пусть сдохнут от голода его братья и сестры, если он такой прохвост! Кобель! Лентяй! Урою!
– Кого? – простонала я.
– Хуана, задери его черти, кого же еще! Ведь при тебе, когда ты листочек сорвала, на чистом русском, то есть испанском, сказала ему: ядовитый плющ! А он: нет, сеньора, ошибаетесь, сеньора! И кто был прав? Ты видишь?
– Объясни, ты знаешь, что со мной?
– Во-первых, отравление от передозировки здешней пищи. Это чепуха, со всеми бывает, кто у меня первый раз гостит. «Пало» быстро на ноги поставит.
– Во-вторых?
– Ядовитый плющ – очень плохое растение, у многих вызывает страшную аллергию. Я могу брать его руками, а муж за три метра от запаха пятнами покрывается. Весь ядовитый плющ на участке я извела, но, видишь, он снова полез, и, главное, от хорошего плюща он трудно отличим. Вот идиот Хуан и доказывал мне, что ядовитый плющ не ядовитый…
– Люба! Что со мной будет?
– Только не отек легких! У тебя нет отека? Тогда в госпиталь не повезу, сюда врача вызовем. Поднимайся. Идти можешь? Не можешь? Я тебя доволоку.
По дороге в мою спальню мы заглянули еще в три, где я проверила работу унитазов.
Две недели я провела в постели. Мне ставили капельницы, делали уколы, кормили кисельной бурдой. Поскольку врач «Пало» запретил, отравление задержалось надолго, в туалете я хорошо изучила каждую плитку кафеля… Пищевой удар вкупе с аллергическим – это я вам доложу!
Когда Любе нужно было ненадолго отлучиться, сиделкой при мне оставался Хуан, конечно же не уволенный. Юноша сидел на стуле, заламывал руки, просил прощения и пылко уверял, что я была и буду красивой женщиной, а сейчас у меня «период» – это слово он выговаривал по-русски и вставлял куда надо и не надо.
«Период» закончился, в приблизительно человеческий вид я пришла только перед отъездом с Майорки. Люба робко предлагала задержаться, поплавать на яхте, посмотреть пещеры и прочие достопримечательности.
– Рояль, на котором играл Шопен, – соблазняла меня. – Он тут с Жорж Санд отлично время проводил.
– Рояль?
– Композитор! И вообще, здесь столько можно увидеть! Хоть на недельку останься.
– Нет, домой.
Мне казалось, что на каждом углу чудного острова меня подстерегают ядовитый плющ и непосильные гастрономические утехи.
* * *
Встретив меня в аэропорту, Лешка спросил:
– Что у тебя с лицом? Сгорела?
– Нет, погорела!
Следствием чудовищной аллергии было глубокое шелушение всего тела. Когда краснота прошла, кожа лопнула и стала облезать.
Кстати, многие женщины специально и с помощью косметологов сжигают кожу лица фруктовыми кислотами или лазером, чтобы старая сгорела, слезла, а появилась новая, молодая и чистая. Процедура называется пилинг. Он у меня невольно и случился. Через месяц я, похудевшая и отшелушенная, выглядела исключительно молодо. Меня спрашивали, как удалось так похорошеть.
Я отвечала честно:
– Провела отпуск на Майорке.
Сослуживцы шептались за моей спиной: «Она у жены Хмельнова гостила. Конечно! Некоторым везет!»
* * *
Отступления закончены, возвращаюсь в сегодняшний день. Хотя могла бы еще многое про Любашу поведать, бью себя по рукам, точнее, затыкаю рот. На повестке дня моя злополучная беременность и решение первой открыться Любе.
Позвонила ей, когда детей не было дома.
– Привет! Как дела?
– Бросай трубку! – здоровается Люба. – Сейчас наберу!
Меня не разорит звонок на Майорку, но Люба считает недопустимыми мои траты, которые может взять на себя.
– Привет! – Она тут как тут. – Что новенького?
– Будет ребенок! – выпаливаю сразу, чтобы не утонуть в текущих мелких новостях и не передумать признаваться.
– Удивила! Прекрасно помню. Как Лика себя чувствует?
– Лика ни при чем. Я про себя.
– Ага! – смеется Люба. – Бабушка Кира переживает переход в новый статус?
– Наоборот, радуюсь. Люба! У меня будет ребенок!
– Сколько можно твердить? До тебя только сейчас дошло?
– Это ты, наверное, «Пало» перепила и устриц объелась! Я человеческим русским говорю: у меня будет ребенок! Я бе-ре-мен-ная!
– Чего-чего? Повтори! Из-за чего беременная?
– Из-за того самого! Как будто есть варианты!
– Но у тебя же климакс! Сама говорила! Так живописала, что и у меня началось. Кирка, я ночью потею, – тихо, как страшную тайну, сообщила Люба, – иногда и днем. Будто батарейку проглотила и она периодически включается. И такой жар!
– Но ты всегда любила тепло и ненавидела холод!
– Верно. Если бы при климаксе было как в Уренгое зимой, я бы повесилась.
– Люба, я правда беременная!
– Какой сегодня день? Вы что там, первое апреля перенесли?
– Люба, я серьезно! Залетела очень прочно, все сроки прошли. Думала, климакс, оказалось, беременность. Люба! Что мне делать?
– Не рожать же в самом деле! В твоем со мной возрасте! Кирка! Найди врачей!
– Чего их искать, врачей навалом.
– Ты не бойся! Тебя же под наркозом!
– И его тоже? Под наркозом ребеночка придушат? Он боли не почувствует?
– Кирка! Он ведь может быть идиотом или дебилом.
– Это мой дебил! – заявила я твердо.
– Ты с ума сошла!
– Не без того.
– Хочешь рожать? А как же внук?
– У Лики мальчик, а у меня девочка.
– Какая девочка?! – Люба так завопила, что я трубку от уха убрала.
Она правильно разорялась, но все эти аргументы я давно уже себе приводила. И про то, что каждому возрасту свое, и про нищету плодить, и про дебилов, и про ранние смерти поздних матерей…
Ничего нового.
– Ладно! – прервала я подругу. – Поговорили. Ты – никому, ладно? Я только тебе сказала.
– Подожди! У меня голова кругом и спиралью. А кто производитель, кто тебе подарочек настрогал? – спросила она заинтересованно.
– Не важно.
– Случайно, не Антон?
– Дура! Форменная дура! – Я швырнула трубку на рычаг.
Через минуту телефон вновь взорвался звонками. Я не отвечала. Подруга мне не помощница.
Прошли те годы, когда мы считали, что каждый волен жить как хочет. Мы помогали без суда и оценок поступков. Теперь мы друг друга учим.
Я утверждаю, что Люба на своей Майорке чирикает в золотой клетке. Она мне тычет в глаза великовозрастной глупостью. Черт с ней, с Любой!
Обойдусь!
Муж
В одном американском фильме главным героем, психоаналитиком, настойчиво и остроумно повторялась фраза «в процессе»: он в процессе ненависти, она в процессе любви, у нас процесс самоидентификации, у них процесс скорби по в бозе почившем дедушке… Всеобъемлющий охват, потому что жизнь сплошь состоит из процессов.
Процесс покаяния, как и всякий другой, имеет временную протяженность. Иными словами, начав признаваться, я зашла в процесс, как ступила на движущийся эскалатор, и понес он меня – в сторону не спрыгнешь. Остановиться трудно, да и не хочется.
Следующим объектом для исповеди я выбрала мужа. С Сергеем мы не разводились. В определенном смысле мы остаемся мужем и женой, потому что у нас есть ребенок. Мы не спим вместе больше десяти лет, но, казенно выражаясь, уважаем друг друга и по большому счету никогда крупно не ссорились. Сергей живет в Кузьминках, в квартире моих родителей. Я не собираюсь дарить ему жилплощадь, но и выбрасывать на улицу не стану. Предполагалось, что, когда Лешка отделится, кузьминскую квартиру разменяем на две, для отца и сына.
Лешка женился, упархивать из-под мамочкиного крыла не собирается, тем более в преддверии рождения ребенка. А размен-разъезд – это хлопоты и нервотрепка, никто не хочет браться.
Дверь я открыла своим ключом. Еще бы не было у меня ключа от родительской квартиры!
Первая, кого я увидела в прихожей, была девушка. Одета в мой старенький махровый халат, только из ванной выскочила, волосы мокрые.
– Здравствуйте! – спокойно поздоровалась я.
– Кто вы? – настороженно выпалила она.
– Жена Сергея Викторовича.
– Как жена?
– Натурально. Где мои тапочки?
Выражение испуга на лице девушки сменилось на выражение паники. Она сбросила тапочки и заметалась. Но метаться в маленькой прихожей было негде. Она сделала шаг в сторону комнаты – хотела там укрыться, шажок в сторону кухни, рывок к ванной.
– Спокойно! – усмехнулась я. – Скандалов не будет. Может, только слегка вам личико поцарапаю. – Я веселилась, но держалась притворно строго. – Обуйтесь. После чужих обувь не ношу. Вдруг у вас грибок.
– У меня нет грибка! – дрожащим голосом ответила она.
– А какая-нибудь другая плохая болезнь? Вы мне мужа не заразили?
– Не-ет, – проблеяла бедная девушка.
Она поняла, что пути отступления отрезаны, и приготовилась смиренно встретить свой последний час. Застыла, теребит руками воротник халата, глаза навыкате, рот испуганно приоткрыт.
– Ладно! – смилостивилась я. – Разбудите Сергея Викторовича и можете отбыть с миром. Сначала я мужу рога обломаю или своими его забодаю.
Разбудить Сергея, как и Лешку, утром – задача не из простых. Они ярко выраженные совы, до трех ночи бодрствуют, до десяти утра полностью непробуждаемы. Но сейчас одиннадцать, при настойчивом желании и опыте Сергея можно растолкать.
На кухне я поставила чайник и стала делать бутерброды из принесенных продуктов. Девушку покормить? Наверняка голодная… только полезет ли ей кусок в горло в компании с «ревнивой женой»?
Из прихожей послышались звуки тихой возни.
Я выглянула в проем. Так и есть: Сергея добудиться не получилось, девушка оделась и удирает.
На ней была мини-юбка. Девушка наклонилась, обуваясь, и продемонстрировала замечательно стройные ножки. Сергей в своем репертуаре: за хорошенькие ножки можно все отдать! Мода повторяется. Тридцать лет назад я тоже носила мини-юбки.
Когда наш с Сергеем роман перетек в постельную фазу, папа уехал на месяц в санаторий. Точнее, наоборот: папа уехал, роман перетек.
Господи! Как неутомима молодость! Мы тридцать дней не выходили из квартиры, даже в магазин за продуктами. Последнее, чем мы питались, была мука с букашками. Мы просеивали ее через ситечко, разводили водой и жарили что-то вроде блинов. От мяса в виде червячков все-таки отказывались. Без масла блины не переворачивались. Нас это очень веселило. Мы хохотали и ели безвкусную полусырую и подгоревшую массу.
Двадцать четыре часа в сутки мы занимались любовью, с перерывом на короткий сон и попить водички. Еще разговаривали. Мы не могли налюбиться друг другом и наговориться.
Как-то я задала Сергею типический женский вопрос: когда ты меня полюбил?
– До того, как сразу. Мне кажется, я тебя полюбил за секунду до того, как увидел, как ты вошла в комнату.
– А конкретно? Что тебе во мне понравилось? Опиши обстоятельно.
– Лицо? У тебя слишком красивое лицо, правильное. Идеальный славянский лик с малой толикой скандинавского влияния. Но твое лицо отпугивает совершенностью. В него могут влюбиться только два типа мужиков: первый проглотит язык и будет ходить за тобой собачкой на привязи; второй – просто хам, для него нет святого, он желает заскочить на всякую смазливую собачку.
– К какому типу ты относишься?
– К твоему единственному!
– Согласна. Дальше. Что тебя сразило, если не мое чудное обличье?
– Лицо твое, – уточнил Сергей, – меня ранило, а ножки добили. Ты встала, чтобы взять какую-то книжку. Подошла к полке, подняла руку, на тебе была коротенькая замшевая юбка. И я погиб! Температура тела поднялась до сорока двух градусов, перед глазами молнии, внутри бешено ходит поршень, воздуха не хватает. Я страстно желал умереть, обняв твои коленки, или прожить жизнь, не отпуская их.
– Ничего не заметила. Ты блистал интеллектом, не закрывал рта, каламбурил, остроумно шутил.
– Как маскировочка? – похвастался Сергей. – Это было в бреду, ничего не помню.
Я лежала на спине, подняла ноги вверх, поболтала ими, рассматривая:
– Ноги как ноги. Ничего особенного, не кривые, и на том спасибо. Ты приписываешь им фантастические свойства.
– О! – застонал Сергей. – Сейчас я тебе расшифрую их свойства…
Потом мы снова вернулись к теме моих ножек, и Сергей с большой печалью произнес:
– Не один я такой. Сколько Пушкин написал про пару стройных ножек! Они убийственно сексуальны. Когда я думаю, что на твои ноги смотрят другие мужики, мне хочется выколоть им глаза.
– Мода на мини-юбки проходит. Будем носить миди – до середины колена.
– Правда? – Сергей радостно вскочил. – Слава богу моды! Вечная слава!
Он, голый, стоял на коленях и отбивал поклоны всем подряд богам:
– Спасибо, Аллах! Спасибо, Будда! Спасибо, Яхве!..
Нагой мужчина в поклонах – это очень смешно. Я покатывалась от хохота.
* * *
Девушка почувствовала мое присутствие, испуганно оглянулась:
– Что? Что вы смотрите?
Я смотрела на ее ноги. За тридцать лет я так и не поняла, что в женских ногах сводит с ума. Наверное, восхищение конечностями – исключительно половой мужской инстинкт.
– У меня колготки порвались? – Девушка вывернула голову, рассматривая свои ноги.
– Все нормально. Хотите чаю? – предложила я.
Очевидно, из-за волнения или успокоившись, что скандала не будет, она вдруг перешла на английский:
– Сэнкью! Сори!
– Ю а вэлкам! – рассмеялась я.
Закрыла за ней дверь и пошла будить Сергея. Сорвала с него одеяло и закричала в ухо:
– Тревога! Война!
– Белой и Красной розы, – промурлыкал Сергей и перевернулся на другой бок.
– Атомная!
– Я умер во сне от радиации.
Так можно было разговаривать до бесконечности. Я – наяву, он – во сне, потом ничего не вспомнит.
– Сейчас принесу чайник! – пригрозила я. – Он только вскипел! Оболью!
– Кира? – Сергей открыл один глаз. – Еще минуточку, пожалуйста!
– Вставай, соня! Я твою отроковицу кислотой облила, сейчас будем труп на куски резать и в пакетах выносить.
– Черный юмор с утра, – поморщился Сергей. – Три минутки, и я встаю.
– Пошла за чайником! Ты меня знаешь!
Он сел на кровати, потер лицо руками, взлохматил волосы, по-прежнему густые, но уже с проседью.
– А где Света?
– Света слиняла со света. Меня испугалась, я женой представилась.
– Тогда подремлю еще полчасика?
– В душ и на кухню! – Я была непреклонна. – У меня мало времени. Разговор есть.
Пока Сергей просыпался под душем, я читала журнал, обнаруженный на кухне. Там была статья о Махатме Ганди, написанная Сергеем.
Он пришел, начал завтракать, кивнул на публикацию:
– Как тебе?
– Честно? Мрак и пошлость! Махатма, пишешь ты, обозначает «великая душа». И где ее величие? Какие-то сплетни про маму Ганди, страдавшую запорами, про то, как его женили тринадцатилетним и бедные муж и жена, дети по сути, мучили друг друга незрелой сексуальностью. Упоминаешь про обет полового воздержания, который он принял в тридцать семь лет, и опыты по испытанию этого обета, когда он спал с обнаженными женщинами. Вставные зубы, которые хранил в складках набедренной повязки, вкладывал в рот перед едой, потом полоскал и возвращал на место. Кроме вставных челюстей, за великим Ганди не числится ничего интересного? О его учении сатьяграха – упорстве в истине, основанном на ненасилии, – две строчки. Зато просторно про неблагодарных сыновей, не признававших учения отца.
– В статье, – вяло оправдывался Сергей, – сорок страниц. Редактор выкинул все, кроме клубнички, осталось пять страниц. Я получил двести баксов гонорара, полный текст статьи выложен в Интернете. Ты знаешь, что Ганди переписывался с Толстым Львом Николаевичем? Сатьяграха и толстовское непротивление злу насилием – две золотые монеты, которые сходны только металлом, но не размениваются одна другой. Интересна не сама по себе переписка двоих великих, а их взаимное влияние. Толстой был старцем, в том возрасте, когда человека интересуют только собственные теории, а Ганди только вступал в пору зрелости…
Как водится, я заслушалась. Сергей прекрасный рассказчик и широчайше образованный человек.
В романе Гончарова «Обрыв» о главном герое Борисе Райском говорится, что он был талантлив в искусствах и при этом пустоцветом. Брался за живопись, скульптуру, за беллетристику – все получалось, и ничего не доводил до конца, уставал, бросал, надоедало. Когда я читала в детстве роман, Райский показался мне выдуманным, нереалистичным, таких не бывает.
А потом я вышла замуж за человека, которому герой Гончарова в подметки не годился. Что там искусства!
Сергей блестяще закончил физический факультет МГУ (тот же, что и Лешка), два года работал на кафедре. Диссертация была практически готова, он все бросил – увлекся биохимией человеческой клетки. В микробиологии сделал открытие, исключительно благодаря моему занудству защитил диссертацию. Переметнулся в сравнительную лингвистику, потому что его заинтересовало открытие генетиков, которые пришли к выводу, что все человечество происходит от одного корня, и построили генеалогическое древо человечества. Лингвисты в свою очередь проделали ту же работу, но не с генами, а с мировыми языками, и тоже построили древо. Обе конструкции поразительным образом совпали, археологи вопили от восторга. Сергея на генеалогическом древе языков заинтересовала ветвь чукчей и камчадалов, их близкое языковое родство с эскимосами и алеутами. Потом наступила очередь истории. Здесь Сергей задержался дольше всего, перескакивая с периода на период. Он знает о декабристах столько, что рассказывает о них словно о родных братьях. Про народовольцев-террористов, их жизнь на каторге и влияние на уголовников была почти написана книга, увлекательная, как авантюрный роман.
Еще мы занимались философией. Конкретно – ролью личности в истории. Поэтому про множество личностей знаем массу любопытного.
Ни в одном учреждении больше года Сергей не работал. Устраивался, месяцев шесть исправно ходил, всех покорял своими знаниями, интеллектом и тем, что находит жемчужины в той куче, где до него копались десятки ученых. Потом пропадал, просто не являлся на службу, не желал терять время на ерундовую болтовню. Его еще полгода держали, уговаривали, увещевали, давали липовые отпуска за свой счет. Но Сергея уже несло на волне другого интереса.
Каждый новый виток сопровождался у него, что естественно, новой любовью к новой обладательнице хорошеньких ножек. Так было до меня и после. Я продержалась больше всех – от микробиологии до народовольцев. Я знаю, что была его настоящей и глубокой любовью. Но проходит все, даже настоящее, заливается все, даже глубокое.
Сергей не капризен и не требователен в быту. Для него быта попросту не существует. Он может два года ходить в одних брюках, а когда они протрутся, попросит какую-нибудь обожающую его библиотекаршу принести ему книги домой. Штаны рано или поздно появятся, я куплю. В доме нечего есть? Ребенку надо купить лекарство? Жена не хочет ходить в обносках? Это не к Сергею, это само должно как-то решиться без его участия. На него никогда нельзя было положиться: купить молоко или хлеб, забить гвоздь, забрать ребенка из садика. Он не отказывал, он забывал. Увлекался какой-нибудь идеей и забывал.
Я дошла до ручки, внутренне превратилась в фурию, устала одна тащить воз. Я не закатывала скандалов мужу, грызла себя изнутри. Не могла разлюбить его интеллект, не могла не восхищаться его умом, но любовь, как ни банально звучит, разбилась о быт. Интимные отношения прекратились: я отказывала, Сергей не настаивал. У него тоже рассосалось.
Когда Люба отселила меня с Лешкой, наши отношения с Сергеем вошли в колею близких без близости, добрых без обязательности. И с Лешкой у них все прекрасно; долго друг друга не выносят, но коротко общаются с удовольствием.
– Странно, что ты заинтересовался поздним Толстым и Ганди, – усмехнулась я. – У тебя еще голые девицы по квартире шастают.
– Уж не ревнуешь ли? Спасибо за завтрак!
– Пожалуйста! Не ревную, соболезную.
– Прекрасное чувство!
– Так ведь не к тебе.
– А ко мне могла бы проявить тимуровское участие и зашить куртку. Рукав оторвался…
– Неси, – кивнула я, – давай сразу все, что нужно чинить, носки – только стираные. Нитки с иголкой не забудь.
– А где они лежат?
Я вздохнула и пошла в комнату.
– Ты хотела поговорить, – напомнил Сергей, наблюдая за моим шитьем. – О квартире? Действительно, несправедливо, что вы втроем в двухкомнатной ютитесь, а я один в трех комнатах. Подобрали вариант? Мне комнату в коммуналке? Согласен.
– Если ты такой благородный, то и занялся бы разменом.
– Кто? Я? Как ты себе это представляешь?
– Никак не представляю, – призналась я и откусила зубами нитку. – Сергей, у нас будет ребенок!
– Строго говоря, у нас будет внук.
– Само собой. Но еще юридически через полгода ты станешь отцом моего ребенка, если, конечно, до того мы не разведемся.
– Ничего не понимаю. – Он потряс головой. – При чем здесь ты или я?
– Я беременна.
– Зачем? – умно спросил он.
– Так получилось.
– Ты хочешь, чтобы я подсказал тебе способы избавления от нежелательной беременности?
– Нет, все способы мне известны и не подходят.
– По здоровью?
– Идеологически.
– Какая к дьяволу идеология? Кира! Зачем тебе это нужно, нам нужно? – великодушно поправился он.
– Поздно пить боржоми. Ты признаешь ребенка, чтобы в документах не стоял прочерк?
– А непосредственный отец-производитель? Отказывается?
– Считай зачатие непорочным.
– Ясно.
– Ничего тебе не ясно! – вспылила я. – Но этот аспект я отказываюсь обсуждать!
– Значит, я без обсуждения должен признать бастарда собственным ребенком? – Сергей зло усмехнулся.
– Алиментов никто у тебя не потребует.
– Еще бы! Лешка и Лика знают о твоих грандиозных планах?
– Только Люба.
– Что говорит?
– То, что диктует здравый смысл.
– Вот видишь! Ты упряма как осел!
– Буриданов?
– Нет. Выражение «буриданов осел», – быстро заговорил Сергей, не избавившийся от привычки что-то пояснять мне и Лешке, – это о человеке, колеблющемся в выборе между двумя равносильными желаниями, двумя равноценными решениями. Идет от имени французского философа-схоласта, жившего в четырнадцатом веке, Жана Буридана. Якобы в доказательство отсутствия свободы воли Буридан привел осла, который, находясь на равном расстоянии от двух охапок сена, умер с голоду, так и не решив, с какой из охапок начать. При чем здесь Буридан?
– Это ты себя спроси, просветитель!
– Кира! Чего ты от меня хочешь?
– Кажется, ясно сформулировала: фамилию и отцовство.
– Но это не мой ребенок!
– Зато я – твоя жена!
– Какая ты жена! – отмахнулся Сергей.
– Добрая. Вот, носки штопаю, – невесело рассмеялась я.
Сергей ухватился за спасительную ниточку.
– Ты меня разыграла! – вздохнул облегченно. – Игривая бабушка в возрасте элегантности! А я, честно говоря, струхнул. Кому хочется усложнять жизнь?
– Никому, кроме меня.
– Ну, хватит! Пошутила, и будет. Я тебе не дорассказал о Ганди. Обнаружилось одно очень любопытное неотправленное письмо…
Сергей говорил, я почти не слушала. Думала о своем. Вспоминала, как сказала ему, что беременна Лешкой. Сергей тогда не возликовал киношно, не бросился с объятиями, не захлебнулся от счастья. Он смотрел на меня с жалостью. Понимал, что исправиться не сможет, опорой и помощником не станет, на меня взвалится тяжкий груз, и меня жалел. Лучше бы помог материально!
Чадолюбия в Сергее не густо – в аккурат на Лешку хватило и на внучку немного осталось. Мой ребенок ему как пятое колесо, как рыбе зонтик, как слону гитара.
– Серега! – перебила я его. – Ты несчастный человек! У тебя нет друзей.
– При чем здесь друзья? – удивился он. – Ты ошибаешься. Кроме Светы, которую ты видела, я познакомился с интересными типами из музея Востока.
– У тебя нет старых друзей, – уточнила я, поймала себя на мысли, что хочется сказать ему гадость, но не остановилась. – Твои друзья обязательно свежие, месяц, два, год назад появившиеся. А старые растворились, ты их отработал. Ты шагаешь по людям. Нет, не вампиришь. Ты в них отражаешься, как в зеркале. Любуешься своей физиономией, своей умностью, их восхищением. Когда в одном зеркале не видишь ничего нового, когда оно замутнится, ты переходишь к другому. И снова как первый раз: твои истории, твои парадоксы, твое красноречие – публика рукоплещет. По сути, ты эгоист такой высшей пробы, что эгоизм уже перешел в свою противоположность – во вселенское человеколюбие, которое есть нелюбие никого. Ты как эссенция. Эссенцию перед употреблением разбавляют, иначе кислота разъест.
Сергей посмотрел на меня внимательно, хмыкнул.
– Странное у тебя сегодня настроение. То шутишь плоско, то комсомольскую аттестацию мне устраиваешь. Были такие во времена нашего студенчества. На комсомольском собрании университетской группы каждого по очереди разбирали на предмет человеческих качеств и политической зрелости. Это был какой-то извращенный коллективный психоанализ. Не без пользы, признаюсь, но абсурдный ввиду отсутствия добровольности покаяния.





