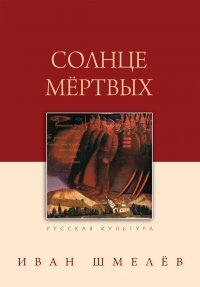Читать онлайн Лето Господне бесплатно
- Все книги автора: Иван Шмелёв
© Михайлов О. Н., предисловие, 1997
© Михайлов О. Н., комментарии, 2004
© Бритвин В. Г., иллюстрации, 2004
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2004
Об этой книге и ее авторе
Еще недавно, когда не существовало телевидения и «усталые игрушки» ложились спать самостоятельно, родители читали детям на ночь книжки – сказки, стихи, рассказы. Потом, с появлением радио, часть такой заботы взяли на себя актеры, в лицах рассказывавшие о «Малахитовой шкатулке» и Хозяйке Медной горы Бажова, о Коньке-горбунке Ершова или о чудесных приключениях Ашик-Кериба, сочиненных Лермонтовым.
В книгах «для маленьких» добро обязательно торжествовало над злом, плохое побивалось хорошим, бедный добряк наказывал жадного хапугу или даже самого царя, которого изображали глупым и злым.
Подрастая, мы с вами, однако, стали узнавать, что в жизни не все так просто, как в сказках и легендах. Несправедливость – частый гость на земле: богатый обижает бедного, сильный – слабого, и не только потом остаются безнаказанными, но и смеются над обманутыми. И немало таких, кто считает это естественным. Как же так? Отчего люди не боятся и не стыдятся обижать и обманывать друг друга? И почему так много несправедливости на земле, когда гибнет, поруганная, красота, когда умирают любимые люди, когда доброта и любовь часто не встречают понимания?
Оттого, что мир несовершенен.
Как поступать людям в таком мире, как вести себя, что делать, как относиться друг к другу, как сделаться – не за чужой счет – немножко более счастливым? Об этом думали писатели, создавая свои книги, в разные времена и в разных странах. И лучшие из этих писателей приходили к одному и тому же выводу, что существуют высшие силы – как в нас самих, так и вне нас, – которые только и способны помочь нам жить достойно, преодолевать невзгоды и испытания, творить добро ближнему, радоваться хорошему и отвергать дурное. Они писали книги, в которых «учительная сила» выступала ненавязчиво, незаметно, с глубокой верой в правоту того, что составляло для них смысл жизни. И произведений таких, право же, не так много.
«Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелева – одна из таких удивительных книг.
Это книга о семилетнем мальчике, его радостях и горестях, написанная далеко от Москвы, в которой он жил. Жестокие события революции 1917 года и Гражданской войны забросили автора, Ивана Сергеевича Шмелева, как и сотни тысяч его соотечественников, в эмиграцию, за рубеж. С 1922 по 1950 год, год своей кончины, писатель провел во Франции и там создал лучшие свои произведения – «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне».
Шмелев и раньше писал специально «для детей», «для юношества». В его рассказах было немало добра, света, юмора. Но, глядя на свою родную Россию «издалека», сквозь слезы пережитого (можно сказать, на его глазах в Крыму в 1920 году в числе многих тысяч белых офицеров был расстрелян его единственный сын), он стал искать опоры на чужбине в таких ценностях, которые – как он все более убеждался – были вечными.
Эти ценности он обрел в своем детстве.
Чтение родной литературы с дошкольных лет убедило, кажется, нас, что о детстве – поэтично, красочно, солнечно, одухотворенно – можно рассказывать лишь тогда, когда прошло оно в деревне или в усадьбе, на русском приволье, среди его волшебных превращений.
Аксаковские «Детские годы Багрова-внука», и «Детство» Льва Толстого, и «Жизнь Арсеньева» Бунина, и «Детство Никиты» Алексея Толстого – все они убеждают в этом. Горожанин, москвич, коренной обитатель Замоскворечья – Кадашевской слободы, Шмелев опровергает эту традицию.
Нет, не нарывами на теле Земли возникали и устроялись наши города и мать их – Москва. Конечно, немало уродливого и прямо бесчеловечного было в ее недрах. И эти контрасты старой Москвы, увиденные глазами старого официанта, глубоко и проникновенно отразились в шмелевской повести 1911 года «Человек из ресторана». Но ведь было и иное, впитанное Шмелевым-ребенком. Посреди огромного города, «супротив Кремля», в окружении мастеровых и работников вроде умудренного филенщика Горкина, купцов и духовных лиц ребенок увидел жизнь, исполненную истинной поэзии, глубокой религиозности, патриотической одушевленности, доброты и несказанной душевной щедрости.
Здесь, без сомнения, истоки шмелевского творчества, здесь первооснова его художественных впечатлений.
Представьте себе карту старой Москвы.
Особое своеобразие придает городу Москва-река. Она подходит с запада и в самой Москве делает два извива, переменяя в трех местах нагорную сторону на низины. С поворотом течения с Воробьевых гор к северу высокий берег правой стороны, понижаясь у Крымского брода (ныне Крымского моста), постепенно переходит на левую сторону, открывая на правой, против Кремля, широкую луговую низину Замоскворечья.
Здесь, в Кадашевской слободе (когда-то населенной кадашами, то есть бочарами), 21 сентября (3 октября по новому стилю) 1873 года родился Иван Сергеевич Шмелев.
Москвич, выходец из торгово-промышленной среды, он великолепно знал этот город и любил его – нежно, преданно, страстно. Именно самые ранние впечатления детства навсегда заронили в его душу и мартовскую капель, и Вербную неделю, и «стояние» в церкви, и путешествие по старой Москве: «Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы-доски. Дворники, в пиджаках, тукают о лед ломами. Скидавают с крыш снег. Ползут сияющие возки со льдом. Тихая Якиманка снежком белеет… Весь Кремль золотисто-розовый, над снежной Москвой-рекой… Что во мне бьется так, наплывает в глаза туманом? Это – мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы… Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой, над темными садами, – солнечный туманец тонкий, в нем колокольни-тени, с крестами в искрах – милое мое Замоскворечье» («Лето Господне»).
Москва жила для Шмелева живой и первородной жизнью, которая и по сей день напоминает о себе в названиях улиц и улочек, площадей и площадок, проездов, набережных, тупиков, сокрывших под асфальтом большие и малые поля, полянки, всполья, пески, грязи и глинища, мхи, дебри, или дерби, кулижки, то есть болотные места, и сами болота, кочки, лужники, вражки – овраги, ендовы – рвы, могилицы, а также боры и великое множество садов и прудов. И ближе всего Шмелеву оставалась Москва в том треугольнике, который образуется изгибом Москвы-реки с водоотводным каналом и с юга ограничен Крымским валом и Валовой улицей, – Замоскворечье, где проживало купечество, мещанство и множество фабричного и заводского люда. Самые поэтичные книги – «Богомолье» (1931) и «Лето Господне» (1933–1948) – о Москве, о Замоскворечье.
Племянница писателя Ю. А. Кутырина рассказывала, что Шмелев был среднего роста, тонкий, худощавый, с большими серыми глазами, владеющими всем лицом, склонными к ласковой усмешке, но чаще серьезными и грустными. Его лицо было изборождено глубокими складками-впадинами – от созерцания и сострадания. Лицо прошлых веков, пожалуй. Лицо старовера, страдальца.
Впрочем, так оно и было: дед Шмелева, государственный крестьянин из села Гуслицы Богородского уезда Московской губернии, – был старовер. Кто-то из предков был ярый начетчик, борец за веру: вступал еще при царевне Софье в «прях», то есть в спор о вере.
Прадед писателя жил в Москве уже в 1812 году и, как полагается кадашу, торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжал его дело и брал подряды на постройку домов. О крутом и справедливом характере деда, Ивана Сергеевича, Шмелев вспоминал:
«На постройке коломенского дворца (под Москвой) он потерял почти весь капитал «из упрямства» – отказался дать взятку. Он старался «для чести» и говорил, что за стройку ему должны кулек крестов прислать, а не тянуть взятки. За это он поплатился: потребовали крупных переделок. Дед бросил подряд, потеряв залоговую стоимость работ. Печальным воспоминанием об этом в нашем доме оказался «царский паркет» из купленного с торгов и снесенного на хлам старого коломенского дворца.
– Цари ходили! – говаривал дед, сумрачно посматривая в щелистые рисунчатые полы. – В сорок тысяч мне этот паркет влез! Дорогой паркет!
После деда отец нашел в сундучке только три тысячи. Старый каменный дом да эти три тысячи – было все, что осталось от полувековой работы деда и отца. Были долги».
Особое место в детских впечатлениях, в благодарной памяти Шмелева занимает отец, Сергей Иванович, которому писатель посвящает самые проникновенные поэтические строки. Это, очевидно, было чертой фамильной: он и сам будет матерью единственному сыну Сергею. Собственную мать Шмелев упоминает в автобиографических книгах изредка и словно бы неохотно. Лишь отраженно, из других источников, узнаем мы о драме, с ней связанной, о детских страданиях, оставивших в душе незарубцевавшуюся рану. Так, жена писателя Бунина, Вера Николаевна, отмечает в дневнике: «Шмелев рассказывал, как его пороли, веник превращался в мелкие кусочки. О матери он писать не может, а об отце – бесконечно».
Вот отчего в шмелевской автобиографии и в позднейших «вспоминательных» книгах так много об отце.
«Отец не кончил курса в мещанском училище. С пятнадцати лет помогал деду по подрядным делам. Покупал леса, гонял плоты и барки с лесом и щепным товаром. После смерти отца занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжеств, держал портомойни на реке, купальни, лодки, бани (Шмелевым принадлежали известные до революции Крымские бани), ввел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинском. Кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества – для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел: эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики…
Я остался после него лет семи».
Семья отличалась патриархальностью, приверженностью старому укладу и истовой религиозностью («Дома я не видел книг, кроме Евангелия», – вспоминал Шмелев). Патриархальны, религиозны, как и хозяева, и преданны им были слуги. Ими помыкали и их же звали к хозяйскому столу в дни торжеств «на ботвинью с белорыбицей». Они рассказывали маленькому Ване истории об иноках и святых людях, сопровождали его в поездке в Троице-Сергиеву лавру – знаменитую обитель, основанную преподобным Сергием Радонежским («Богомолье»); они закладывали нравственные устои его характера. Шмелев посвятит одному из них, старому филенщику Горкину, лирические страницы воспоминаний детских лет.
Иной дух царил, однако, в замоскворецком дворе Шмелевых, куда со всех концов России стекались рабочие-строители. «Ранние годы, – вспоминал писатель, – дали мне много впечатлений. Получил я их «на дворе».
Мы встретим эту красочную разноликую толпу, представляющую собой, кажется, всю Россию, на страницах многих его книг, но прежде всего в «итоговых» произведениях, в том числе и в «Лете Господнем».
«В нашем доме, – рассказывал Шмелев, – появлялись люди всякого калибра и всякого общественного положения. Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружали и раскрашивали щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели тьма народу. Заливались стаканчики, плошки, кубастики. Пестрели вензеля. В амбарах было напихано много чудесных декораций с балаганом. Художники с Хитрова рынка храбро мазали огромные полотнища, создавали чудесный мир чудовищ и пестрых боев. Здесь были моря с плавающими китами и крокодилами, и корабли, и диковинные цветы, и люди с зверскими лицами, крылатые змеи, арабы, скелеты – все, что могла дать голова людей в опорках, с сизыми носами, все эти «мастаки и архимеды», как называл их отец. Эти «архимеды и мастаки» пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на нашем дворе – всяких. Это была первая прочитанная мною книга – книга живого, бойкого и красочного слова.
Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молоточки и учили, как «притрафляться» на досках, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурство. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел рыжий маляр. «И эх и темы-най лес… да эх и темы-на-й…» Я любил украдкой забраться в обедающую артель, робко взять ложку, только что начисто вылизанную и вытертую большим корявым пальцем с сизо-желтым ногтем, и глотать обжигающие щи, крепко сдобренные перчиком.
Много повидал я на нашем дворе и веселого и грустного. Я видел, как теряют пальцы, как течет кровь из-под сорванных мозолей и ногтей, как натирают мертвецки пьяным уши, как бьются на стенках, как метким и острым словом поражают противника, как пишут письма в деревню и как их читают. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог. Он делал то, чего не могли сделать такие, как и я, как мои родные. Эти лохматые на моих глазах совершали много чудесного. Висели под крышей, ходили по карнизам, спускались в колодезь, вырезали из досок фигуры, ковали лошадей, брыкающихся, писали красками чудеса, пели песни и рассказывали захватывающие сказки…
Во дворе было много ремесленников – бараночников, сапожников, скорняков, портных. Они дали мне много слов, много неподражаемых чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни – самой важной и мудрой. Здесь получились тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ребенка, глазами».
Из закромов памяти пришли Шмелеву впечатления детства, составившие «Лето Господне», совершенно удивительную книгу по поэтичности, духовному свету, драгоценным россыпям слов.
Конечно, мир «Лета Господня» – мир Горкина, бараночника Феди и богомольной Домны Панферовны, старого кучера Антипушки и приказчика Василь Василича, «облезлого барина» Энтальцева и солдата Махорова «на деревянной ноге», колбасника Коровкина, рыбника Горностаева, птичника Солодовкина и «живоглота» – богатея крестного Кашина, – этот мир одновременно и не существовал и был, преображенный в слове. И эпос шмелевский, поэтическая мощь от этого только усиливаются.
Автор нескольких исследований, посвященных Шмелеву, философ И. А. Ильин писал о «Лете Господнем»:
«Шмелев никогда не заимствует канву для своей фабулы у внешнего порядка событий. Он не нуждается в этом. Фабула его произведений развертывается самостоятельно из самого предметного содержания. Но в книге «Лето Господне. Праздники» он строит свою фабулу как бы на внешней эмпирической последовательности времен, а в сущности идет вослед за календарным годом русского Православия.
Годовое вращение, этот столь привычный для нас и столь значительный в нашей жизни ритм жизни, имеет в России свою внутреннюю, сразу климатически бытовую и религиозно-обрядовую связь. И вот в русской литературе впервые изображается этот сложный организм, в котором движение материального солнца и движение духовного религиозного солнца срастаются и сплетаются в единый жизненный ход. Два солнца ходят по русскому небу: солнце планетное, дававшее нам бурную весну, каленое лето, прощальную красавицу осень и строго-грозную, но прекрасную и благодатную белую зиму, – и другое солнце, духовно-православное, дававшее нам весною – праздник светлого, очистительного Христова Воскресения, летом и осенью – праздники жизненного и природного благословения, зимою, в стужу, – обетованное Рождество и духовно-бодрящее Крещение. И вот Шмелев показывает нам и всему остальному миру, как ложилась эта череда двусолнечного вращения на русский народно-простонародный быт и как русская душа, веками строя Россию, наполняла эти сроки Года Господня своим трудом и своей молитвой. Вот откуда это заглавие «Лето Господне», обозначающее не столько художественный предмет, сколько заимствованный у двух Божиих Солнц строй и ритм образной смены».
«Лето Господне» – книга для семейного чтения. Ее лучше всего читать в добрых старых традициях – вечерами, вслух, на пользу не только детям, но и самим родителям, главу за главой. Это пища для ума и сердца и ребенку, и подростку, и юноше, и взрослому человеку. Ибо никогда не поздно подумать над тем, над чем понуждает думать Иван Сергеевич Шмелев: над предназначением маленького человека, вступающего в этот мир.
Олег Михайлов
I. Праздники
Наталии Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным посвящаю.
Автор
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А. Пушкин
Великий пост
Чистый понедельник
Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник-филенщик Горкин сказал вчера, что Масленица уйдет – заплачет. Вот и заплакала – кап… кап… кап… Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» – игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок – пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», – Горкин вчера рассказывал: «Душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому дню готовиться.
– Косого ко мне позвать! – слышу я крик отца, сердитый.
Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, – редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был Прощеный день. И Василь Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках: «Всех прощаю!» Почему же кричит отец?
Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, Масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар – священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный… – так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.
– Вставай, милок, не нежься… – ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. – Где она у тебя тут, Масленица-жирнуха… мы ее выгоним. Пришел пост – отгрызу у волка хвост. На Постный рынок с тобой поедем, васильевские певчие петь будут – «Душе моя, душе моя», – заслушаешься.
Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный – тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое – Чистый сегодня понедельник! – только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Знаю, что он святой. Такие – угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью и весь пост будет с ними пить чай – «за сахар».
– А почему папаша сердитый… на Василь Василича так?
– А, грехи… – со вздохом говорит Горкин. – Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли… по закону-то! Читай: «Господи Владыко живота моего». Вот и будет весело.
И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.
В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли «постную», голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец – по субботам он сам зажигает все лампадки, – всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», – и я напеваю за ним, чудесное:
- И свято-е… Воскресе-ние Твое
- Сла-а-вим!
Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне, за вереницею дней поста, – Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные дни поста.
Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается и надо готовиться к той жизни, которая будет. Где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом – другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь – «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет: «Увы мне, окаянная я!» Так и в ефимонах теперь читается.
– Потому они чуют, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого дня дождаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: по-мни… по-мни!.. – поокивает он так славно.
В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест – по-мни… по-мни… Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется – постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина – «Красавица на пиру» – закрыта простынею. Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «Греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится – такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то – «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатками, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно. Великий пост: раскатишься – и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, – великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хватаю щепотками – как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной… Мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар – лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва… А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам… а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а… великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками… а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»… а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и там, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все – другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, – весь двор завалят. Поедем на Постный рынок, где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был… Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:
– Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.
Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается, Сын Божий! А Бог-то как же… как же Он допустил?..
Чувствуется мне в этом великая тайна – Бог.
В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, сгоряча, – и притаиваюсь за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василь Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, – злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».
– Пьяная морда! – кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. – И посейчас пьян?! в такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями… прости, Господи! Публику чуть не убили на катанье?! А где был болван приказчик? Мешок с выручкой потерял… на триста целковых! Спасибо старик-извозчик, Бога еще помнит, привез… в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..
– Ни в одном глазе, будь п-кой-ны-с… в баню ходил-парился… Чистый понедельник-с… все в бане, с пяти часов, как полагается… – докладывает, нагибаясь, Василь Василич и все отталкивает кого-то сзади. – Посчитайте… все сполна-с… хозяйское добро у меня… в огне не тонет, в воде не горит-с… чисто-начисто…
– Чуть не изувечили публику! Пьяные, с гор катали? а? От квартального с Пресни записка мне… Чем это пахнет? Докладывай, как было.
– За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда… ошибся… ради хозяйского антиресу. К ночи пьяные навалились, – ка-тай! Маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат – жеще! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал… ну, выпивши маленько…
– А ты трезвый?
– Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был… А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники… с блинами на горы приезжали и с кульками… Очень я им пондравился…
– Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври…
– Забрали меня силом на дилижан, по-гнал нас Антошка… А они меня поперек держут, распорядиться не дозволяют. Лети-им с гор… не дай Бог… вижу, пропадать нам… Кричу – Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать… да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место… с кулак нажгло-с… А там, дураки, без моего глазу… другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел… ну, тоже маленько для проводов Масленой не вовсе тверезый… В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало… А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валяный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побило… лежали мы на льду, на самом на ходу… Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу… и ему солянки велел подать… и выпили-с! Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий пост, чтобы было тихо и благородно… все веселения, чтобы для тишины.
– Антошка с Глухим как, лежат?
– Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч, фершал, смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капустки просят. Напужался было я, без памяти оба вчерась лежали, от… сотрясения-с! А я все уладил, поехал домой, да… голову мне поранило о дилижан, память пропала… один мешочек мелочи и забыл-с… да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!
– Ступай… – упавшим голосом говорит отец. – Для такого дня расстроил… Говей тут с вами!.. Постой… Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять… двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощенье просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.
Василь Василич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «Ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!
Я долго стою и не решаюсь – войти? Скриплю дверью. Отец, в сером халате, скучный, – я вижу его нахмуренные брови, – считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почокивают медяки и – звонко – серебро.
– Тебе чего? – спрашивает он строго. – Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники… Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!
Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.
В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты – «от угара». Плотники, сходившие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост, от Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:
– «…и вси… свя-тии… ангелы с Ним».
Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов… – и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:
– Ох, кваску бы… огурчика бы…
А Горкин, качая пальцем, читает уже строго:
– «Идите от Меня… в огонь вечный… уготованный диаволу и аггелам его!..»
А часики, в тишине, – чи-чи-чи…
Я тихо сижу и слушаю.
После унылого обеда, в общем молчании, – отец все еще расстроен, – я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь Василич тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает… А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает – ни слова.
– А за что изругали! – уныло говорит он мне, смотря на крыши. – Расчет, говорят, бери… за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки… с мальчишек… Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот… расчет! Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит…
У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! и в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили, и Василь Василича.
– Василь Василич! – слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. – Ты как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..
– Какие есть – все ваши, а чудесов тут нет, – говорит в сторону и строго Василь Василич. – Мне ваши деньги… у меня еще крест на шее!
– А ты не серчай, чучело… Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.
– А так, что вчера ломились на горы, Масленая… и задорные, не желают ждать… швыряли деньгами в кассыю, а билета не хотят… не воры мы, говорят! Ну, сбирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные… ну, пятерку пропили, может… только и всего. А я… я вашего добра… Вот у меня, вот вашего всего!.. – уже кричит Василь Василич и враз вывертывает карманы куртки.
Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь Василич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь Василичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василь Василич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь Василич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо:
– Нечего проклажаться! Эй, робята… забирай лопаты, снег убирать… лед подвалят – некуда складывать!
Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерлись снежком. И пошла ловкая работа. А Василь Василич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.
– Постишься, Вася? – посмеиваясь, говорит Горкин. – Ну-ка, покажи себя, лопаточкой-то… блинки-то повытрясем.
Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острою редькой и капустой. Начинают печально благовестить – по-мни… по-мни… – к ефимонам.
– Пойдем-ка в церкву, васильевские у нас сегодня поют, – говорит мне Горкин.
Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:
– Василь Василич… зайди-ка на минутку, братец.
Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволнованно – дрожит у него голос:
– Так и поступай, с папашеньки пример бери… не обижай никогда людей. А особливо когда о душе надо… пещи. Василь Василичу четвертной билет выдал для говенья… мне тоже четвертной, ни за что… десятникам по пятишне, а робятам по полтиннику, за снег. Так вот и обходись с людями. Наши робята хо-рошие, они це-нют…
Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест… Как это давно было! Теплый, словно весенний, ветерок… – я и теперь его слышу в сердце.
Ефимоны
Я еду к ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими: должно быть, ему приятно. Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает – от грехов, должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой – старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергий Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.
– Горкин, – спрашиваю его, – а почему стояния?
– Стоять надо, – говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы. – Потому как на Страшном суду стоишь. И бойся! Потому – их-фимоны.
«Их-фимоны»… А у нас называют – «ефимоны», а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит «филин» и «лимоны». Но это грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же «филимоны» Марьюшка говорит?
– Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны… Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние – покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние… Стой и шопчи: «Боже, очисти мя, грешного!» Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому их-фимоны!..
Таинственные слова, священные. Что-то в них… Бог будто? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины о гресех» – это я выучил в молитвах. И еще – «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви и с нами Бог. И еще – радостные слова: «чаю Воскресения мертвых»! Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «цело-мудрие» – будто звон слышится? Другие это слова, не наши: Божьи это слова.
Их-фимоны, стояние… как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а души. Там – прабабушка Устинья, которая сорок лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожаным ремешком по священной книге. Там и удивительные Мартын-плотник и маляр Прокофий, которого хоронили на Крещенье в такой мороз, что он не оттает до самого Страшного суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода, – много-много. И все мы туда преставимся, даже во всякий час! Потому и стояние, и ефимоны, и благовест печальный – помни… по-мни…
И кругом уже все – такое. Серое небо, скучное. Оно стало как будто ниже, и все притихло: и дома стали ниже и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толченые орехи, халва халвой, – совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душат? Вон, на березе за забором, так изгибает шею, будто гусак клюется.
– Горкин, а вороны преставятся на Страшном суде?
Он говорит – это неизвестно. А как же на картинке, где Страшный суд?.. Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты-рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов, со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками.
– Пожалуй что и вся тварь воскреснет… – задумчиво говорит Горкин. – А за что же судить! Она – тварь неразумная, с нее взятки гладки. А ты не думай про глупости, не такое время, не помышляй.
Не такое время, я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг – воздушные разноцветные шары! У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить.
– Хозяин выгнал за безобразие! – говорит Горкину половой. – Дни строгие, а он с Масленой все прощается, шарашник. Гости обижаются, все черным словом…
– За шары подавай …! – кричит парень ужасными словами.
– Извощики спичкой ему прожгли. Не ходи безо времени, у нас строго.
Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня.
– Сажай его «под шары», Бочкин! Будут ему шары… – кричат половые вслед.
– Пойдем уж… грехи с этим народом! – вздыхает Горкин, таща меня. – А хорошо, стро-го стало… блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем ндравится порядок. И машину на перву неделю запирает, и лампадки везде горят, афонское масло жгет, от Пантелемона. Так блюде-от!
И мне нравится, что блюдет.
Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная Горностаева открыта, но никого народу. Стоят короба снетка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с воткнутою лопаточкой, коробочки с копчушкой. Но никто ничего не покупает, до субботы. От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают-бултыхают жестянки-маслососы, – пошла работа! Стелется вязкий дух – теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.
– Постой-ка, – приостанавливается Горкин на площади, – никак, уж Базыкин гроб Жирнову-покойнику сготовил, народ-то смотрит? Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас вздымать будут. Обязательно ему…
Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее: всегда посередке гроб, и румяненький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах – неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет.
В накопившейся с крыши луже стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными, похоронными конями. Это не просто лошади, как у нас: это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно ненастоящие. Кажется мне – постукивают в них кости.
– Жирнову, что ли? – спрашивает у народа Горкин.
– Ему, покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и «дом» сготовили!
Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб, «жирновский». Снизу он – как колода, темный, на искрасна-золоченых пятках, жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках, между золочеными скобами, набиты херувимы из позлащенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны и гнутся и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки из коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь… Вкладывают шумящую перинку, – через реденький коленкор сквозится сено, – жесткую мертвую подушку, поднимают подбитую атласом крышку и глухо хлопают в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло у херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с краю и кричит Горкину:
– Гробок-то! Сам когда-а еще у меня дубок пометил, Царство ему Небесное, а нам поминки!.. Ну, с Господом.
В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки оборки… и стук пустоты в ушах. А благовест призывает – по-мни… по-мни…
– В Писании-то как верно – «человек, яко трава»… – говорит сокрушенно Горкин. – Еще утром вчера у нас с гор катался, Василь Василич из уважения сам скатывал, а вот… Рабочие его рассказывали, двои блины вчера ел да поужинал-заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался… да кулебячки, да кваску кувшинчик… Встал в четыре часа, пошел в бани попариться для поста. Левон его и парил, у нас, в дворянских… А первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел-посинел, пока цирульника привели, пиявки ставить, а уж он го-тов. Теперь уж там…
Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно и они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф.
– Уж постарайся, Сеня, «Помощника»-то, – ласково просит Горкин. – «И прославлю Его, Бог-Отца Моего» поворчи погуще.
– Ладно, поворчу… – хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. – В больницу велят ложиться, душит… Октаву теперь Батырину отдали, он уж поведет орган-то на «Господи Сил, помилуй нас». А на «Душе моя» я трону, не беспокойся. А в Благовещенье на кулебячку не забудь позвать, напомни старосте… – хрипит Ломшаков, заглатывая подкову с маком. – С прошлого года вашу кулебячку помню.
– Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам.
– А за виски?.. Ангелами воспрянут.
В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои одеты в черное. И ризы на престоле – великопостные, черное с серебром. И на великом Распятии, до «адамовой головы», – серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. Старый дьячок читает пустынно-глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощенова, Митриева – трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот – «О, Господи…». Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стукается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, и мальчишки стоят у амвона смирно, их не гоняют богаделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят! Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчие начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает, —
- По-мо-щник и По-кро-ви-тель,
- Бысть мне во спасе-ние…
- Сей мо-ой Бо-ог…
И начались ефимоны, стояние.
Я слушаю страшные слова: «увы, окаянная моя душе», «конец приближается», «скверная моя, окаянная моя… душа-блудница… во тьме остави мя, окаянного!..»
- Помилуй мя, Бо-же… поми-луй мя!..
Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о Жирнове. Может сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. «Боже, очисти мя, грешного!» Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй… что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в Чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки… «Боже, очисти мя, грешного!» Смотрю на диакона, на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе, с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов и какой для него гроб надо, когда помрет, – побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу-помышляю, – и падаю на колени в страхе.
- Душе мо-я… ду-ше-е мо-я-ааа,
- Восстани, что спи-иши,
- Ко-нец при-бли-жа…аа-ется…
Господи, приближается… Мне делается страшно. И всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываюсь – и вижу отца. Он стоит у Распятия. И мне уже не страшно: он здесь, со мной. И вдруг ужасная мысль: умрет и он!.. Все должны умереть, умрет и он. И все наши умрут, и Василь Василич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете?.. «Господи, сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а там воскресли!» – молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои – в другом. Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах в Зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают, о чае с горячими баранками… На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай… «Господи Сил»…» И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавой:
- Го-споди Си…ил,
- Поми-луй на-а…а…ас!
На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит на амвон батюшка, долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот начинает, воздыхающим голосом:
- Господи и Владыко живота моего…
Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я – ровно двенадцать раз: «Боже, очисти мя, грешного…» И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке. Я знаю, кто. Прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно.
…Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина, сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящике, где стоят в стопочках медяки, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью. И в храме тени, неслышно ходят. У Распятия теплится синяя лампада, грустная. «Он воскреснет! И все воскреснут!» – думается во мне, и горячие струйки бегут из души к глазам. – Непременно воскреснут! А это… только на время страшно…»
Дремлет моя душа, устала…
– Крестись, и пойдем… – пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. – Устал? А завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешничка куплю.
Уже совсем темно, но фонари еще не горят, – так, мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь. С пекарен гуще доносит хлебом – к теплу пойдет. В лубяные сани валят ковриги с грохотом: только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка. И Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок: на говенье одни сухарики. К лавке Базыкина и смотреть боюсь, только уголочком глаза: там яркий свет, «молнию» зажгли, должно быть. Еще кому-то?.. Да нет, не надо…
– Глянь-ко, опять мотается! – весело говорит Горкин. – Он самый, у бассейны-то!..
У сизой бассейной башни, на середине площади, стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары.
– Никак все с шарами не развяжется!.. – смеются люди.
– Это я-та не развяжусь?! – встряхиваясь, кричит парень и хватает свои шары. – Я-та?.. этого дерьма-та?! На!..
Треснуло – и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули.
– Вот и развязался! Завтра грыбами заторгую… а теперь чай к Митреву пойдем пить… шабаш!..
– Вот и очистился… ай да парень! – смеется Горкин. – Все грехи на небо полетели.
И я думаю, что парень – молодчина. Грызу еще теплый грешник, поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, – первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стукают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче…
– Нет, не галки это, – говорит, прислушиваясь, Горкин, – грачи летят. По гомону их знаю… самые грачи, грачики. Не ростепель, а весна. Теперь пошла!..
У Муравлятникова пылают печи. В проволочное окошко видно, как вываливают на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки.
– Эй, Мураша… давай-ко ты нам с ним горячих вязочку… с пылу с жару, на грош пару!
Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих.
– С Великим постом, кушайте, сударь, на здоровьице… самое наше постное угощенье – бараночки-с.
Я радостно прижимаю горячую вязочку к груди, у шеи. Пышет печеным жаром, баранками, мочалой теплой. Прикладываю щеки – жжется. Хрустят, горячие. А завтра будет чудесный день! И потом, и еще потом, много-много, – и все чудесные.
Мартовская капель
…Кап… кап-кап… кап… кап-кап-кап…
Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно, мягко – это весеннее, обещающее – кап-кап… Это не скучный дождь, как зарядит, бывало, на неделю; это веселая мартовская капель. Она вызывает солнце. Теперь уж везде капель.
Под сосенкой – кап-кап…
Под елочкой – кап-кап…
Прилетели грачи – теперь уж пойдет, пойдет. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить наметками – пескариков, налимов, – принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят: возьмется дружно – поплывет все Замоскворечье! Значит, зальет и водокачку, и бани станут… будем на плотиках кататься.
В тревожно-радостном полусне слышу я это все торопящееся – кап-кап… Радостное за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать.
…Кап-кап… кап-кап-кап… кап-кап…
Уже тараторит по железке, попрыгивает-пляшет, как крупный дождь.
Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль: взялась! Конечно, весна взялась. Протираю глаза спросонок, и меня ослепляет светом. Полог с моей кроватки сняли, когда я спал, – в доме большая стирка, великопостная, – окна без занавесок, и такой день чудесный, такой веселый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон как капель играет… – тра-та-та-та! А сегодня поедем с Горкиным за Москва-реку, в самый Город, на грибной рынок, где – все говорят – как праздник.
Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полосам, от Бога, спускаются с неба ангелы, – я знаю по картинкам. Если бы к нам спустился!
На крашеном полу и на лежанке лежат золотые окна, совсем косые и узкие, и черные на них крестики скосились. И до того прозрачны, что даже пузырики-глазочки видны, и пятнышки… и зайчики, голубой и красный! Но откуда же эти зайчики и почему так бьются? Да это совсем не зайчики, а как будто пасхальные яички, прозрачные, как дымок. Я смотрю на окно – шары! Это мои шары гуляют, вьются за форточкой, другой уже день гуляют: я их выпустил погулять на воле, чтобы пожили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру, на солнце, и солнце их делает живыми. И так чудесно! Это они играют на лежанке, как зайчики, – ну совсем как пасхальные яички, только очень большие и живые, чудесные. Воздушные яички, – я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху. Будто они спустились с неба, как ангелы.
А блеска все больше, больше. Золотой искрой блестит отдушник. Угол нянина сундука, обитого новой жестью с пупырчатыми разводами, снежным огнем горит. А графин на лежанке светится разноцветными огнями. А милые обои… Прыгают журавли и лисы, уже веселые, потому что весны дождались, – это какие подружились, даже покумились у кого-то на родинах, – самые веселые обои. И пушечка моя как золотая… и сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто, вьются, как золотые нитки. Весна, весна!..
И шум за окном, особенный.
Там галдят, словно ломают что-то. Крики на лошадей и грохот… Не набивают ли погреба? Глухо доходит через стекла голос Василь Василича, будто кричит в подушку, но стекла все-таки дребезжат:
– Эй, смотри у меня, робята… к обеду чтобы!..
Слышен и голос Горкина, как комарик:
– Снежком-то, снежком… поддолбливай!
Да, набивают погреба, спешат. Лед все вчера возили.
Я перебегаю, босой, к окошку, прыгаю на холодный стул, и меня обливает блеском зелено-голубого льда. Горы его повсюду, до крыш сараев, до самого колодца, – весь двор завален. И сизые голубки на нем: им и деваться некуда! В тени он синий и снеговой, свинцовый. А в солнце – зеленый, яркий. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры. И все подвозят, все новые дровянки… Возчики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, санями, орут ужасно, ругаются:
– Черти, не напирай!.. Швыряй, не засти!..
Летят голубые глыбы, стукаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшибаются на лету и разлетаются в хрустали и пыль.
– Порожняки, отъезжай… чер-ти!.. – кричит Василь Василич, попрыгивая по глыбам. – Стой… который?.. Сорок се-мой, давай!..
Отъезжают на задний двор, вытирая лицо и шею шапкой; такая горячая работа, спешка: весна накрыла. Ишь как спешит капель – барабанит, как ливень дробный. А Василь Василич совсем по-летнему – в розовой рубахе и жилетке, без картуза. Прыгает с карандашиком по глыбам, возки считает. Носятся над ним голуби, испуганные гамом, взлетают на сараи и опять опускаются на лед: на сараях стоят с лопатами и швыряют-швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко, над Барминихиным садом с бузиною, и так припекает через стекла, как будто лето. Я открываю форточку. Ах, весна!.. Такая теплынь и свежесть! Пахнет теплом и снегом, весенним душистым снегом. Остреньким холодочком веет с ледяных гор. Слышу – рекою пахнет, живой рекою!..
В одном пиджаке, без шапки, вскакивает на лед отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться: машет смешно руками. Расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеется что-то, шутит с Василь Василичем и вдруг – толкает. Василь Василич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочут, играют новенькими лопатами – летит и пушится снег, залепляет Василь Василича. Он с трудом выбирается, весь белый, отряхивается, грозится, хватает комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Проходит Горкин, в поддевочке и шапке, что-то грозит отцу: одеться велит, должно быть. Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смехе. Я хочу крикнуть в форточку… но сейчас загрозит отец, а смотреть в форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все, от капель, качаются… – и хочется покачаться с ними. Почки на тополе набухли. Слышу, отец кричит:
– Ну, будет баловаться… Поживей-поживей, ребята… к обеду чтоб все погреба набить, поднос будет!
С крыши ему кричат:
– Нам не под нос, а в самый бы роток попало! Ну-ка, робят, уважим хозяину, для весны!
- …И мы хо-зяину ува-жим,
- Ро-бо-теночкой до-ка-жем…
Подхватывают знакомое, которое я люблю: это поют, когда забивают сваи. Но отец велит замолчать:
– Ну, не время теперь, ребята… пост!
– Огурчики да капустку охочи трескать, и без песни поспеете! – поокивает Василь Василич.
Кипит работа: грохаются в лотки ледяные глыбы, скатываются корзины снега, позвякивает ледянка-щебень – на крепкую засыпку. Глубокие погреба глотают и глотают. По обталому грязному двору тянется белая дорога от салазок, ярко белеют комья.
– Гляди… там!.. – кричат где-то над головой.
Я вижу, как вскакивает на глыбы Горкин, грозясь кому-то, – и за окном темнеет в шипящем шорохе. Серой сплошной завесой валятся снеговые комья, и острая снеговая пыль, занесенная ветром в форточку, обдает мне лицо и шею. Сбрасывают снег с дома! Сыплется густо-густо, будто пришла зима. Я соскакиваю с окна и долго смотрю, любуюсь: совсем метель, даже не видно солнца, – такая радость!
…К обеду – ни глыбы льда, лишь сыпучие вороха осколков, скользкие хрустали в снежку. Все погреба набиты. Молодцам поднесли по шкалику, и, разогревшиеся с работы, мокрые и от снега, и от пота, похрустывают они на воле крепкими, со льду, огурцами, белыми кругами редьки, залитой конопляным маслом, заедают ломтями хлеба, – словно снежком хрустят. Хоть и Великий пост, но и Горкин не говорит ни слова: так уж заведено, крепче ледок скипится. Чавкают в тишине на бревнах, на солнышке, слушают, как идет капель. А она уже не идет, а льется. В самый-то раз поспели: поест снежок.
– Го-ры какие были… а все упрятали!
Спрятались в погреба все горы. Ну, будто в сказке: Василиса Премудрая сказала.
Ржут по конюшням лошади, бьют по стойлам. Это всегда – весной. Вон уж и коновал заходит, цыган Задорный, страшный с своею сумкой, – кровь лошадям бросать. Ведет его кучер за конюшни, бегут поглядеть рабочие. Меня не пускает Горкин: не годится на кровь глядеть.
По завеянному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают просыпанный лошадьми овес. С крыш уже прямо льет, и на заднем дворе, у подтаявших штабелей сосновых, начинает копиться лужа – верный зачин весны. Ждут ее не дождутся вышедшие на волю утки: стоят и лущат носами жидкий с воды снежок, часами стоят на лапке. А невидные ручейки сочатся. Смотрю и я: скоро на плотике кататься. Стоит и Василь Василич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину:
– Ругаться опять будет, а куда ее, шельму, денешь! Совсюду в ее текет, так уж устроилось. И на самом-то на ходу… передки вязнут, досок не вывезешь. Опять, лешая, набирается!..
– И не трожь ее лучше, Вася… – советует и Горкин. – Спокон веку она живет. Так уж тут ей положено. Кто ее знает… может, так, ко двору прилажена!.. И глядеть привычно, и уточкам разгулка…
Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки.
– И до нас была. Господь с ней… о-ставь.
А Василь Василич все думает. Ходит и крякает, выдумать ничего не может: совсюду стек! Подкрякивают ему и утки: так-так… так-так… Пахнет от них весной, весеннею теплой кислотцою… Потягивает из-под навесов дегтем: мажут там оси и колеса, готовят выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острою кислотцою пахнет, и от сараев старых, и от лужи, – от спокойного старого двора.
– Была как – пущай и будет так! – решает Василь Василич. – Так и скажу хозяину.
– Понятно, так и скажи: пущай ее остается так.
Подкрякивают и утки: радостным – так-так… так-так… И капельки с сараев радостно тараторят наперебой – кап-кап-кап… И во всем, что ни вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне: так-так. И безмятежно отстукивает сердце: так-так…
Постный рынок
Велено запрягать Кривую, едем на Постный рынок.
Кривую запрягают редко, она уже «на спокое», и ее очень уважают. Кучер Антипушка, которого тоже уважают и который теперь – «только для хлебушка», рассказывал мне, как уважают Кривую лошади: «Ведешь мимо ее денника, всегда посуются-фыркнут! поклончик скажут… а расшумятся если, она стукнет ногой – тише, мол! – и все и затихнут». Антип все знает. У него борода как у святого, а на глазу бельмо: смотрит все на кого-то, а никого не видно.
Кривая очень стара. Возила еще прабабушку Устинью, а теперь только нас катает, или по особенному делу – на Болото за яблочками на Спаса, или по первопутке – снежком порадовать, или – на Постный рынок. Антип не соглашается отпускать, говорит – тяжела дорога, подседы еще набьет от грязи, да чего она там не видала… Но Горкин уговаривает, что для хорошего дела надо, и всякий уж год ездит на Постный рынок, приладилась и умеет с народом обходиться, а Чалого закладать нельзя – закидываться начнет от гомона, с ним беда. Кривую выводят под попонкой, густо мажут копытца и надевают суконные ногавки. Закладывают в лубяные санки и дугу выбирают тонкую и легкую сбрую, на фланельке. Кривая стоит и дремлет. Она широкая, темно-гнедая с проседью; по раздутому брюху – толстые, как веревки, жилы. Горкин дает ей мякиша с горкой соли, а то не сдвинется, прабабушка так набаловала. Антип сам выводит за ворота и ставит головой так, куда нам ехать. Мы сидим с Горкиным, как в гнезде, на сене. Отец кричит в форточку: «Там его Антон на руки возьмет, встретит… а то еще задавят!» Меня, конечно. Весело провожают, кричат: «Теперь, рысаки, держись!» А Антип все не отпускает:
– Ты, Михайла Панкратыч, уж не неволь ее, она знает. Где пристанет – уж не неволь, оглядится – сама пойдет, не неволь уж. Ну, час вам добрый.
Едем, потукивая на зарубках, – трах-трах. Кривая идет ходко, даже хвостом играет. Хвост у ней реденький, к крупу пушится звездочкой. Горкин меня учил: «И в зубы не гляди, а гляди в хвост: коли репица ежом – не вытянет гужом, за два-десять годков клади!» Лавочники кричат: «Станция Петушки!» Как раз Кривая и останавливается, у самого Митриева трактира: уж так привыкла. Оглядится – сама пойдет, нельзя неволить. Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы-доски. Дворники, в пиджаках, тукают в лед ломами. Скидывают с крыш снег. Ползут сияющие возки со льдом. Тихая Якиманка снежком белеет. Кривая идет ходчей. Горкин доволен – денек-то Господь послал! – и припевает даже:
- Едет Ваня из Рязани,
- Полтораста рублей сани,
- Семисотельный конь,
- С позолоченной дугой!
На Кривую подмигивает, смеется.
- Кабы мне таку дугу,
- Да купить-то невмогу,
- Кину-брошу вожжи врозь —
- Э-коя досада!
У Канавы опять «станция Петушки»: Антип махорочку покупал, бывало. Потом у Николая Чудотворца, у Каменного моста: прабабушка свечку ставила. На Москва-реке лед берут, видно лошадок, саночки и зеленые куски льда – будто постный лимонный сахар. Сидят вороны на сахаре, ходят у полыньи, полощутся. Налево, с моста, обставленный лесами, еще бескрестный, – великий храм: купол Христа Спасителя сумрачно золотится в щели; скоро его раскроют.
– Стропила наши, под кумполом-то, – говорит к храму Горкин, – нашей работки ту-ут!.. Государю Александре Миколаичу, дай ему Бог поцарствовать, генерал-губернатор папашеньку приставлял, со всей ортелью! Я те расскажу потом, чего наш Мартын-плотник уделал, себя государю доказал… до самой до смерти, покойник, помнил. Во всех мы дворцах работали и по Кремлю. Гляди, Кремль-то наш, нигде такого нет. Все соборы собрались, Святители-Чудотворцы… Спасна-Бору, Иван Великий, Золота Решетка… А башни-то каки, с орлами! И татары жгли, и поляки жгли, и француз жег, а наш Кремль все стоит. И до веку будет. Крестись.
На середине моста Кривая опять становится.
– Это прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на Кремль глядела. Сколько годов, а Кривая все помнит! Поглядим и мы. Высота-то кака, всю оттоль Москву видать. Я те на Пасхе свожу, дам все понятие… все соборы покажу, и Честное Древо, и Христов Гвоздь, все будешь разуметь. И на колокольню свожу, и Царя-Колокола покажу, и Крест Харсунской, исхрустальной, сам Царь-град прислал. Самое наше святое место, святыня самая.
Весь Кремль – золотисто-розовый, над снежной Москва-рекой. Кажется мне, что там – Святое и нет никого людей. Стены с башнями – чтобы не смели войти враги. Святые сидят в Соборах. И спят Цари. И потому так тихо.
Окна розового дворца сияют. Белый собор сияет. Золотые кресты сияют – священным светом. Все – в золотистом воздухе, в дымном-голубоватом свете: будто кадят там ладаном.
Что во мне бьется так, наплывает в глазах туманом? Это – мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы… и дымные облачка за ними, и эта моя река, и черные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов… – были во мне всегда. И все я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром – я знаю. И щели в стенах – знаю. Я глядел из-за стен… когда?.. И дым пожаров, и крики, и набат… – все помню! Бунты, и топоры, и плахи, и молебны… – все мнится былью, моей былью… – будто во сне забытом.
Мы смотрим с моста. И Кривая смотрит – или дремлет? Я слышу окрик: «Ай примерзли?» – узнаю Чалого, новые наши сани и молодого кучера Гаврилу. Обогнали нас. И вон уже где, под самым Кремлем несутся, по ухабам! Мне стыдно, что мы примерзли. Да что же, Горкин?.. Будочник кричит: «Чего заснули?» – знакомый Горкину. Он старый, добрый. Спрашивает-шутит:
– Годков сто будет? Где вы такую раскопали, старей Москва-реки?
Горкин просит:
– И не маши лучше, а то и до вечера не стронет!
Подходят люди: чего случилось? Смеются: «Помирать было собралась, да бутошника боится!» Кривую гладят, подпирают санки, но она только головой мотает – не желает. Говорят – «за польцимейстером надо посылать!».
– Ладно, смейся… – начинает сердиться Горкин, – она поумней тебя, себя знает.
Кривая трогается. Смеются: «Гляди, воскресла!..»
– Ладно, смейся. Зато за ней никакой заботы… поставим, где хотим, уйдем, никто и не угонит. А гляди – домой по-мчит… ветру не угнаться!
Едем под Кремлем, крепкой еще дорогой, зимней. Зубцы и щели… и выбоины стен говорят мне о давнем-давнем. Это не кирпичи, а древний камень, и на нем кровь, святая. От стен и посейчас пожаром пахнет. Ходили по ним святители, Москву хранили. Старые цари в Архангельском соборе почивают, в подгробницах. Писано в старых книгах – «воздвижется Крест Харсунский, из Кремля выйдет в пламени», – рассказывал мне Горкин.
– А это – башня Тайницкая, с подкопом. С нее пушки палят в Крещенье, когда на ердань ходят.
Народу гуще. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом. Везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль уже позади, уже чернеет торгом, доносится гул. Черно – до Устьинского моста, дальше.
Горкин ставит Кривую, заматывает на тумбу вожжи. Стоят рядами лошадки, мотают торбами. Пахнет сенцом на солнышке, стоянкой. От голубков вся улица – живая, голубая. С казенных домов слетаются, сидят на санках. Под санками в канавке плывут овсинки, наерзывают льдышки. На припеке яснеют камушки. Нас уже поджидает Антон Кудрявый, совсем великан, в белом широком полушубке.
– На руки тебя приму, а то задавят, – говорит Антон, садясь на корточки, – папашенька распорядился. Легкой же ты, как муравейчик! Возьмись за шею… Лучше всех увидишь.
Я теперь выше торга, кружится подо мной народ. Пахнет от Антона полушубком, баней и… пробками. Он напирает, и все дают дорогу; за нами Горкин. Кричат: «Ты, махонький, потише! колокольне деверь!» А Антон шагает – эй, подайся!
Какой же великий торг!
Широкие плетушки на санях, – все клюква, клюква, все красное. Ссыпают в щепные короба и в ведра, тащат на головах.
– Самопервеющая клюква! Архангельская клюкыва!..
– Клю-ква… – говорит Антон, – а по-нашему и вовсе журавиха.
И синяя морошка, и черника – на постные пироги и кисели. А вон брусника, в ней яблочки. Сколько же брусники!
– Вот он, горох, гляди… хоро-ший горох, мытый.
Розовый, желтый, в санях, мешками. Горошники – народ веселый, свои, ростовцы. У Горкина тут знакомцы. «А, наше вашим… за пуколкой?» – «Пост, надоть повеселить робят-то… Серячок почем положишь?» – «Почем почемкую – потом и потомкаешь!» – «Что больно несговорчив, боготеешь?» Горкин прикидывает в горсти, кидает в рот. «Ссыпай три меры». Белые мешки, с зеленым, – для ветчины, на Пасху. «В Англию торгуем… с тебя дешевше».
А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый и вонький дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят ее в ведерки и в ушаты, гребут горстями, похрустывают – не горчит ли? Мы пробуем капустку, хоть нам и не надо. Огородник с Крымка сует мне беленькую кочерыжку, зимницу, – «как сахар!». Откусишь – щелкнет.
А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут. Вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом смородинным, с дубовым, с хренком. Антон дает мне тонкий, крепкий, с пупырками; хрустит мне в ухо, дышит огурцом.
– Весело у нас, по-стом-то? а? Как ярмонка. Значит, чтобы не грустили. Так, что ль?.. – жмет он меня под ножкой.
А вот вороха морковки – на пироги с лучком, и лук, и репа, и свекла, кроваво-сахарная, как арбуз. Кадки соленого арбуза, под капусткой поблескивает зеленой плешкой.
– Ре-дька-то, гляди, Панкратыч… чисто боровки! Хлебца с такой у-мнешь!
– И две умнешь, – смеется Горкин, забирая редьки.
А вон – соленье: антоновка, морошка, крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в кадках… Квас всякий – хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний – с имбирем…
– Сбитню кому, горячего сби-тню, угощу?..
– А сбитню хочешь? А, пропьем с тобой семитку. Ну-ка, нацеди.
Пьем сбитень, обжигает.
– По-стные блинки, с лучком! Грещ-щневые-ллуковые блинки!
Дымятся луком на дощечках, в стопках.
– Великопостные самые… сах-харные пышки, пышки!..
– Гре-шники-черепенники горря-чи. Горря-чи грешнички!..
Противни киселей – ломоть копейка. Трещат баранки. Сайки, баранки, сушки… калужские, боровские, жиздринские, – сахарные, розовые, горчичные, с анисом – с тмином, с сольцой и маком… переславские бублики, витушки, подковки, «жавороночки»… хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный…
Везде – баранка. Высоко, в бунтах. Манит с шестов на солнце, висит подборами, гроздями. Роются голуби в баранках, выклевывают серединки, склевывают мачок. Мы видим нашего Мурашу, борода в лопату, в мучной поддевке. На шее ожерелка из баранок. Высоко, в баранках, сидит его сынишка, ногой болтает.
– Во, пост-то!.. – весело кричит Мураша. – Пошла бараночка, семой возок гоню!
– Сби-тню, с бараночками… сбитню, угощу кого…
Ходят в хомутах-баранках, пощелкивают сушкой, потрескивают вязки. Пахнет тепло мочалой.
– Ешь, Москва, не жалко!..
А вот и медовый ряд. Пахнет церковно, воском. Малиновый, золотистый, – показывает Горкин, – этот называется печатный, энтот – стеклый, спускной… а который темный – с гречишки, а то господский светлый, липнячок-подсед. Липовки, корыта, кадки. Мы пробуем от всех сортов. На бороде Антона липко, с усов стекает, губы у меня залипли. Будочник гребет баранкой, диакон – сайкой. Пробуй, не жалко! Пахнет от Антона медом, огурцом.
Черпают черпаками, с восковиной, проливают на грязь, на шубы. А вот – варенье. А там – стопками ледяных тарелок – великопостный сахар, похожий на лед зеленый, и розовый, и красный, и лимонный. А вон чернослив моченый, россыпи шепталы, изюмов, и мушмала, и винная ягода на вязках, и бурачки абрикоса с листиком, сахарная кунжутка, обсахаренная малинка и рябинка, синий изюм кувшинный, самонастояще постный, бруски помадки с елочками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белевская пастила… и пряники, пряники – нет конца.
– На́ тебе постную овечку, – сует мне беленький пряник Горкин.
А вот и масло. На солнце бутыли – золотые: маковое, горчишное, орешное, подсолнечное… Всхлипывают насосы, сопят-бултыхают в бочках.
Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой, над темными садами, – солнечный туманец тонкий, в нем колокольни-тени, с крестами в искрах, – милое мое Замоскворечье.
– А вот лесная наша говядинка, грыб пошел!
Пахнет соленым, крепким. Как знамя великого торга постного, на высоких шестах подвешены вязки сушеного белого гриба. Проходим в гомоне.
– Лопаснинские, белей снегу, чище хрусталю! Грыбной елараш, винегретные… Похлебный грыб сборный, ест протопоп соборный! Рыжики соленые-смоленые, монастырские, закусочные… Боровички можайские! Архиерейские грузди, нет сопливей!.. Лопаснинские отборные, в медовом уксусу, дамская прихоть, с мушиную головку, на зуб неловко, мельчей мелких!..
Горы гриба сушеного, всех сортов. Стоят водопойные корыта, плавает белый гриб, темный и красношляпный, в пятак и в блюдечко. Висят на жердях стенами. Шатаются парни, завешанные вязанками, пошумливают грибами, хлопают по доскам до звона: какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины…
– Теперь до Устьинского пойдет – грыб и грыб! Грыбами весь свет завалим. Домой пора.
Кривая идет ходчей. Солнце плывет к закату, снег на реке синее, холоднее.
– Благовестят, к стоянию торопиться надо, – прислушивается Горкин, сдерживая Кривую, – в Кремлю ударили?..
Я слышу благовест, слабый, постный.
– Под горкой, у Константина-Елены. Колоколишко у них ста-ренький… ишь, как плачет!
Слышится мне призывно – по-мни… по-мни… и жалуется как будто.
Стоим на мосту, Кривая опять застряла. От Кремля благовест, вперебой, – другие колокола вступают. И с розоватой церковки, с мелкими главками на тонких шейках, у храма Христа Спасителя, и по реке, подальше, где Малюта Скуратов жил, от Замоскворечья, – благовест: все зовут. Я оглядываюсь на Кремль: золотится Иван Великий, внизу темнее, и глухой – не его ли – колокол томительно позывает – помни!..
Кривая идет ровным, надежным ходом, и звоны плывут над нами.
Помню.
Благовещенье
А какой-то завтра денечек будет?.. Красный денечек будет – такой и на Пасху будет. Смотрю на небо – ни звездочки не видно.
Мы идем от всенощной, и Горкин все напевает любимую молитвочку – «…благодатная Мария, Господь с Тобо-ю…». Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться, потому что если бы не было Благовещенья, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок. Завтра и поста нет: уже был «перелом поста – щука ходит без хвоста». Спрашиваю у Горкина: «А почему без хвоста?»
– А лед хвостом разбивала – и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва-реке на два аршина прибыло, вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра я-сный будет! Это ты не гляди, что замолаживает… это снега дышут-тают, а ветерок-то на ясную погоду.
Горкин всегда узнает, по дощечке: дощечка плотнику всякую погоду скажет. Постукает горбушкой пальца, звонко если – хорошая погода. Сегодня стукал: поет дощечка! Благовещенье… и каждый должен обрадовать кого-то, а то праздник не в праздник будет. Кого ж обрадовать? А простит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис живет на реке, на портомойне, собирает копейки в сумку, – и эти копейки пропил. Сколько дней сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по-солдатски: «Здравия желаю!» А отец все не отвечает, и мне за него стыдно. Денис солдат, какой-то «гвардеец», с серебряной серьгой в ухе. Сегодня что-то шептался с Горкиным и моргал. Горкин сказал: «Попробуй, ладно… живой рыбки-то не забудь!» Денис знаменитый рыболов, приносит всегда лещей, налимов, – только как же теперь достать?
– Завтра с тобой и голубков, может, погоняем… первый им выгон сделаем. Завтра и голубиный праздничек, Дух-Свят в голубке сошел. То на Крещенье, а то на Благовещенье. Богородица голубков в церковь носила, по Ее так и повелось.
И ни одной-то не видно звездочки!
Отец зовет Горкина в кабинет. Тут Василь Василич и водяной десятник. Говорят о воде: большая вода, беречься надо.
– По-нятно, надо, о-пасливо… – поокивает Горкин, трясет бородкой. – Нонче будет из вод вода, кока весна-то! Под Ильинским барочки наши с матерьяль-цем, с балочками. Упаси Бог, льдом по-режет… да под Роздорами как разгонит на заверти да в поленовские, с кирпичом, долбанет… – тогда и краснохолмские наши, и под Симоновым, – все по-бьет-покорежит!..
Интересно, до страху, слушать.
– В ночь чтобы якорей добавить, дать депешу ильинскому старшине, он на воду пошлет, и якоря у него найдутся… – озабоченно говорит отец. – Самому бы надо скакать, да праздник такой, Благовещенье… Как, Василь Василич, скажешь? Не попридержит?..
– Сорвать – ране трех ден не должно бы никак сорвать, глядя по воде. Будь-п-койны-с, морозцем прихватит ночью, по-сдержит-с, пообождет для праздника. Уж отдохните. Как говорится, завтра птица гнезда не вьет, красна девка косы не плетет! Наказал Павлуше-десятнику там, в случае угрожать станет, – скакал чтобы во всю мочь, днем ли, ночью, чтобы нас вовремя упредил. А мы тут переймем тогда, с мостов забросными якорьками схватим… нам не впервой-с.
– Не должно бы сорвать-с… – говорит и водяной десятник, поглядывая на Василь Василича. – Канаты свежие, причалы крепкие…
Горкин задумчив что-то, седенькую бородку перебирает-тянет. Отец спрашивает его: а? как?..
– Снега большие. Будет напор – со-рвет. Барочки наши свежие… коль на бык у Крымского не потрафят – тогда заметными якорьками можно поперенять, ежели как задастся. Силу надо страшенную, в разгоне… Без сноровки никакие канаты не удержат, порвет, как гнилую нитку! Надо ее до мосту захватить, да поворот на быка, потерлась чтобы, а тут и перехватить на причал. Дениса бы надо, ловчей его нет… на воду шибко дерзкий.
– Дениса-то бы на что лучше! – говорит Василь Василич и водяной десятник. – Он на дощанике подойдет сбочку, с молодцами, с дороги ее пособьет в разрез воды, к бережку скотит, а тут уж мы…
– Пьяницу-вора?! Лучше я барки растеряю… матерьял на цепях, не расшвыряет… а его, сукинова сына, не допущу! – стучит кулаком отец.
– Уж как ка-ится-то, Сергей Иваныч… – пробует заступиться Горкин, – ночей не спит. Для праздника такого…
– И Богу воров не надо. Ребят со двора не отпускать. Семен на реке ночует, – тычет отец в десятника, – на всех мостах чтобы якоря и новые канаты. Причалы глубоко врыты, крепкие?..
Долго они толкуют, а отец все не замечает, что пришел я прощаться – ложиться спать. И вдруг зажурчало под потолком, словно гривеннички посыпались.
– Тсс! – погрозил отец, и все поглядели кверху.
Жавороночек запел!
В круглой высокой клетке, затянутой до половины зеленым коленкором, с голубоватым «небом», чтобы не разбил головку о прутики, неслышно проживал жавороночек. Он висел больше года и все не начинал петь. Продал его отцу знаменитый птичник Солодовкин, который ставит нам соловьев и канареек. И вот жавороночек запел, запел-зажурчал, чуть слышно.
Отец привстает и поднимает палец; лицо его сияет.
– Запел!.. А, шельма Солодовкин, не обманул! Больше года не пел.
– Да явственно как поет-с, самый наш, настоящий! – всплескивает руками Василь Василич. – Уж это прямо к благополучию. Значит, под самый под праздник, обрадовал-с. К благополучию-с.
– Под самое под Благовещенье… точно, что обрадовал. Надо бы к благополучию, – говорит Горкин и крестится.
Отец замечает, что и я здесь, и поднимает к жавороночку, но я ничего не вижу. Слышится только трепыханье да нежное-нежное журчанье, как в ручейке.
– Выиграл заклад, мошенник! На четвертной со мной побился, – весело говорит отец, – через год к весне запоет. За-пел!..
– У Солодовкина без обману, на всю Москву гремит, – радостно говорит и Горкин. – Посулился завтра секрет принесть.
– Ну, что Бог даст, а пока ступайте.
Уходят. Жавороночек умолк. Отец становится на стул, заглядывает в клетку и начинает подсвистывать. Но жавороночек, должно быть, спит.
– Слыхал, чижик? – говорит отец, теребя меня за щеку. – Соловей – это не в диковинку, а вот жавороночка заставить петь, да еще ночью… Ну, удружил, мошенник!
Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня! В передней, рядом, гремит ведерко и слышится плеск воды. «Погоди… держи его так, еще убьется…» – слышу я, говорит отец. «Носик-то ему прижмите, не захлебнулся бы…» – слышится голос Горкина. А, соловьев купают, и я торопливо одеваюсь.
Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь. Птицы у нас везде. В передней чижик, в спальной канарейки, в проходной комнате – скворчик, в спальне отца канарейка и черный дроздик, в зале два соловья, в кабинете жавороночек, и даже в кухне у Марьюшки живет на покое, весь лысый, чижик, который пищит – «чулки-чулки-паголенки», когда застучат посудой. В чуланах у нас множество всяких клеток с костяными шишечками, от прежних птиц. Отец любит возиться с птичками и зажигать лампадки, когда он дома.
Я выхожу в переднюю. Отец еще не одет, в рубашке, – так он мне еще больше нравится. Засучив рукава на белых руках с синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, зажимает соловью носик и окунает три раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит как огорошенный. Мы смеемся. Потом отец запускает руку в стеклянную банку от варенья, где шустро бегают черные тараканы и со стенок срываются на спинки, вылавливает – не боится – и всовывает в прутья клетки. Соловей будто и не видит, таракан водит усиками, и… тюк! – таракана нет. Но я лучше люблю смотреть, как бегают тараканы в банке. С пузика они буренькие и в складочках, а сверху черные, как сапог, и с блеском. На кончиках у них что-то белое, будто сальце, и сами они ужасно жирные. Пахнут как будто ваксой или сухим горошком. У нас их много, к прибыли – говорят. Проснешься ночью, и видно при лампадке – ползает чернослив как будто. Ловят их в таз на хлеб, а старая Домнушка жалеет. Увидит – и скажет ласково, как цыпляткам: «Ну, ну… шши!» И они тихо уползают.
Соловьев выкупали и накормили. Насыпали яичек муравьиных, дали по таракашке скворцу и дроздику, и Горкин вытряхивает из банки в форточку: свежие приползут. И вот я вижу – по лестнице подымается Денис, из кухни. Отец слушает, как трещит скворец, видит Дениса и поднимает зачем-то руку. А Денис идет и идет, доходит – и ставит у ног ведро.
– Имею честь поздравить с праздником! – кричит он по-солдатски, храбро. – Живой рыбки принес, налим отборный, подлещики, ерши, пескарье, ельцы… всю ночь накрывал наметкой, самая первосортная для ухи, по водополью. Прикажете на кухню?
Отец не находит слова, потом кричит, что Денис мошенник, потом запускает руку в ведро с ледышками и вытягивает черного налима. Налим вьется, словно хвостом виляет, синеватое его брюхо лоснится.
– Фунтика на полтора налимчик, за редкость накрыть такого… – дивится Горкин и сам запускает руку. – Да каки под-лещики-то, гляди ты, и рака захватил!..
– Цельная тройка впуталась, таких в трактире не подадут! – говорит Денис. – На дощанике между льду все ползал, где потише. И еще там ведерко, с белью больше, есть и налимчишки на подвар, щуренки, голавлишки…
Лицо у Дениса вздутое, глаза красные, – видно, всю ночь ловил.
– Ладно, снеси… – говорит отец, ерзая по привычке у кармашка, а жилеточного кармашка нет. – А за то, помни, вычту! Выдай ему, Панкратыч, на чай целковый. Ну, марш, лешая голова, мо-шенник! Постой, как с водой?
– Идет льдинка, а главного не видать, можайского, но только понос большой. В прибыли шибко, за ночь вершков осьмнадцать. А так весело, ничего. Теперь не беспокойтесь, уж доглядим.
– Смотри у меня, сегодня не настарайся! – грозит отец.
– Рад стараться, лишь бы не… надорваться! – вскрикивает Денис и словно проваливается в кухню.
А я дергаю Горкина и шепчу: «Это ты сказал, я слышал, про рыбку! Тебя Бог в рай возьмет!» Он меня тоже дергает, чтобы я не кричал так громко, а сам смеется. И отец смеется. А налим – прыг из оставленного ведра и запрыгал по лестнице, – держи его!
Мы идем от обедни. Горкин идет важно, осторожно: медаль у него на шее, из Синода! Сегодня пришла с бумагой, и батюшка преподнес, при всем приходе, – «за доброусердие при ктиторе». Горкин растрогался, поцеловал обе руки у батюшки и с отцом крепко расцеловался, и с многими. Стоял за свечным ящиком и тыкал в глаза платочком. Отец смеется: «И в ошейнике ходит, а не лает!» Медаль серебряная, «в три пуда». Третья уже медаль, а две – «за хоругви присланы». Но эта – дороже всех: «за доброусердие ко Храму Божию». Лавочники завидуют, разглядывают медаль. Горкин показывает охотно, осторожно, и все целует, как показать. Ему говорят: «Скоро и почетное тебе гражданство выйдет!» А он посмеивается: «Вот почетное-то, оно».
У лавки стоит низенький Трифоныч, в сереньком армячке, седой. Я вижу одним глазком: прячет он что-то сзади. Я знаю что: сейчас поднесет мне кругленькую коробочку из жести, фруктовое монпансье «ландрин». Я даже слышу – новенькой жестью пахнет и даже краской. И почему-то стыдно идти к нему. А он все манит меня, присаживается на корточки и говорит так часто:
– Имею честь поздравить с высокорадостным днем Благовещения, и пожалуйте пальчик, – он цепляет мизинчик за мизинчик, подергает и всегда что-нибудь смешное скажет: «От Трифоныча Юрцова, господина Скворцова, ото всего сердца, зато без перца…» – и сунет в руку коробочку.
А во дворе сидит на крылечке Солодовкин с вязанкой клеток под черным коленкором. Он в отрепанном пальтеце, кажется – очень бедный. Но говорит, как важный, и здоровается с отцом за руку.
– Поздравь Горку нашу, – говорит отец, – дали ему медаль в три пуда!
Солодовкин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только не возгордился бы», – говорит.
– У моих соловьев и золотые имеются, а нос задирают, только когда поют. Принес тебе, Сергей Иваныч, тенора-певца Усатова, из Большого театра прямо. Слыхал, ты его у Егорова в Охотном облюбовал. Сделаем ему лепетицию.
– Идем чай пить с постными пирогами, – говорит отец. – А принес мелочи… записку тебе писал?
Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку.
– Бери в руку. Держи – не мни… – говорит он строго. – Погоди, а знаешь стих – «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда»? Так, молодец. А – «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей»? Надо обязательно знать, как можно! Теперь сам будешь, на практике. В небо гляди, как она запоет, улетая. Пускай!..
Я до того рад, что даже не вижу птичку – серенькое и тепленькое у меня в руках. Я разжимаю пальцы и слышу – пырхх… но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похожа. Я даже ее целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот она упорхнула вкось, вымахнула к сараю, села… – и нет ее! Мне дают и еще, еще. Это такая радость! Пускают и отец, и Горкин. А Солодовкин все еще достает под коленкором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить. В сторонке Денис покуривает трубку и сплевывает в лужу. Отец зовет: «Иди, садовая голова!» Денис подскакивает, берет птичку, как камушек, и запускает в небо, совсем необыкновенно. Въезжает наша новая пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. Проходит Василь Василич, очень парадный, в сияющих сапогах – в калошах, грызет подсолнушки. Достает серебряный гривенник и дает Солодовкину: «Ну-ка, продай для воли!» Солодовкин швыряет гривенник, говорит: «Для общего удовольствия пускай!» Василь Василич по-своему пускает – из пригоршни.
– Все. Одни теперь тенора остались, – говорит Солодовкин, – пойдем к тебе чай пить с пирогами. Господина Усатова посмотрим.
Какого «господина Усатова»? Отец говорит, что есть такой в театре певец, Усатов, как соловей. Кричат на крыше. Это Горкин. Он машет шестиком с тряпкой и кричит – шиш!.. шиш!.. Гоняет голубков, я знаю. С осени не гонял. Мы останавливаемся и смотрим. Белая стая забирает выше, делает круги шире… вертится турманок. Это чистяки Горкина, его «слабость». Где-то он их меняет, прикупает и в свободное время любит возиться на чердаке, где голубятня. Часто зовет меня, – как праздник! У него есть «монашек», «галочка», «шилохвостый», «козырные», «дутики», «путы-ноги», «турманок», «паленый», «бронзовые», «трубачи» – всего и не упомнишь, но он хорошо всех знает. Сегодня радостный день, и он выпускает голубков – «по воле». Мы глядим или, пожалуй, слышим, как «Галочка-то забирает», как «турманок винтится». От стаи – белый, снежистый блеск, когда она начинает «накрываться» или «идти вертушкой». Нам объясняет Солодовкин. Он кричит Горкину: «Галочку подопри, а то накроют!» Горкин кричит пронзительно, прыгает по крыше, как по земле. Отец удерживает: «Старик, сорвешься!» Я вижу и Василь Василича на крыше, и Дениса, и кучера Гаврилу, который бросил распрягать лошадь и ползет по пожарной лестнице. Кричат: «С Конной пустили стаю, пушкинские-мясниковы накроют Галочку!» «И с Якиманки выпущены, Оконишников сам взялся, держись, Горкин!» Горкин едва уж машет. Василь Василич хватает у него гонялку и так наяривает, что стая опять взмывает, забирает над Галочкой, турманок валится на нее, «головку ей крутит лихо», и Галочка опять в стае – «освоилась». Мясникова стая пролетает на стороне – «утерлась»! Горкин грозит кулаком куда-то, начинает вытирать лысину. Поблескивая, стайка садится ниже, завинчивая полет. Горкин, я вижу, крестится: рад, что прибилась Галочка. Все чистяки на крыше, сидят рядком. Горкин цапается за гребешки, сползает задом.
– Дурак старый… голову потерял, убьешься! – кричит отец.
– …Га…лочкаааа… – слышится мне невнятно, – …нет другой… турманишка… себя не помнит… сменяю подлеца!..
Лужи и слуховые окна пускают зайчиков: кажется, что и солнце играет с нами, веселое, как на Пасху. Такая и Пасха будет!
Пахнет рыбными пирогами с луком. Кулебяка с вязигой – называется «благовещенская», на четыре угла: с грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с судачьей икрой, под рисом, – положена к обеду, а пока – первые пироги. Звенят вперебойку канарейки, нащелкивает скворец, но соловьи что-то не распеваются, – может быть, перекормлены? И «Усатов» не хочет петь: «стыдится, пока не обвисится». Юркий и востроносый Солодовкин, похожий на синичку, – так говорит отец, – пьет чай вприкуску, с миндальным молоком и пирогами, и все говорит о соловьях. У него их за сотню, по всем трактирам первой руки, висят «на прослух» гостям и могут на всякое коленце. Наезжают из Санкт-Петербурга даже, всякие – и поставленные, и графы, и… Зовут в Санкт-Петербург к министрам, да туда надобно в сюртуке-параде… А, не стоит!
– Желают господа слушать настоящего соловья, есть и с пятнадцатью коленцами… найдем и «глухариную уркотню», по-жалуйте в Москву, к Солодовкину! А в Питере я всех охотников знаю – плень-плень, да трень-трень, да фитьюканье, а россыпи тонкой или там перещелка и не проси. Четыре медали за моих да аттестаты. А у Бакастова в Таганке висит мой полноголосый, протодьяконом его кличут… так – скажешь – с ворону будет, а ме-ленький, чисто кенарь. Охота моя, а барышей нет. А «Усатов», как Спасские часы, без пробоя. Вешайте со скворцами – не развратится. Сурьезный соловей сразу нипочем не распоется, знайте это за правило, как равно хорошая собака.
Отец говорит ему, что жавороночек-то… запел! Солодовкин делает в себя, глухо: «Ага!» – но нисколько не удивляется и крепко прикусывает сахар. Отец вынимает за проспор, подвигает к Солодовкину беленькую бумажку, но тот, не глядя, отодвигает: «Товар по цене, цена – по слову». До Николы бы не запел, деньги назад бы отдал, а жавороночка на волю выпустил, как из училища выгоняют, – только бы и всего. Потом показывает на дудочках, как поет самонастоящий жаворонок. И вот, мы слышим – звонко журчит из кабинета, будто звенят по стеклышкам. Все сидят очень тихо. Солодовкин слушает на руке, глаза у него закрыты. Канарейки мешают только…
Вечер золотистый, тихий. Небо до того чистое, зеленовато-голубое, – самое Богородичкино небо. Отец с Горкиным и Василь Василичем объезжали Москва-реку: порядок, везде – на месте. Мы только что вернулись из-под Новинского, где большой птичий рынок, купили белочку в колесе и чучелок. Вечернее солнце золотцем заливает залу, и канарейки в столовой льются на все лады. Но соловьи что-то не распелись. Светлое Благовещенье отходит. Скоро и ужинать. Отец отдыхает в кабинете, я слоняюсь у белочки, кормлю орешками. В форточку у ворот слышно, как кто-то влетает вскачь. Кричат, бегут… Кричит Горкин, как дребезжит: «Робят подымай-буди!» – «Топорики забирай!» – кричат голоса в рабочей. – Срезало все, как есь!» В зал вбегает на цыпочках Василь Василич, в красной рубахе без пояска, шипит: «Не спят папашенька?» Выбегает отец, в халате, взъерошенный, глаза навыкат, кричит небывалым голосом: «Черти!.. седлать Кавказку! всех забирай, что есть… сейчас выйду!..» Василь Василич грохает с лестницы. На дворе крик стоит. Отец кричит в форточку из кабинета: «Эй, запрягать полки, грузить еще якорей, канатов!» Из кабинета выскакивает испуганный, весь в грязи, водолив Аксен, только что прискакавший, бежит вместо коридора в залу, а за ним комья глины. «Куда тебя понесло, черта?!» – кричит выбегающий отец, хватает Аксена за ворот, и оба бегут по лестнице. На отце высокие сапоги, кургузка, круглая шапочка, револьвер и плетка. Из верхних сеней я вижу, как бежит Горкин, на бегу надевая полушубок, стоят толпою рабочие, многие босиком: поужинали только, спать собирались лечь. Отец верхом, на взбрыкивающей под ним Кавказке, отдает приказания: одни – под Симонов, с Горкиным, другие – под Краснохолмский, с Васильем Косым, третьи, самые крепыши и побойчей, пока с Денисом, под Крымский мост, а позже и он подъедет, забросные якоря метать – подтягивать. И отец проскакал за ворота.
Я понимаю, что далеко где-то срезало наши барки и теперь-то они плывут. Водолив с Ильинского проскакал пять часов, – такой-то везде разлив, чуть было не утоп под Сетунькой! – а срезало еще в обедни, и где теперь барки – неизвестно. Полный ледоход от верху, катится вода – за час по четверти. Орут: «Эй, топорики-ломики забирай, айда!» Нагружают полки канатами и якорями – и никого уже на дворе, как вымерло. Отец поскакал на Кунцево через Воробьевы горы. Денис, уводя партию, окрикнул: «Эй, по две пары чтобы рукавиц… сожгет!»
Темно, но огня не зажигают. Все сбились в детскую, все в тревоге. Сидят и шепчутся. Слышу – жавороночек опять поет, иду на цыпочках к кабинету и слушаю. Думаю о большой реке, где теперь отец, о Горкине, – под Симоновым где-то…
Едва светает, и меня пробуждают голоса. Веселые голоса в передней! Я вспоминаю вчерашнее, выбегаю в одной рубашке. Отец, бледный, покрытый грязью до самых плеч, и Горкин, тоже весь грязный и зазябший, пьют чай в передней. Василь Василич приткнулся к стене, ни на кого не похож, пьет из стакана стоя. Голова у него обвязана. У отца на руке повязка – ожгло канатом. Валит из самовара пар, валит и изо ртов, клубами: хлопают кипяток. Отец макает бараночку, Горкин потягивает с блюдца, почмокивает сладко.
– Ты чего, чиж, не спишь? – хватает меня отец и вскидывает на мокрые колени, на холодные сапоги в грязи. – Поймали барочки! Денис-молодчик на все якорьки накинул и развернул… знаешь Дениса-разбойника, солдата? И Горка наш, старина, и Василь Косой… все! Кланяйся им, да ни-же!.. По-радовали, чер… молодчики! Сколько, скажешь, давать ребятам, а?
И тормошит-тормошит меня.
– А про себя ни словечка… как овечка… – смеется Горкин. – Денис уж сказывал: «Кричит – не поймаете, лешие, всем по шеям накостыляю!» Как уж тут не поймать… Ночь, хорошо, ясная была, месячная.
– Черта за рога вытащим, только бы поддержало было! – посмеивается Василь Василич. – Не ко времени разговины, да тут уж… без закону. Ведра четыре робятам надо бы… Пя-ать?! Ну, Господь сам видал, чего было.
Отец дает мне из своего стакана, Горкин сует бараночку. Уже совсем светло, и чижик постукивает в клетке, сейчас заведет про паголенки. Горкин спит на руке, похрапывает. Отец берет его за плечи и укладывает в столовой на диване. Василь Василича уже нет. Отец потирает лоб, потягивается сладко и говорит, зевая:
– А иди-ка ты, чижик, спать?..
Пасха
Пост уже на исходе, идет весна. Прошумели скворцы над садом – слыхал их кучер, – а на Сорок Мучеников прилетели и жаворонки. Каждое утро вижу я их в столовой: глядят из сухарницы востроносые головки с изюминками в глазках, а румяные крылышки заплетены на спинке. Жалко их есть, так они хороши, и я начинаю с хвостика. Отпекли на Крестопоклонной маковые «кресты», – и вот уж опять она, огромная лужа на дворе. Бывало, отец увидит, как плаваю я по ней на двери, гоняюсь с палкой за утками, заморщится и крикнет:
– Косого сюда позвать!..
Василь Василич бежит опасливо, стреляя по луже глазом. Я знаю, о чем он думает: «Ну, ругайтесь… и в прошлом году ругались, а с ней все равно не справиться!»
– Старший прикащик ты – или… что? Опять у тебя она? Барки по ней гонять?!
– Сколько разов засыпал-с!.. – оглядывает Василь Василич лужу, словно впервые видит. – И навозом заваливал, и щебнем сколько транбовал, а ей ничего не делается! Всосет – и еще пуще станет. Из-под себя, что ли, напущает?.. Спокон веку она такая, топлая… Да оно ничего-с, к лету пообсохнет, и уткам природа есть…
Отец поглядит на лужу, махнет рукой.
Кончили возку льда. Зеленые его глыбы лежали у сараев, сияли на солнце радугой, синели к ночи. Веяло от них морозом. Ссаживая коленки, я взбирался по ним до крыши сгрызать сосульки. Ловкие молодцы, с обернутыми в мешок ногами – а то сапоги изгадишь! – скатили лед с грохотом в погреба, завалили чистым снежком из сада и прихлопнули накрепко творила.
– Похоронили ледок, шабаш! До самой весны не встанет.
Им поднесли по шкалику, они покрякали:
– Хороша-а… Крепше ледок скипится.
Прошел квартальный, велел: мостовую к Пасхе сколоть, под пыль! Тукают в лед кирками, долбят ломами – до камушка. А вот уж и первая пролетка. Бережливо пошатываясь на ледяной канавке, сияя лаком, съезжает она на мостовую. Щеголь извозчик крестится под новинку, поправляет свою поярку и бойко катит по камушкам с первым веселым стуком.
В кухне под лестницей сидит серая гусыня-злюка. Когда я пробегаю, она шипит по-змеиному и изгибает шею – хочет меня уклюнуть. Скоро Пасха! Принесли из амбара «паука», круглую щетку на шестике, – обметать потолки для Пасхи. У Егорова в магазине сняли с окна коробки и поставили карусель с яичками. Я подолгу любуюсь ими: кружатся тихо-тихо, одно за другим, как сон. На золотых колечках, на алых ленточках. Сахарные, атласные…
В булочных – белые колпачки на окнах с буковками – «X. В.». Даже и наш Воронин, у которого «крысы в квашне ночуют», и тот выставил грязную картонку: «Принимаются заказы на куличи и пасхи и греческие бабы»! Бабы?.. И почему-то греческие! Василь Василич принес целое ведро живой рыбы – пескариков, налимов, – сам наловил наметкой. Отец на реке с народом. Как-то пришел, веселый, поднял меня за плечи до соловьиной клетки и покачал.
– Ну, брат, прошла Москва-река наша. Плоты погнали!..
И покрутил за щечку.
Василь Василич стоит в кабинете на порожке. На нем сапоги в грязи. Говорит хриплым голосом, глаза заплыли.
– Будь п-койны-с, подчаливаем… к Пасхе под Симоновым будут. Сейчас прямо из…
– Из кабака? Вижу.
– Никак нет-с, из этого… из-под Звенигорода, пять ден на воде. Тридцать гонок березняку, двадцать сосны и елки, на крылах летят-с! И барки с лесом, и… А у Паленова семнадцать гонок вдрызг расколотило, вроссыпь! А при моем глазе… у меня робята природные, жиздринцы!
Отец доволен: Пасха будет спокойная. В прошлом году заутреню на реке встречали.
– С Кремлем бы не подгадить… Хватит у нас стаканчиков?
– Тыщонок десять набрал-с, доберу! Сала на заливку куплено. Лиминацию в три дни облепортуем-с. А как в приходе прикажете-с? Прихожане летось обижались, лиминации не было. На лодках народ спасали под Доргомиловом… не до лиминации!..
– Нонешнюю Пасху за две справим!
Говорят про щиты и звезды, про кубастики, шкалики, про плошки… про какие-то «смолянки» и зажигательные нитки.
– Истечение народа бу-дет!.. Приман к нашему приходу-с.
– Давай с ракетами. Возьмешь от квартального записку на дозволение. Сколько там надо… понимаешь?
– Красную ему за глаза… пожару не наделаем! – весело говорит Василь Василич. – Запущать – так уж запущать-с!
– Думаю вот что… Крест на кумполе кубастиками бы пунцовыми?..
– П-маю-с, зажгем-с. Высоконько только?.. Да для Божьего дела-с… воздаст-с! Как говорится, у Бога всего много.
– Щит на крест крепить Ганьку-маляра пошлешь… на кирпичную трубу лазил! Пьяного только не пускай, еще сорвется.
– Нипочем не сорвется, пьяный только и берется! Да он, будь-п-койны-с, себя уберегет. В кумполе лючок слуховой, под яблочком… он, стало быть, за яблочко причепится, захлестнется за шейку, подберется, ко кресту вздрочится, за крест зачепится-захлестнется, в петельке сядет – и качай! Новые веревки дам. А с вами-то мы, бывало… на Христе Спасителе у самых крестов качали, уберег Господь.
Прошла Верба. Вороха роз пасхальных, на иконы и куличи, лежат под бумагой в зале. Страстные дни. Я еще не говею, но болтаться теперь грешно, и меня сажают читать Евангелие. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду…» Я не могу понять: Авраам же мужского рода! Прочтешь страничку, с «морским жителем» поиграешь, с «Вербы», в окно засмотришься. Горкин пасочницы как будто делает! Я кричу ему в форточку, он мне машет.
На дворе самая веселая работа: сколачивают щиты и звезды, тешут планочки для – «X. В.». На приступке сарая, на солнышке, сидит в полушубке Горкин, рукава у него съежены гармоньей. Называют его – «филенщик», за чистую работу. Он уже не работает, а так, при доме. Отец любит с ним говорить и всегда при себе сажает. Горкин поправляет пасочницы. Я смотрю, как он режет кривым резачком дощечку.
– Домой помирать поеду, кто тебе резать будет? Пока жив, учись. Гляди вот, винограды сейчас пойдут…
Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград! Потом вырезает «священный крест», иродово копье и лесенку – на небо! Потом удивительную птичку, потом буковки – «X. В.». Замирая от радости, я смотрю. Старенькие у него руки, в жилках.
– Учись святому делу. Это голубок, Дух-Свят. Я тебе, погоди, заветную вырежу пасочку. Будешь Горкина поминать. И ложечку тебе вырежу… Станешь щи хлебать – глядишь, и вспомнишь.
Вот и вспомнил. И все-то они ушли…
Я несу от Евангелий страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек: он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь: погаснет! Донесу – доживу до будущего года. Старая кухарка рада, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом на погребице, в коровнике…
– Он теперь никак при хресте не может. Спаси Христос… – крестясь, говорит она и крестит корову свечкой. – Христос с тобой, матушка, не бойся… лежи себе.
Корова смотрит задумчиво и жует. Ходит и Горкин с нами. Берет у кухарки свечку и выжигает крестик над изголовьем в своей каморке. Много там крестиков, с прежних еще годов.
Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки – пришел Христос. И все – для Него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни – страстные. Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями – и ничего, потому что везде Христос.
У Воронина на погребице мнут в широкой кадушке творог. Толстый Воронин и пекаря, засучив руки, тычут красными кулаками в творог, сыплют в него изюму и сахарку и проворно вминают в пасочницы. Дают попробовать мне на пальце: ну, как? Кисло, но я из вежливости хвалю. У нас в столовой толкут миндаль, по всему дому слышно. Я помогаю тереть творог на решетке. Золотистые червячки падают на блюдо – совсем живые! Протирают все, в пять решет: пасох нам надо много. Для нас – самая настоящая, пахнет Пасхой. Потом – для гостей, парадная, еще «маленькая» пасха, две людям, и еще – бедным родственникам. Для народа, человек на двести, делает Воронин под присмотром Василь Василича, и плотники помогают делать. Печет Воронин и куличи народу.
Василь Василич и здесь, и там. Ездит на дрожках к церкви, где Ганька-маляр висит – ладит крестовый щит. Пойду к Плащанице и увижу. На дворе заливают стаканчики. Из амбара носят в больших корзинах шкалики, плошки, лампионы, шары, кубастики – всех цветов. У лужи горит костер, варят в котле заливку. Василь Василич мешает палкой, кладет огарки и комья сала, которого «мышь не ест». Стаканчики стоят на досках, в гнездышках, рядками, и похожи на разноцветных птичек. Шары и лампионы висят на проволках. Главная заливка идет в Кремле, где отец с народом. А здесь – пустяки, стаканчиков тысячка, не больше. Я тоже помогаю, – огарки ношу из ящика, кладу фитили на плошки. И до чего красиво! На новых досках, рядочками, пунцовые, зеленые, голубые, золотые, белые с молочком… Покачиваясь, звенят друг в дружку большие стеклянные шары, и солнце пускает зайчики, плющится на бочках, на луже.
Ударяют печально, к Плащанице. Путается во мне и грусть, и радость: Спаситель сейчас умрет… и веселые стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить… и запахи ванили и ветчины, которую нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин: «Иуда нечести-и-вый… си-рибром помрачи-и-ися…» Он в новом казакинчике, помазал сапоги дегтем, идет в церковь.
Перед Казанской толпа, на купол смотрят. У креста качается на веревке черненькое, как галка. Это Ганька, отчаянный. Толкнется ногой – и стукнется. Дух захватывает смотреть. Слышу: картуз швырнул! Мушкой летит картуз и шлепает через улицу в аптеку. Василь Василич кричит:
– Эй, не дури… ты! Стаканчики примай!..
– Дава-ай!.. – орет Ганька, выделывая ногами штуки.
Даже и квартальный смотрит. Подкатывает отец на дрожках.
– Поживей, ребята! В Кремле нехватка… – торопит он и быстро взбирается на кровлю.
Лестница составная, зыбкая. Лезет и Василь Василич. Он тяжелей отца, и лестница прогибается дугою. Поднимают корзины на веревках. Отец бегает по карнизу, указывает, где ставить кресты на крыльях. Ганька бросает конец веревки, кричит – давай! Ему подвязывают кубастики в плетушке, и он подтягивает к кресту. Сидя в петле перед крестом, он уставляет кубастики. Поблескивает стеклом. Теперь самое трудное: прогнать зажигательную нитку. Спорят: не сделать одной рукой, держаться надо! Ганька привязывает себя к кресту. У меня кружится голова, мне тошно…
– Готовааа!.. Примай нитку-у!..
Сверкнул от креста комочек. Говорят – видно нитку по куполу! Ганька скользит из петли, ползет по «яблоку» под крестом, ныряет в дырку на куполе. Покачивается пустая петля. Ганька уже на крыше, отец хлопает его по плечу. Ганька вытирает лицо рубахой и быстро спускается на землю. Его окружают, и он показывает бумажку:
– Как трешницы-то охватывают!
Глядит на петлю, которая все качается.
– Это отсюда страшно, а там – как в креслах!
Он очень бледный, идет пошатываясь.
В церкви выносят Плащаницу. Мне грустно: Спаситель умер. Но уже бьется радость: воскреснет, завтра! Золотой гроб, святой. Смерть – это только так: все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что гробы отверзлись и многие телеса усопших святых воскресли. И мне хочется стать святым – навертываются даже слезы. Горкин ведет прикладываться. Плащаница увита розами. Под кисеей, с золотыми херувимами, лежит Спаситель, зеленовато-бледный, с пронзенными руками. Пахнет священно розами.
С притаившейся радостью, которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви. По ограде навешаны кресты и звезды, блестят стаканчики. Отец и Василь Василич укатили на дрожках в Кремль, прихватили с собой и Ганьку. Горкин говорит мне, что там лиминация ответственная, будет глядеть сам генерал-губернатор Долгоруков. А Ганьку «на отчаянное дело взяли».
У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы натерты, но ковров еще не постелили. Мне дают красить яйца.
Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом: иллюминация, свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, умрет скоро… Но он воскреснет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все… и Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов, – все мы встретимся там. И Горкин будет вырезывать винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминанье. Стоит Плащаница в церкви, одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех выводит из огненной геенны. И это для Него Ганька полез на крест, и отец в Кремле лазит на колокольню, и Василь Василич, и все наши ребята – все для Него это! Барки брошены на реке, на якорях, там только по сторожу осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке, одним. Но и с ними Христос, везде… Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червячка с черной головкой, с бусинками-глазами, с язычком из алого суконца… дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я вижу – и в нем Христос.
Великая суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней. Я пробираюсь в зал – посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые – от солнца, оно заходит. В комнатах – пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах – новые красные «дорожки». В столовой на окошках – крашеные яйца в корзинах, пунцовые: завтра отец будет христосоваться с народом. В передней – зеленые четверти с вином: подносить. На пуховых подушках, в столовой на диване, – чтобы не провалились! – лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, – остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым.
Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега – повезли в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня нежданный шепот:
– Ты чего это не спишь, бродишь?..
Это отец. Он только что вернулся.
Я не знаю, что мне сказать: нравится мне ходить в тишине по комнатам, и смотреть, и слушать, – другое все! – такое необыкновенное, святое.
Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки. Это он всегда сам: другие не так умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение Твое, Христе Спасе… Ангели поют на небеси…» И я хожу с ним. На душе у меня радостное и тихое, и хочется отчего-то плакать. Смотрю на него, как становится он на стул, к иконе, и почему-то приходит в мысли: неужели и он умрет!.. Он ставит рядком лампадки на жестяном подносе и зажигает, напевая священное. Их очень много, и все, кроме одной, пунцовые. Малиновые огоньки спят – не шелохнутся. И только одна, из детской, – розовая, с белыми глазками, – ситцевая будто. Ну до чего красиво! Смотрю на сонные огоньки и думаю: а это святая иллюминация, Боженькина. Я прижимаюсь к отцу, к ноге. Он теребит меня за щеку. От его пальцев пахнет душистым, афонским, маслом.
– А шел бы ты, братец, спать?
От сдерживаемой ли радости, от усталости этих дней или от подобравшейся с чего-то грусти – я начинаю плакать, прижимаюсь к нему, что-то хочу сказать, не знаю… Он подымает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, смеется зубами из-под усов.
– А ну, пойдем-ка, штучку тебе одну…
Он несет в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе Спаса, смотрит, как ровно теплится и как хорошо стало в кабинете. Потом достает из стола… золотое яичко на цепочке!
– Возьмешь к заутрене, только не потеряй. А ну, открой-ка…
Я с трудом открываю ноготочком. Хруп – пунцовое там и золотое. В серединке сияет золотой, тяжелый; в боковых кармашках – новенькие серебряные. Чудесный кошелечек! Я целую ласковую руку, пахнущую деревянным маслом. Он берет меня на колени, гладит…
– И устал же я, братец… а все дела. Сосни-ка лучше поди, и я подремлю немножко.
О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами… И теперь еще слышу медленные шаги, с лампадкой, поющий в раздумье голос:
- Ангели поют на не-бе-си-и…
Таинственный свет, святой. В зале лампадка только. На большом подносе – на нем я могу улечься – темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках, и бережно выносят обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!» Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог, поберегемся». Понесли святить в церковь.
Идем в молчанье по тихой улице, в темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки.
В ограде парусинная палатка, с приступочками. Пасхи и куличи, в цветах, – утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку.
– Папашенька наказал с тобой быть, лиминацию показать. А сам с Василичем в Кремле, после и к нам приедет. А здесь командую я с тобой.
Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой Плащанице на столике: большую, на Гробе, унесли. Образа в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит Плащаницу на голове. Горкин в новой поддевке, на шее у него розовый платочек, под бородкой. Свечка у него красная, обвита золотцем.
– Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться.
Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка – золотая от огоньков, розовое там, снежное. Горкин наказывает нашим:
– Жди моего голосу! Как показался ход, скричу: «Вали!» – запущай враз ракетки! Ты, Степа… Аким, Гриша… Нитку я подожгу, давай мне зажигальник! Четвертая – с колокольни. Ми-тя, тама ты?!
– Здесь, Михал Панкратыч, не сумлевайтесь!
– Фотогену на бочки налили?
– Все, враз засмолим!
– Митя! Как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный-согласный переходи, с перезвону на трезвон, без задержки… верти и верти во все! Опосля сам залезу. По-нашему, по-ростовски! Ну, дай Господи…
У него дрожит голос. Мы стоим с зажигальником у нитки. С паперти подают – идет! Уже слышно:
- …Ангели по-ют на небеси-и!..
– В-вали-и!.. – вскрикивает Горкин, и четыре ракеты враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья.
– Кумпол-то, кумпол-то!.. – дергает меня Горкин.
Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста… и там растаял. В черном небе алым крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые звезды. Сияет – «X. В.». На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени – кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.
- Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых…
– Ну, Христос воскресе… – нагибается ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.
- …сме-ртию смерть… по-пра-ав!..
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха красная.
И в Кремле удалось на славу. Сам Владимир Андреич Долгоруков благодарил! Василь Василич рассказывает:
– Говорит – удружили. К медалям приставлю, говорит. Такая была… поддевку прожег! Митрополит даже ужасался… до чего было! Весь Кремль горел. А на Москва-реке… чисто днем!..
Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни, гусем. Встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза. «Христос воскресе!..» – «Воистину воскресе…» «Со Светлым праздничком…» Получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся – плотники, народ русый, маляры – посуше, порыжее… плотогоны – широкие крепыши… тяжелые землекопы-меленковцы, ловкачи каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары…
Угощение на дворе. Орудует Василь Василич, в пылающей рубахе, жилетка нараспашку, – вот-вот запляшет. Зудят гармоньи. Христосуются друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы…
Трезвоны, перезвоны, красный-согласный звон. Пасха красная.
Обедают на воле, под штабелями леса. На свежих досках обедают, под трезвон. Розовые, красные, синие, желтые, зеленые скорлупки – всюду, и в луже светятся. Пасха красная! Красен и день, и звон.
Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустально-золотое, через него – все волшебное. Вот – с растягивающимся жирным червячком; у него черная головка, черные глазки-бусинки и язычок из алого суконца. С солдатиками, с уточками, резное-костяное… И вот фарфоровое – отца. Чудесная панорамка в нем… За розовыми и голубыми цветочками бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом ободке, видится в глубине картинка: белоснежный Христос с хоругвью воскрес из Гроба. Рассказывала мне няня, что, если смотреть за стеклышко, долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стеклышко. Мреет в моих глазах, – и чудится мне, в цветах, – живое, неизъяснимо-радостное, святое… – Бог?.. Не передать словами. Я прижимаю к груди яичко – и усыпляющий перезвон качает меня во сне.
Разговины
– Поздняя у нас нонче Пасха, со скворцами, – говорит мне Горкин, – как раз с тобой подгадали для гостей. Слышь, как поклычивает?..
Мы сидим на дворе, на бревнах, и, подняв головы, смотрим на новенький скворешник. Такой он высокий, светлый, из свеженьких дощечек, и такой яркий день, так ударяет солнце, что я ничего не вижу, будто бы он растаял, – только слепящий блеск. Я гляжу в кулачок и щурюсь. На высоком шесте, на высоком хохле амбара, в мреющем блеске неба, сверкает домик, а в нем – скворцы. Кажется мне чудесным: скворцы, живые! Скворцов я знаю, в клетке у нас в столовой, от Солодовкина – такой знаменитый птичник, – но эти скворцы, на воле, кажутся мне другими. Не Горкин ли их сделал? Эти скворцы чудесные.
– Это твои скворцы? – спрашиваю я Горкина.
– Какие мои, вольные, Божьи скворцы, всем на счастье. Три года не давались, а вот на свеженькое-то и прилетели. Что такое, думаю, нет и нет! Дай спытаю, не подманю ли… Вчера поставили – тут как тут.
Вчера мы с Горкиным «сняли счастье». Примета такая есть: что-то скворешня скажет? Сняли скворешник старый, а в нем подарки! Даже и Горкин не ожидал: гривенник серебряный и кольцо! Я даже не поверил. Говорю Горкину:
– Это ты мне купил для Пасхи?
Он даже рассердился, плюнул.
– Вот те Христос, – даже закрестился, а он никогда не божится, – что я, шутки с тобой шучу! Ему, дурачку, счастье Господь послал, а он еще ломается!.. Скворцы сколько, может, годов на счастье тебе старались, а ты…
Он позвал плотников, сбежался весь двор, и все дивились: самый-то настоящий гривенничек и медное колечко с голубым камушком. Стали просить у Горкина, Трифоныч давал рублик, чтобы отдал для счастья, и я поверил. Все говорили, что это от Бога счастье. А Трифоныч мне сказал:
– Богатый будешь и скоро женишься. При дедушке твоем тоже раз нашли в скворешне, только крестик серебряный… через год и помер! Помнишь, Михал Панкратыч!
– Как не помнить. Мартын-покойник при мне скворешню снимал, а Иван Иваныч, дедушка-то, и подходит… кричит еще издаля: «Чего на мое счастье?» Мартын-плотник выгреб помет, в горсть зажал и дает ему: «Все, – говорит, – твое тут счастье!» Будто в шутку. А тот рассерчал, бросил, глядь – крестик серебряный! Так и затуманился весь, задумался… К самому Покрову и помер. А Мартын ровно через год, на третий день Пасхи, помер. Стало быть, им обоим вышло. Вытесали мы им по крестику.
Мы сидим на бревнах и слушаем, как трещат и скворчат скворцы, тукают будто в домике. Горкин нынче совсем веселый. Река уж давно прошла, плоты и барки пришли с верховьев, нет такой спешки к Празднику, как всегда, плошки и шкалики для церкви давно залиты и установлены, народ не гоняют зря, во дворе чисто прибрано, сады зазеленели, погода теплая.
– Пойдем, дружок, по хозяйству чего посмотрим, распорядиться надо. Приходи завтра на воле разговляться. Пять годов так не разговлялись. Как Мартыну нашему помереть, в тот год Пасха такая же была, на травке… Помни, я тебе его пасошницу откажу, как помру… а ты береги ее. Такой никто не сделает. И я не сделаю.
– А ты ведь самый знаменитый плотник-филенщик, и папаша говорит…
– Нет, ку-да! Наш Мартын самому государю был известен… песенки пел топориком, Царство Небесное. И пасошницу ту сам тоже топориком вырезал, и сады райские, и винограды, и Христа на древе… Погоди, я те расскажу, как он помирал… Ах, «Мартын-Мартын, покажи аршин!» – так все и называли. А потому. После расскажу, как он государю Александру Миколаичу чудеса свои показал. А теперь пойдем распоряжаться.
Мы проходим в угол двора, где живет булочник Воронин, которого называют и Боталов. В сарае, на погребице, мнут в глубокой кадушке творог. Мнет сам Воронин красными руками, толстый, в расстегнутой розовой рубахе. Медный крестик с его груди выпал из-за рубахи и даже замазан творогом. И лоб у Воронина в твороге, и грудь.
– Для наших мнешь-то? – спрашивает Горкин. – Мни, мни… старайся. Да изюмцу-то не скупись – подкидывай. На полтораста душ, сколько тебе навару выйдет! Да сотню куличиков считай. У нас не как у Жирнова там, не калачами разгавливаемся, а ешь по закону, как указано. Дедушка его покойный как указал, так и папашенька не нарушает.
– Так и надо… – кряхтя, говорит Воронин и чешет грудь. Грудь у него вся в капельках. – И для нашей торговли оборот, и всем приятно. Видишь, сколько изюмцу сыплю, как мух на тесте!
Горкин потягивает носом, и я потягиваю. Пахнет настоящей пасхой!
– А чего на разговины-то еще даете? – спрашивает Воронин. – Я своим ребятам рубца купил.
– Что там рубца! Это на закуску к водочке. Грудинки взял у Богачева три пудика, да студню заготовили от осьми быков, во как мы! Да лапша будет, да пшенник с молоком. Наше дело тяжелое, нельзя. Землекопам особая добавка, ситного по фунту на заедку. Каждому по пятку яичек да ветчинки передней, да колбасники придут с прижарками, за хозяйский счет… все по четверке съедят колбаски жареной. Нельзя. Праздник. Чего поешь – в то и сроботаешь. К нам и народ потому ходко идет, в отбор.
– Ты уж такой заботливый за народ-то, Михал Панкратыч… без тебя плохо будет. Слыхал, в деревню собираешься на покой? – спрашивает Воронин.
– Давно сбираюсь, да… сорок вот седьмой год живу. Ну, пойдем.
Горкин сегодня причащался и потому нарядный. На нем синий казакинчик и сияющие козловые сапожки. На бурой, в мелких морщинках, шее розовый платочек-шарфик. Маленькое лицо, сухое, как у угодничков, с реденькой и седой бородкой, светится, как иконка. «Кто он будет? – думаю о нем, – святомученик или преподобный, когда помрет?» Мне кажется, что он непременно будет преподобный, как Сергий Преподобный: очень они похожи.
– Ты будешь преподобный, когда помрешь? – спрашиваю я Горкина.
– Да ты сдурел! – вскрикивает он и крестится, и в лице у него испуг. – Меня, может, и к раю-то не подпустят… О, Господи… ах ты, глупый, глупый, чего сказал. У меня грехов…
– А тебя святым человеком называют! И даже Василь Василич называет.
– Когда пьяный он… Не надо так говорить.
Большая лужа все еще в полдвора. По случаю Праздника настланы по ней доски на бревнышках и сделаны перильца, как сходы у купален. Идем по доскам и смотримся. Вся голубая лужа, и солнце в ней, и мы с Горкиным, маленькие, как куколки, и белые штабели досок, и зеленеющие березы сада, и круглые снеговые облачка.
– Ах, негодники! – вскрикивает вдруг Горкин, тыча на лужу пальцем. – Нет, это я дознаюсь… ах, подлецы-негодники! Разговелись загодя, подлецы!
Я смотрю на лужу, смотрю на Горкина.
– Да скорлупа-то! – показывает он под ноги, и я вижу яичную красную скорлупу, как она светится под водой.
На меня веет Праздником, чем-то необычайно радостным, что видится мне в скорлупе, – светится до того красиво! Я начинаю прыгать.
– Красная скорлупка, красная скорлупка плавает! – кричу я.
– Вот поганцы… часу не дотерпеть! – говорит грустно Горкин. – Какой же ему Праздник будет, поганцу, когда… Ондрейка это, знаю разбойника. Весь себе пост изгадил… Вот ты умник, ты дотерпел, знаю, и молочка в пост не пил небось?
– Не пил… – тихо говорю я, боясь поглядеть на Горкина, и вот на глаза наплывают слезы, и через эти слезы радостно видится скорлупка.
Я вспоминаю горько, что и у меня не будет настоящего Праздника. Сказать или не сказать Горкину?
– Вот ум-ница… и млоденец, а умней Ондрейки-дурака, – говорит он, поокивая. – И будет тебе Праздник в радость.
Сказать, сказать! Мне стыдно, что Горкин хвалит, я совсем не могу дышать, и радостная скорлупка в луже словно велит сознаться. И я сквозь слезы, тычась в коленки Горкину, говорю:
– Горкин… я… я… я съел ветчинки…
Он садится на корточки, смотрит в мои глаза, смахивает слезинки шершавым пальцем, разглаживает мне бровки, смотрит так ласково…
– Сказал, покаялся… и простит Господь. Со слезкой покаялся… и нет на тебе греха.
Он целует мне мокрый глаз. Мне легко. Радостно светится скорлупка.
О, чудесный, далекий день! Я его снова вижу, и голубую лужу, и новые доски мостика, и солнце, разлившееся в воде, и красную скорлупку, и желтый шершавый палец, ласково вытирающий мне глаза. Я снова слышу шорох еловых cтружек, ход по доскам рубанков, стуки скворцов над крышей и милый голос:
– И слезки-то твои сладкие… Ну, пойдем, досмотрим.
Под широким навесом, откуда убраны сани и телеги, стоят столы. Особенные столы – для Праздника. На новых козлах положены новенькие доски, струганные двойным рубанком. Пахнет чудесно елкой – доской еловой. Плотники, в рубахах, уже по-летнему, достругивают лавки. Мои знакомцы: Левон Рыжий, с подбитым глазом, Антон Кудрявый, Сергей Ломакин, Андрейка, Васька…
– В отделку, Михал Панкратыч, – весело говорит Антон и гладит шершаво доски. – Теперь только разговины давай.
И Горкин поглаживает доски, и я за ним. Прямо – столы атласные.
– Это вот хорошо придумал! – весело вскрикивает Горкин. – Ондрюшка?
– А то кто ж? – кричит со стены Андрейка, на лесенке. – Называется – траспарат. Значит – «Христос воскресе», как на церкве.
На кирпичной стене навеса поставлены розовые буквы – планки. И не только буквы, а крест, и лесенка, и копье.
– Знаю, что ты мастер, а… кто на луже лупил яичко? а?.. Ты?
– А то кто ж! – кричит со стены Андрейка. – Сказывали, теперь можно…
– Ска-зывали… Не дотерпел, дурачок! Ну, какой тебе будет Праздник! Э-эх, Ондрейка-Ондрейка…
– Ну, меня Господь простит. Я вон для Него поработал…
– Очень ты Ему нужен! Для души поработал, так. Господь с тобой, а только что нехорошо – то нехорошо.
– Да я перекрещемшись, Михал Панкратыч.
Солнце, трезвон и гомон. Весь двор наш – Праздник. На розовых и золотисто-белых досках, на бревнах, на лесенках амбаров, на колодце, куда ни глянешь – всюду пестрят рубахи, самые яркие, новые, пасхальные: красные, розовые, желтые, кубовые, в горошек, малиновые, голубые, белые, в поясках. Непокрытые головы блестят от масла. Всюду треплются волосы враскачку – христосуются трижды. Гармошек нет. Слышится только чмоканье. Пришли рабочие разговляться и ждут хозяина. Мы разговлялись ночью, после заутрени и обедни, а теперь – разговины для всех. Все сядем за столы с народом, под навесом, так повелось «от древности», объяснил мне Горкин, – от дедушки. Василь Василич Косой, старший приказчик, одет парадно. На сапогах по солнцу. Из-под жилетки – новая синяя рубаха шерстяная. Лицо сияет, и видно в глазу туман. Он уже нахристосовался как следует. Выберет плотника или землекопа, всплеснет руками, словно лететь собрался, и облапит:
– Ва-ся!.. Что же не христосуешься с Василь Василичем?.. Старого не помню… ну?
И все христосуется и чмокает. И я христосуюсь. У меня болят губы, щеки, но все хватают, сажают на руки, трут бородой, усами, мягкими, сладкими губами. Пахнет горячим ситцем, крепким каким-то мылом, квасом и деревянным маслом. И веет от всех теплом. Старые плотники ласково гладят по головке, суют яичко. Некуда мне девать, и я отдаю другим. Я уже ничего не разбираю: так все пестро и громко, и звон-трезвон. С неба падает звон, от стекол, от крыш и сеновалов, от голубей, со скворешни, с распушившихся к Празднику берез, льется от этих лиц, веселых и довольных, от режущих глаз рубах и поясков, от новых сапог начищенных, от мелькающих по рукам яиц, от встряхивающихся волос враскачку, от цепочки Василь Василича, от звонкого вскрика Горкина. Он всех обходит по череду и чинно. Скажет-вскрикнет: «Христос воскресе!» – радостно-звонко вскрикнет – и чинно и трижды чмокнет.
Входит во двор отец. Кричит:
– Христос воскресе, братцы! С Праздником! Христосоваться там будем.
Валят толпой к навесу. Отец садится под «траспарат». Рядом Горкин и Василь Василич. Я с другой стороны отца, как молодой хозяин. И все по ряду. Весело глазам: все пестро. Куличи и пасхи в розочках, без конца. Крашеные яички, разные, тянутся по столам, как нитки. Возле отца огромная корзина, с красными. Христосуются долго-долго. Потом едят. Долго едят и чинно. Отец уходит. Уходит и Василь Василич, уходит Горкин. А они все едят. Обедают. Уже не видно ни куличей, ни пасочек, ни длинных рядов яичек: все съедено. Земли не видно – все скорлупа цветная. Дымят и скворчат колбасники, с черными сундучками с жаром, и все шипит. Пахнет колбаской жареной, жирным рубцом в жгутах. Привезенный на тачках ситный, великими брусками, съеден. Землекопы и пильщики просят еще подбавить. Привозят тачку. Плотники вылезают грузные, но землекопы еще сидят. Сидят и пильщики. Просят еще добавить. Съеден молочный пшенник, в больших корчагах. Пильщики просят каши. И – каши нет. И последнее блюдо студня, черный великий противень, – нет его. Пильщики говорят: бу-дя! И разговины кончаются. Слышится храп на стружках. Сидят на бревнах, на штабелях. Василь Василич шатается и молит:
– Робята… упаси Бог… только не зарони!..
Горкин гонит со штабелей, от стружек: ступай на лужу! Трубочками дымят на луже. И все – трезвон. Лужа играет скорлупою, пестрит рубахами. Пар от рубах идет. У высоченных качелей, в саду, начинается гомозня. Качели праздничные, поправлены, выкрашены зеленой краской. К вечеру тут начнется, придут с округи, будет азарт великий. Андрейка вызвал себе под пару паркетчика с Зацепы: кто кого? Василь Василич, с выкаченным, напухшим глазом, вызывает:
– Кто на меня выходит?.. Давай… скачаю!..
– Вася, – удерживает Горкин, – и так качаешься, поди выспись.
Двор затихает, дремлется. Я смотрю через золотистое хрустальное яичко. Горкин мне подарил, в заутреню. Все золотое, все: и люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная хорошо скворешня, – что принесет на счастье? – и небо золотое, и вся земля. И звон немолчный кажется золотым мне тоже, как все вокруг.
Царица небесная
С Фоминой недели народу у нас все больше: подходят из деревни ездившие погулять на Пасху, приходят рядиться новые. На кирпичах, на бревнах, на настилке каретника, даже на крыше погреба и конуре Бушуя – народ и народ, с мешками и полушубками вверх овчиной, с топориками, пилами, которые цепляют и тонко звенят, как струнки. Всюду лежат вповалку, сидят, прихватив колени в синеватых портах из пестряди; пьют прямо под колодцем, наставив рот; расчесываются над лужей, жуют краюхи, кокают о бревно и обколупывают легонько лазоревые и желтые яички, крашенные васильком и луком. У сараев, на всем виду, стоят дюжие землекопы-меленковцы.
– Меленковцы-то наши… каждый уж при своей лопате, как полагается, – показывает мне Горкин. – Пятерик хлебца смякает и еще попросит. Народ душевный.
Меленковцы одеты чисто – в белых крутых рубахах, в бурых сермягах, накинутых на одно плечо; на ногах чистые онучи, лапти – по две ступни. И воздух от них приятный, хлебный. Похаживают мягко, важно, говорят ласково – «милачок», «милаш». Себя знают: пождут-постоят – уйдут. Возвращаться назад не любят.
У конторы за столиком сидит грузный Василь Василич; глаза у него напухли, лицо каленое, рыжие волосы вихрами. Говорят – бражки выпил, привезли ему плотники из дому, – вот и ослаб немножко, а время теперь горячее, не соснешь. На земле – тяжелый мешок с медью и красный поливной кувшин с квасом, в котором гремят ледышки. Медяками почокает, кваску отопьет – встряхнется. На столе в столбиках пятаки: четыре столбика, пятый сверху – выходит домик, получи два с полтиной. Пятаки сваливают в шапки, в обмен – орленые паспорта с печатями из сажи. Тут и Горкин, для помощи, – «сама правда»; его и хозяин слушает.
На крыльце появляется отец, в верховой шапочке, с нагайкой, кричит: «Давай!» Василь Василич вскакивает, тоже кричит: «Д-ввайй!» – и сшибает чернильницу. Отец говорит, щурясь:
– Горкин, по-глядывай!..
– Будь-п-койны-с, до ночи все подчищу! – вскрикивает Василь Василич и крепко кладет на счетах. – А это-с… солнышком напекло!..
Кавказка давно оседлана. Осторожно ступая между лежачими, которые принимают ноги, она направляется к отцу. Все на нее дивятся: «Жар-птица прямо», – такая она красавица! Так и блестит на солнце от золотистой кожи, от серебряного седла, от глаз. Отец садится, оглядывает народ: «Что мало?» – и выезжает на улицу. Вдогонку ему кричат: «Забирай всех – вот те и будет много!»
– Ги-рой!.. – вскрикивает Василь Василич и воздевает руки. – В Подольск погнал, барки закупать… а к ночи уж тут как тут!..
Я хочу, чтобы всех забрали. И Горкину тоже хочется. Когда Василь Василич начинает махать-грозиться: «Я те летось еще сказал… и глаз не кажи лучше, хозяйский струмент пропил!» – Горкин вступается:
– Хозяин простил… по топорику хорош, на соломинку враз те окоротит. А на винцо-то все грешные.
– Задавай билет, ладно… – гудит Василь Василич в кувшин, – первопоследний раз. У меня на хозяйское добро и муха не мо-жет!..
Нельзя не уважить Горкину, и подряды большие взяты: мост в Кожевниках строят, плотину у храм-Спасителя перешивают, – работы хватит.
А то и Горкин рассердится:
– Уходи и уходи без розговору, до бутошника… – поокивает он строго. – К скудентам своим ступай, бунтуй, они те курятиной кормить будут. Я тебя по летошнему году помню, как народ у меня булгачил. Давно тебя в поминанье написал!
Все глядят весело, как плутоватый парень, ругаясь, идет к воротам. Кричат вдогонку:
– Шею ему попарь, скандальщику! Топорика-то не держал… пло-тник!..
В кабинете с зеленой лампой сидит отец, громко стучит на счетах. Он только что вернулся. Высокие сапоги в грязи, пахнет от них полями. Пахнет седлом, Кавказкой, далеким чем-то. Перегнувшись на стульчике, потягивает бородку Горкин. В дверях строго стоит Василь Василич, косит тревожно: не было бы чего. В окно веет прохладой и черной ночью, мерцают звезды. Я сижу на кожаном диване и все засматриваю в окошко сквозь ширмочки. Ширмочки разноцветные, и звезды за ними меняют цвет: вот золотая стала, а вот голубая, красная… а вот простая. Я вскрикиваю даже: «Глядите, какие звездочки!» Отец грозится, продолжая стучать на счетах, но я не могу уняться: «Малиновые, зеленые, золотые… да поглядите скорей какие!..» Кажется мне, что это сейчас все кончится.
– И что ты, братец, мешать приходишь… – рассеянно говорит отец и начинает смотреть сквозь ширмочки.
Заглядывает и Горкин, почему-то мотая головой, и даже Василь Василич. Он подходит на цыпочках, сгибается, чтобы лучше видеть, а сам подмаргивает ко мне.
– А, выдумщик! – сердясь, говорит отец.
Они ничего не видят, а я вижу: чудесные звездочки, другие!
– Новых триста сорок… Ну, как? – спрашивает отец Горкина.
– Робята хорошие попались, ничего. Ондрюшка от Мешкова к нам подался…
– Это стекла который бил, скандалист?
– Понятно, разбойник он… и зашибает маненько, да руки золотые! С Мартыном не поравняешь, а за ним станет.
– С Марты-ном? Ну, это ж…
– Меня-то он побоится, крестник мне… попридержу, дурака.
– Сам Мешков оставлял, простил, – вступается и Василь Василич, – прибавку давал даже. Мартын не Мартын, а… не хуже альхитектора.
Мартына я не знаю, но это кто-то особенный, Горкин сказал мне как-то: «Ма-ртын… Такого и не будет больше, пе-сенки пел топориком! У Господа теперь роботает».
– Суббота у нас завтра… Иверскую, Царицу Небесную принимаем. Когда назначено?
Горкин кладет записочку:
– Вот, прописано на бумажке. Монах сказывал – ожидайте Царицу Небесную в четыре… а то в пять, на зорьке. Как, говорит, управимся.
– Хорошо. Помолимся – и начнем.
– Как не помолемшись! – говорит Горкин и смотрит в углу на образ. – Наше дело опаское. Сушкин летось не приглашал… какой пожар-то был! Помолемшись-то и робятам повеселей, духу-то послободней.
– Двор прибрать, безобразия чтобы не было. Прошлый год понесли Владычицу мимо помойки!..
– Вот это уж недоглядели, – смущенно говорит Горкин. – Она, Матушка, понятно, не обидится, а нехорошо. Тесинками обошьем помоечку. И лужу-то палубником, что ли, поприкрыть, больно велика. Народ летось под Ее, Матушку, как повалился – прямо те в лужу… все-то забрызгали. И монах бранился… чисто, говорит, свиньи какие!
– От прихода для встречи Спаситель будет с Николай-Угодником. Ратников калачей чтобы не забыл ребятам, сколько у него хлеба забираем…
– Калачи будут, обещал. И бараночник корзину баранок горячих посулил, для торжества. Много у него берут в деревню…
– Которые понесут – поддевки чтобы почище и с лица поприглядней.
– Есть молодчики, и не табашники. Онтона Кудрявого возьму…
– Будто и не годится подпускать Онтона-то?.. – вкрадчиво говорит Василь Василич. – Баба к нему приехала из деревни… нескладно будто?..
– А и вправду, что не годится. Да наберем-с, на полсотню хоть образов найдем. Нищим по грошику? Хорошо-с. Многие приходят из уважения. Песочком посорим, можжевелочкой, травки новой в Нескушном подкосим, под Владычицу-то подкинуть…
– Ну, все. Пошлешь к Митреву в трактир… калачика бы горяченького с семгой, что ли… – потягиваясь, говорит отец. – Есть что-то захотелось, сто верст без малого отмахал.
– Слушаю-с, – говорит Василь Василич. – Уж и гирой вы!..
Отец прихватывает меня за щеку, сажает на колени на диване. Пахнет от него лошадью и сеном.
– Так – звездочки, говоришь? – спрашивает он, вглядываясь сквозь ширмочки. – Да, хорошие звездочки… А я, братец, барки какие ухватил в Подольске!.. Вырастешь – все узнаешь. А сейчас мы с тобой кала-чика горяченького…
И, раскачивая меня, он весело начинает петь:
- Калачи – горячи,
- На окошко мечи!
- Проезжали г…начи,
- Потаскали калачи.
- Прибег мальчик,
- Обжег пальчик,
- Побежал на базар,
- Никому не сказал.
- Одной бабушке сказал:
- Бабушка-бабушка,
- Ва-ри кутью —
- Поминать Кузьму!
Двор и узнать нельзя. Лужу накрыли рамой из шестиков, зашили тесом, и по ней можно прыгать, как по полу, – только всхлипывает чуть-чуть. Нет и грязного сруба помойной ямы: одели ее шатерчиком, – и блестит она новыми досками и пахнет елкой. Прибраны ящики и бочки в углах двора. Откатили задки и передки, на которых отвозят доски, отгребли мусорные кучи и посыпали красным песком – под елочку. Принакрыли рогожами навозню, перетаскали высокие штабеля досок, заслонявшие зазеленевший садик, и на месте их, под развесистыми березами, сколотили высокий помост с порогом. Новым кажется мне наш двор – светлым, розовым от песку, веселым. Я рад, что Царице Небесной будет у нас приятно. Конечно, Она все знает: что у нас под шатерчиком помойка, и лужа та же, и мусор засыпали песочком; но все же и Ей приятно, что у нас стало чисто и красиво и что для Нее все это. И все так думают. Стучат весело молотки, хряпкают топоры, шипят и вывизгивают пилы. Бегает суетливо Горкин:
– Так, робятки, потрудимся для Матушки Царицы Небесной… лучше здоровья пошлет, молодчики!..
Приходят с других дворов, дивятся: «Какой парад!»
Ступени высокого помоста накрыты красным сукном – с «ердани», и даже легкую сень навесили, где будет стоять Она: воздушный, сквозной шатер, из тонкого воскового теса, струганного двойным рубанком, – как кружево! Легкий сосновый крестик, будто из розового воска, сделан самим Андрюшкой, и его же резьба навесок – звездочками и крестиками – и точеные столбушки из реек, – загляденье. И даже «сияние» от креста, из тонких и острых стрелок, – совсем живое!
– Ах, Ондрейка! – хлопает себя Горкин по коленкам. – Мартын бы те прямо…
Андрюшка, совсем еще молодой, в светлой, пушком, бородке, кажется мне особенным, как Мартын. Он сидит на шатре помойки и оглядывает «часовенку».
– Так, ладно… – говорит он с собой, прищурясь, несет в мастерскую дранки, свистит веселое, – и вот, на моих глазах, выходит у него птичка с распростертыми крыльями – голубок? Трепещут лучинки-крылья – совсем живой! Его он вешает под подзором сени, крылышки золотятся и трепещут, и все дивятся – какие живые крылья, «как у Святого Духа!». Сквозные, они парят.
Вечерком заходит взглянуть отец. За ним ходит Горкин с Василь Василичем. Молча глядит отец, глядит долго… роется пальцами в жилетке, приказывает позвать Андрюшку. Говорят – не то в баню пошел, не то в трактире.
– Целковый ему на чай! – говорит отец. – Жалованье за старшого.
Чуть светает, я выхожу во двор. Свежо. Над «часовенкой» – смутные еще березы, с черными листочками-сердечками, и что-то таинственное во всем. Пахнет еловым деревом по росе и еще чем-то сладким: кажется, зацветают яблони. Перекликаются сонные петухи – встают. Черный воз можжевельника кажется мне мохнатою горою, от которой священно пахнет. Пахнет и первой травкой, принесенной в корзинах и ожидающей. Темный, таинственный, тихий сад, черные листочки берез над крестиком, светлеющий голубок под сенью и черно-мохнатый воз – словно все ждет чего-то. Даже немножко страшно: сейчас привезут Владычицу.
Светлеет быстро. У колодца полощутся, качают, – встает народ. Которые понесут – готовы. Стоят в сторонке, праздничные, в поддевках, шеи замотаны платочком, сапоги вычернены ваксой, длинные полотенца через плечо. Кажутся и они священными. Горкин ушел к Казанской с другими молодцами – нести иконы. Василь Василич, в праздничном пиджаке, с полотенцем через плечо, дает последние приказания:
– Ты, Сеня, как фонарик принял, иди себе – не оглядывайся. Мы с хозяином из кареты примем, а Авдей с Рязанцем подхватят с того краю. А которые под Ее поползут, не шибко вались на дружку, а чередом! Да повоздержитесь, лешие, с хлеба-то… нехорошо! Летось поперли… чисто свиньи какие… батюшка даже обижался. При иконе – и такое безобразие неподходящее. Мало ли чего, в себе попридержите… «не по своей воле!» Еще бы ты по сво-ей воле!.. А, Цыганку не заперли… забирай ее, лешую!..
Кидаются за Цыганкой. Она забивается под бревна и начинает скулить от страха. Отцепляют от конуры Бушуя и ведут на погребицу. Стерегут на крышах, откуда до рынка видно. Из булочной, напротив, выбегли пекаря, руки в тесте. Несут Спасителя и Николу Угодника от Казанской, с хоругвями, ставят на накрытые простынями стулья – встречать Владычицу. С крыши кричат: «Едет!»
– Матушка Иверская… Царица Небесная!..
Горкин машет пучком свечей: расступись, дорогу! Раскатывается холстинная «дорожка», сыплется из корзин трава.
– Ма-тушка… Царица Небесная… Иверская Заступница…
Видно передовую пару шестерки, покойной рысью, с выносным на левой… голубую широкую карету. Из дверцы глядит голова монаха. Выносной забирает круто на тротуар, с запяток спрыгивает какой-то высокий с ящиком и открывает дверцу. В глубине смутно золотится. Цепляя малиновой епитрахилью с золотом, вылезает не торопясь широкий иеромонах, следует вперевалочку. Служка за ним начинает читать молитвы. Под самую карету катится белая «дорожка».
- …Пресвятая Богоро-дице… спаси на-ас…
Отец и Василь Василич, часто крестясь, берут на себя тяжелый кивот с Владычицей. Скользят в золотые скобы полотенца, подхватывают с другого краю, – и, плавно колышась, грядет Царица Небесная надо всем народом. Валятся, как трава, и Она тихо идет над всеми. И надо мной проходит – и я замираю в трепете. Глухо стучат по доскам над лужей – и вот уже Она восходит по ступеням, и лик Ее обращен к народу, и вся Она блистает, розово озаренная ранним весенним солнцем.
- …Спаа-си от бед… рабы Твоя, Богородице…
Под легкой, будто воздушной сенью, из претворенного в воздух дерева, блистающая в огнях и солнце, словно в текучем золоте, в короне из алмазов и жемчугов, склоненная скорбно над Младенцем, Царица Небесная – над всеми. Под Ней пылают пуки свечей, голубоватыми облачками клубится ладан, и кажется мне, что Она вся – на воздухе. Никнут над Ней березы золотыми сердечками, голубое за ними небо.
- …к Тебе прибегаем… яко к Нерушимой Стене и предста-тельству-у…
Вся Она – свет, и все изменилось с Нею и стало храмом. Темное – головы и спины, множество рук молящих, весь забитый народом двор… – все под Ней. Она – Царица Небесная. Она – над всеми. Я вижу на штабели досок сбившихся в стайку кур, сбитых сюда народом, огнем и пеньем, всем непонятным, этим, таким необычайным, и кажется мне, что и этот петух, и куры, и воробьи в березках, и тревожно мычащая корова, и загнанный на погребицу Бушуй, и в бревнах пропавшая Цыганка, и голуби на кулях овса, и вся прикрытая наша грязь, и все мы, набившиеся сюда, – все это Ей известно, все вбирают Ее глаза. Она, Благодатная, милостиво на все взирает.
- …Призри благосе-рдием, всепетая Богоро-дице…
Я вижу Горкина. Он сыплет в кадило ладан, хочет сам подать батюшке, но у него вырывает служка. Вижу, как встряхивают волосами, как шепчут губы, ерзают бороды и руки. Слышу я, как вздыхают: «Матушка… Царица Небесная…» У меня горячо на сердце: над всеми прошла Она, и все мы теперь – под Нею.
- …Пресвятая Богоро-дице… спаси на-ас!..
Пылают пуки свечей, густо клубится ладан, звенят кадила, дрожит синеватый воздух, и чудится мне в блистанье, что Она начинает возноситься. Брызгает серебро на все: кропят и березы, и сараи, и солнце в небе, и кур с петухом на штабели… а Она все возносится, вся – в сиянье.
– Берись… – слышен шепот Василь Василича.
Она наклоняется к народу… Она идет. Валятся под Нее травой, и тихо обходит Она весь двор, все его закоулки и уголки, все переходы и навесы, лесные склады… Под ногами хрустит щепой, тонкие стружки путаются в ногах и волокутся. Идет к конюшням… Старый Антипушка, похожий на святого, падает перед Ней в дверях. За решетками денников постукивают копыта, смотрят из темноты пугливо лошади, поблескивая глазом. Ее продвигают краем, Она вошла. Ей поклонились лошади, и Она освятила их. Она же над всем Царица, Она – Небесная.
– Коровку-то покропите… посуньте Заступницу-то к коровке! – просит, прижав к подбородку руки, старая Марьюшка-кухарка.
– Надо уважить, для молочка… – говорит Андрон-плотник.
Вдвигают кивот до половины, держат. Корова склонила голову.
Несут по рабочим спальням. Для легкого воздуха накурено можжухой. Спаситель и Николай Угодник провожают. Вносят и в наши комнаты, выносят во двор и снова возносят на подмостки. Приходят с улицы – приложиться. Поют народом: «Пресвятая Богоро-дице, спаси на-ас!» Горкин руками водит, чтобы складнее пели. Батюшки кушают чай в парадном зале, закусывают семгой и белорыбицей, со свежими, паровыми огурцами. Василь Василич угощает в конторе «ящичного» и кучера с мальчишкой; мальчишку – стоя. Народ стережет священную карету. На ее дверцах написаны царские короны, золотые. Старушки крестятся на Ее карету, на лошадей; кроткие у Ней лошадки, совсем святые.
Голубая карета едва видна, а мы еще все стоим, стоим с непокрытыми головами, провожаем…
– Помолемшись… – слышатся голоса в народе.
– По гривеннику выдать, чайку попьют, – говорит отец. – Ну, помолились, братцы… завтра, бла-гословясь, начнем.
Весело говорят:
– Дай Господи.
Праздник еще не кончился. Через дорогу несут от Ратникова на узких лотках калачики – горячие, огневые, – жгутся. Плывут лотки за лотками на головах, как лодочки. А вот и горячие баранки, с хрустом. Едят на бревнах, идут в трактиры. Толкутся в воротах нищие, поздравляют: «Помолемшись!» Им дают грошики. Понемногу расходятся. Остается пустынный двор, как-то особенно притихший – обмоленный. Жалко расстаться с ним.
Вечер, а все еще пахнет ладаном и чем-то еще… – святым? Кажется мне, что во всех щелях, в дырках между досками, в тихом саду вечернем – держится голубой дымок, стелются петые молитвы, – только не слышно их. Чудится мне, что на всем остался благостный взор Царицы.
Василь Василич, с плотниками, уже буднично говорит:
– Поживей-поживей, ребята… все разобрать, собрать, что к чему. Помойку расшить, с лужи палубник принять, штабеля на место. Некогда завтра заниматься.
Возвращается старый двор. Светлую сень снимают. Падает голубок и крест. Неужели и их расколют?! Я беру голубка и крест. Я унесу их в садик, они святые. Штабеля заслоняют сад. Разбирают покрышку с ямы, тащат по луже доски. Вот уж и прежнее. Цепью гремит Бушуй, прыгает по доскам Цыганка. Да где же – все?! Я несу голубка и крест. В саду, под розоватыми яблоньками, пахнет священно-грустно, здесь еще тихий свет. Я гляжу на вечерние березы, на сердечки… Сквозные еще они, и виднеется через них, как в сетке, вечернее голубое небо.
Должно быть, грустно и Горкину. Он сидит на бревнах, глядит, как укладывают доски, о чем-то думает.
– Вот те и отмолились… – говорит он, поглаживая мою коленку. – Доживем – и еще помолимся. К Троице бы вот сходить надо… Там уж круглый те год моление, благолепие… а чистота какая!.. И каки соборы, и цветы всякие, и ворота все в образах… а уж колокола-а звонят… поют и поют прямо!..
Меня заливает и радостью, и грустью, хочется мне чудесного, и утреннее поет во мне:
- …Пресвятая Богоро-дице… спаси на-ас!..
Троицын день
На Вознесенье пекли у нас лесенки из теста – «Христовы лесенки» – и ели их осторожно, перекрестясь. Кто лесенку сломает – в рай и не вознесется, – грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со страхом, ссунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не сломал ли я лесенку, а то поговей Петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи, из старых книг. Горкин ей подпсалтырник сделал, с шишечками, точеный, и послушал ее наставки; потому-то и знал порядки, даром что сроду плотник. А по субботам, с Пасхи до Покрова, пекли ватрушки. И дни забудешь, а как услышишь запах печеного творогу, так и знаешь: суббота нынче.
Пахнет горячими ватрушками, по ветерку доносит. Я сижу на досках у сада. День настояще летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица. Листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на руках – как краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками, тру лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое лето вижу. Сад уже затенился, яблони – белые от цвета, в сочной, густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду по доскам к сирени. Ее клонит от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаюсь в душистую прохладу и чувствую капельки росы. Завтра все обломают, на образа. Троицын день завтра.
Горкин совсем по-летнему, в рубашке, без картуза. Так он очень худой, косточки даже слышно, когда обнимемся. Я зову его к себе в рощу, но он не слушает. Метут в четыре метлы, выметают конюшни и коровник. Гаврила моет пролетку к празднику, вертятся и блестят колеса. Старый Антипушка, на лесенке у конюшни, трет кирпичом медный зеленый крест, на амбаре сидит Андрюшка, гремит по крыше. Горкин велел ему вычистить желоба от мусора, а то перехлещет в ливень. Большая лужа горит на солнце, а в ней Андрюшка, головой вниз. Летит в лужу старая опорка, брызги взлетают радугой, как фонтан. Горкин прыгает и кричит:
– Я те, озорник, пошвыряю… Нипочем не возьму на Воробьевку! – и идет в холодок, под доски. – Вотрушки, никак, пекут?.. Ну-ко, сходи, попотчуй.
Я бегу к Марьюшке, и она дает мне в окошечко горячую, с противня, ватрушку. Выпрашиваю и Горкину. Бегу, подкидывая на ладошках, – такие они горячие.
– Бо-гатые вотрушки… – говорит Горкин, перекрестясь, и обирает с седой бородки крошечки творогу. – На Троицу завтра кра-сный денек будет. А на Духов день, попомни вот, замутится. А то и громком, может, погрозит. Всегда уж так. Потому и желоба готовлю.
– А почему – «и страх, и радость…» – вчера сказал-то?
– Троица-то? А небось учил в книжке, как Авраам Троицу в гости принимал… Как же ты так не знаешь? У Казанской икона вон… три лика, с посошками, под древом, и яблочки на древе. А на столике хлебца стопочка и кувшинчик с питием. А царь Авраам приклонился, ручки сложил и головку от страху отворотил. Стра-шно потому. Ангели лики укрывают, а не то что… Пойдет завтра Господь, во Святой Троице, по всей земле. И к нам зайдет. Радость-то кака, а?.. У тебя наверху, в кивоте, тоже Троица.
Я знаю. Это самый веселый образ. Сидят три святые с посошками под деревцом, а перед ними яблочки на столе. Когда я гляжу на образ, мне вспоминаются почему-то гости, именины.
– Верно. Завтра вся земля именинница. Потому – Господь ее посетит. У тебя Иван Богослов ангел, а мой – Михаил Архангел. У каждого свой. А земли-матушки сам Господь Бог, во Святой Троице… Троицын день. «Пойду, – скажет Господь, – погляжу во Святой Троице, навещу». Адам согрешил. Господь-то чего сказал? «Через тебя вся земля безвинная прокляна, вот ты чего исделал!» И пойдет. Завтра на коленках молиться будем, в землю, о грехах. Земля Ему всякие цветочки взростила, березки, травки всякие… Вот и понесем Ему, как Авраам-царь. И молиться будем: «Пошли, Господи, лето благоприятное!» Хо-рошее, значит, лето пошли. Вот и поют так завтра: «Кто-о Бог велий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, тво-ряй чу-де-са-а!»
Голосок у Горкина старенький, дребезжит, такой приятный. Я прошу его спеть еще, еще и еще разок. И поем вместе с ним. Он говорит, что эта молитва «страшно победная», в году два раза поют только: завтра, на Троицу, да на Пасхе, на первый день, в какую-то знатную вечерню. Сперва «Свете Тихий» пропоют, а потом ее.
– Прабабушка Устинья одну молитовку мне доверила, а отец Виктор серчает… нет, говорит, такой! Есть, по старой книге. Как с цветочками встанем на коленки, ты и пошопчи в травку: «И тебе, мати сыра-земля, согрешил, мол, душою и телом». Она те и услышит, и спокаешься во грехах. Все ей грешим. Выростешь – узнаешь, как грешим. А то бы рай на земле был. Вот Господь завтра и посетит ее, благословит. А на Духов день, может, и дожжок пошлет… Божью благодать.
Я смотрю на серую землю, и она кажется мне другой, будто она живая, – молчит только. И радостно мне, и отчего-то грустно.
Сходится народ к обеду. Въезжает на дрожках Василь Василич, валится с них – и прямо под колодец. Горкин ему качает и говорит: «Нехорошо, Вася… не годится». Он только хрипит: «Взопрел!» Встряхивается, ерошит рыжие волосы, глядит вспухшими мутными глазами, утирается красным платком и валится на дрожки. Говорит, мотаясь: «В ты-щи местов надоть… й-еду-у!» Кричат от ворот: «Хозяин!» Василь Василич вскакивает, швыряет картуз об дрожки и тянет из пиджака книжечку. Кричит: «Твердо стою, мо…гу!» Ему подают картуз. Въезжает верхом отец. Кавказка в мыле.
– Косой здесь? – спрашивает отец и видит Василь Василича. – Да где тебя носило – поймать не мог?
– Все в порядке, будь-п-койны-с… тыщи местов изъездил! – кричит Василь Василич и ерзает большим пальцем по книжечке, но грязные листочки слиплись. Там какие-то палочки, кружочки и крестики, и никто их не понимает, только Василь Василич.
– Хо-рош! – говорит отец. – Пример показываешь.
– Будь-п-койны-с, крепко стою… голову запекло, взопрел-с! В тыще местов был, все… как есь в п-рядке!
Отец смотрит на него, он смотрит на отца – не колыхнется. Отец забрасывает вопросами: поданы ли под Воробьевку лодки, в Марьиной роще как, сколько свай вбито у Спасского, что купальни у Каменного, портомойни на Яузе, плоты под Симоновым, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим… Василь Василич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, нос багровый и маслится. Все в порядке: купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьевку поданы для гулянья и душегубки для англичан, и фиверки в Зоологическом на пруду наводят, и травы пять возов к вечеру подвезут, душистой-ароматной, для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камня выгружено, и кокоры с барок на стройку посланы, и… Все в порядке!
– Под Воробьевку робят нарядил надежных, никого не потопим, догляжу-с.
– Видно, Горкину за тебя глядеть! – говорит отец. – Летось пятерых чуть не утопил… спасибо выплыли. А тебя в Марьину, где посуше.
– Воля ваша. Только Панкратычу трудно будет… старый человек, священный! С народом не собразишься… тыщи народу завтра, самый у нас мокрый праздник. Троица! Все на воду рвутся, веночки эти запущают, по старой моде, с березками катаются, не дай Бог! С ими надо какое ожесточение!.. Кого по шее, кого веслом… кому доброе слово… разные пьяные бывают. А у нас под шестьдесят лодок прогулочных, три дощака да две косых, на перевозе… тыщи с-под Девичьего навалются, всех принять надо без скандалу-с… Я уж урядника запросил и станового попридержу закусочкой, для строгости…
– Пьяницу-то Горшкова?
– Завтра он устрашится, вот как!.. Страх его заберет-с, по случаю, как самого князя Долгорукова ждут на Воробьевку… будет при опасном посту! А при Горшке-то мы как у Христа за пазухой-с. Ногой топнет – весь берег задрожит… пьяные самые к лодкам и не подойдут-с. На их глотку-то каку надо! А Михал Панкратыч, старый человек, священный… а сами знаете, с нашим народом как.
– Помни. За порядок – красную, за чуть что… искупаю! Обедать.
– О-рел! – взмахивает руками Василь Василич, совсем веселый. – Прямо свет-приставление завтра на Воробьевке будет! – и опять лезет под колодец.
Рад и Горкин: от греха подальше.
Едем на Воробьевку, за березками. Я с Горкиным на Кривой в тележке, Андрюшка-плотник – на ломовой. Едем мимо садов, по заборам цветет сирень. Воздух благоуханный, майский. С Нескучного ландышками тянет. Едут воза с травой, везут мужики березки, бабы несут цветочки – на Троицу. Дорога в горку, Кривая едва тащит. Горкин радуется на травку, на деревца, указывает мне – что где: Мамонова дача вон, богадельня Андреевская, Воробьевка скоро. «А потом к Крынкину самому заедем, чайку попьем, трактир у него на самом на торчке, там тебе вся Москва как на ладошке!» Справа деревья тянутся, в светлой и нежной зелени.
– Гляди, матушка-Москва-то наша!.. – толкает меня Горкин и крестится.
Дорога выбралась на бугор, деревья провалились, – я вижу небо, будто оно внизу. Да где ж земля-то? и где – Москва?..
– Вниз-то, в провал гляди… эн она где, Москва-то!..
Я вижу… Небо внизу кончается, и там, глубоко под ним, под самым его краем, рассыпано пестро, смутно. Москва… Какая же она большая!.. Смутная вдалеке, в туманце. Но вот яснее… – я вижу колоколенки, золотой куполок храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички-домики, бурые и зеленые дощечки-крыши, зеленые пятнышки-сады, темные трубы-палочки, пылающие искры-стекла, зеленые огороды-коврики, белую церковку под ними… Я вижу всю игрушечную Москву, а над ней золотые крестики.
– Вон Казанская наша, башенка-то зеленая! – указывает Горкин. – А вон, возля-то ее, белая-то… Спас-Наливки! Розовенькая, Успенья Казачья… Григорий Кесарейский, Троица-Шабловка… Риз Положение… а за ней, в пять кумполочков, розовый-то… Донской монастырь наш, а то – Данилов, в роще-то. А позадь-то, колокольня-то высоченная, как свеча… то Симонов монастырь, старинный!.. А Иван-то Великой, а Кремль-то наш, а? А вон те Сухарева башня… А орлы те, орлы на башенках… А Москва-река-то наша, а?.. А под нами-то, за лужком… белый-красный… кака колокольня-то с узорами, с кудерьками, а?! Девичий монастырь это. Кака Москва-то наша!..
В главах у меня туманится. Стелется подо мной, в небо восходит далью.
Едем березовою рощей, старой. Кирпичные заводы, серые низкие навесы, ямы. Дальше – березовая поросль, чаща. С глинистого бугра мне видно: все заросло березкой, ходит по ветерку волною, блестит и маслится.
– Дух-то, дух-то леккой какой… березовый, а? – вздыхает Горкин. – Приехали. Ондрейка-озорник, дай-ко молодчику топорик, его почин. Перва его березка.
Мне боязно. Горкин поталкивает – берись. Выбирает мне деревцо. Беленькая красавица березка. Она стояла на бугорке, одна. Шептались ее листочки. Мне стало жалко.
– Крепше держи топорик. В церкву пойдет, молиться, у Троицы поставлю, помечу твою березку… – И он завязывает на ней свой поясок с молитвой. – Да ну, осмелей… ну?..
Он берет мои руки с топориком, повертывает как надо, ударяет. Березка дрожит, сухо звенит листочками и падает тихо-тихо, будто она задумалась. Я долго стою над ней. А кругом падают другие, слышится дрожь и шелест.
– Давай его на седло, в Черемушки его прокачу! – слышу я крик отца.
И радостно, и страшно. И будто во сне все это.
Ноги мои распялены, прыгаю на тугой подушке, хватаюсь за поводья. Прыгает голова Кавказки, грива жестко хлещет меня в лицо. «Лихо?» – спрашивает отец в макушку, сжимая меня под мышками. Пахнет знакомыми духами флердоранжем, лесом, сырой землей. Не видно неба – светлый густой орешник. «Кукушка… слышишь? – колет отец усами. – «Ку-ку… ку-ку»?» Слышу, совсем далеко. Деревня, стекла на парниках, сады. У голубого домика стоит высокий старик, в накинутом на рубаху полушубке; с ним девочка, в розовом платьице. Здороваются, и отец спрашивает, готов ли его заказ. Мы идем в сад, и старик срезает для нас крупные темные пионы. Отец торопится, надо взглянуть на лодки. Старик говорит девочке: «Жениху-то цветочков дай». Девочка смотрит исподлобья, сосет пальчик. Когда мы садимся ехать, подходят бабы. В ведрах у них сирень, ландыши, незабудки и желтые бубенцы. Старик говорит, что это все к нашему заказу, завтра пришлет поутру. Девочка – у ней синие глазки и светлые, как у куклы, волосы – протягивает мне пучочек ландышков, и все смеются. «Хороший садовод, – говорит мне потом отец, – богатый, а когда-то у дедушки работал». Скачем лесною глушью, опять кукушка… – будто во сне все это.
На дороге наши воза с березками. Отец ссаживает меня и скачет. Мы сворачиваем в село, к Крынкину. Он толстый и высокий, как Василь Василич, в белой рубахе и жилетке. Говорит важно, хлопает Горкина по руке и ведет нас на чистую половину, в галдарейку. Они долго пьют чай из чайников, говорят о делах, о деньгах, о садах, о вишнях и малине, а я все хожу у стекол и смотрю на Москву внизу. Внизу, под окном, деревья, потом река, далеко-далеко внизу, и за рекой – Москва. Нижние стекла разные – синие, золотые, красные. И Москва разная через них. Золотая Москва всех лучше.
– Никак над Москвой-то дождик? – говорит Горкин и открывает окно на галерейке.
Теперь настоящая Москва. Над нею туча, и видно, как сеет дождь, серой косой полоской. Светло за ней, и вот – видно на туче радугу. Стоит над Москвой дуга.
– Так, проходящая… пыль поприбьет маленько. Пора, поедем.
Крынкин говорит: «Постой, гостинчика ему надо». И несет мне тонкую веточку, а на ней две весенние клубнички. Говорит: «Крынкинская, парниковая, с Воробьевки, – и поклончик папашеньке».
Мы едем на березках. Вот и опять Москва, самая настоящая Москва. Я смотрю на веселые клубнички, на березовый хвост за нами, который дрожит листочками… – будто во сне все это.
…Солнце слепит глаза, кто-то отдернул занавеску. Я жмурюсь радостно: Троицын день сегодня! Над моей головой зеленая березка, дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней.
На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букетцы, говорят мне – тебе останется. Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядны, в легких и светлых платьях. На мне тоже белое все, пикейное, и все мне кричат: не обзеленись! Я гуляю по комнатам. Везде у икон березки. И по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще. И пахнет зеленой рощей.
На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли, так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке, только нельзя: костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит: «Молчи, этого никто не может знать!» Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец.
Мы идем все с цветами. У меня ландышки, а в середке большой пион. Ограда у Казанской зеленая, в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок, все задевают головами, раздвигают. Входим как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кой-где мерцает позолотца, серебрецо, – в березках. Теплятся в зелени лампадки. Лики икон, в березках, кажутся мне живыми – глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки: они и на хоругвях, и у распятия, и над свечным ящиком-закутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов – где-то поют в березках. Березки и в алтаре – свешивают листочки над Престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. На амвоне насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь Царскими Вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то… совсем не в церкви! Другое совсем, веселое. Я слышу – поют знакомое: «Свете Тихий», а потом, вдруг, то самое, которое пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное: «Кто Бог велий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, тво-ря-ай чу-де-са-а-а!..»
Я смотрю на Горкина – слышит он? Его голова закинута, он поет. И я пробую петь, шепчу.
Это не наша церковь: это совсем другое, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник, несем цветы, и будет теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там, в алтаре, тоже – совсем другое. Там, в березках, невидимо, смотрит на нас Господь, во Святой Троице, таинственные Три Лика, с посошками. И ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы, грешные, и сама земля, которая теперь живая, и все мы кланяемся Ему, а Он отдыхает под березкой. Он теперь с нами, близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные. Я не могу молиться. Я думаю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, о зеленой чаще… слышу в глуши кукушку, вижу внизу, под небом, маленькую Москву, дождик над ней и радугу. Все это здесь, со мною, пришло с березками: и березовый легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша земля, которая теперь живая, которая – именинница сегодня.
Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит тоже на коленках, на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты. Но его книжечка – на цветах, на скамейке, засыпанной цветами. Молится о грехах? Но какие теперь грехи! Я разбираю травки. Вот это – подорожник, лапкой, это – крапивка, со сладкими белыми цветочками, а эта, как веерок, – манжетка. А вот одуванчик, горький, можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве. В коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно, нет уже никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго: «Молись, не балуй, глупый… слушай, чего читают». Я смотрю на отца, рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы. Лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флердоранжем, даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне. В березке над нами солнышко.
Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывают свечки и медяки, записывают в книгу. Я гуляю по церкви, в густой, перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку, с пояском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка!.. и поясок на ней твой… Горкин!» Они грозятся от ящика – не кричи. Я смотрю на Святую Троицу, а Она, Три Лика, с посошками, смотрит весело на меня.
Я хожу по зеленому, праздничному двору. Большая наша лужа теперь, как прудик, бережки у нее зеленые. Андрейка вкопал березку и разлегся. Ложусь и я, будто на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать, земля именинница сегодня, тревожить не годится, за это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку, но я прошу. «Ну, Господь с вами, – говорит он задумчиво, – а только непорядок это».
После обеда народу никого не остается, везут и меня в Сокольники. Так и стоит наш двор зеленый, тихий до самой ночи. Может быть, и входил Господь? Этого никто не знает, не может знать.
Ночью я просыпаюсь… – гром? В занавесках мигает молния, слышен гром. Я шепчу: «Свят-свят, Господь Саваоф!» – крещусь. Шумит дождик, и все сильней – уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что и «громком, может, погрозится». И вот как верно! Троицын день прошел; начинается Духов день. Потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето благоприятное.
Березка у кивота едва видна, ветки ее поникли. И надо мной березка, шуршит листочками. Святые они, Божьи. Прошел по земле Господь и благословил их и все. Всю землю благословил, и вот – благодать Господня шумит за окнами.
Яблочный спас
Завтра – Преображение, а послезавтра меня повезут куда-то к храму Христа Спасителя, в огромный розовый дом в саду, за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию, и я учу и учу «Священную историю» Афинского. «Завтра» – это только так говорят, а повезут годика через два-три, а говорят «завтра» потому, что экзамен всегда бывает на другой день после Спаса Преображения. Все у нас говорят, что главное – Закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице, но все-таки очень страшно, так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного «щелкуна», который грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в холодок под доски, на кучу стружек, и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка, – скажет, – расскажи мне чего-нибудь из божественного…» Я ему расскажу, и он похвалит.
– Хорошо умеешь, – а выговаривает он на «о», как и все наши плотники, и от этого, что ли, делается мне покойней, – не бось, они тебя возьмут в училищу, ты все знаешь. А вот завтра у нас яблошный Спас… про него умеешь? Та-ак. А яблоки почему кропят? Вот и не так знаешь. Они тебя вспросют, а ты и не скажешь. А сколько у нас Спасов? Вот и опять не так умеешь. Они тебя учнуть вспрашивать, а ты… Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть.
– Да нету же ничего… – говорю я, совсем расстроенный, – написано только, что святят яблоки!
– И кропят. А почему кропят? А-а? Они тебя вспросют – ну, а сколько, скажут, у нас Спасов? А ты и не знаешь. Три Спаса. Первый Спас, – загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный, – медовый Спас, Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно выламывать, пчела не обижается… уж пошабашила. Второй Спас, завтра который вот, – яблошный, Спас-Преображение, яблоки кропят. А почему? А вот. Адам-Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не велено было, от греха! А Христос восшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до окропенья поест, у того в животе червь заведется и холера бывает. А как окроплено, то безо вреда. А третий Спас называется орешный, орехи поспели, после Успенья. У нас в селе крестный ход, икону Спаса носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшке насбираем мешок орехов, а он нам лапши молочной – для розговин. Вот ты им и скажи, и возьмут в училищу.
Преображение Господне… Ласковый, тихий свет от него в душе – доныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, – зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу – не идет ли уж крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко, грушовка в нашем саду, – поспела, закраснелась. Будем ее трясти – для завтра. Горкин утром еще сказал:
– После обеда на Болото с тобой поедем за яблоками.
Такая радость. Отец – староста у Казанской, уже распорядился:
– Вот что, Горкин… Возьмешь на Болоте у Крапивкина яблок мер пять-шесть, для прихожан и ребятам нашим, «бели», что ли… да наблюдных, для освящения, покрасовитей, меру. Для причта еще меры две, почище каких. Протодьякону особо пошлем меру апортовых, покрупней он любит.
– Ондрей Максимыч земляк мне, на совесть даст. Ему и с Курска, и с Волги гонят. А чего для себя прикажете?
– Это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез, астраханский, сахарный.
– Орбузы у него… рассахарные всегда, с подтреском. Самому князю Долгорукову посылает! У него в лобазе золотой диплом висит на стенке под образом, каки орлы-те!.. На всю Москву гремит.
После обеда трясем грушовку. За хозяина – Горкин. Приказчик Василь Василич, хоть у него и стройки, а полчасика выберет – прибежит. Допускают еще, из уважения, только старичка лавочника Трифоныча. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто: лето сухое, деревья поредели и подсохли, много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечики, и кажется, что и от этого треска исходит свет – золотистый, жаркий. Разросшаяся крапива и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро; а обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблони – глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок, и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет к грушовке, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак.
– Погоди, стой… – говорит он, прикидывая глазом. – Я ее легким трясом, на первый сорт. Яблочко квелое у ней… ну, маненько подшибем – ничего, лучше сочком пойдет… а силой не берись!
Он прилаживается и встряхивает, легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов и пронзительно-едкий – от крапивы мешаются со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи, – от яблок. Ползают все, даже грузный Василь Василич, у которого лопнула на спине жилетка, и видно розовую рубаху лодочкой; даже и толстый Трифоныч, весь в муке. Все берут в горсть и нюхают: ааа… гру-шовка!..
Зажмуришься и вдыхаешь – такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко, такая душистая сладость-крепость – со всеми запахами согревшегося сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Нежаркое уже солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях, на яблочках…
И теперь еще, не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушовку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься – и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое, – маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший… с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой и красной смородины, крыжовника виноградного, с пышными лопухами и крапивой, далекий сад… – до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея, – все, до последнего яблочка верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко!.. И двор увидишь, с великой лужей, уже повысохшей, с сухими колеями, с угрязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой… и серые сараи, с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и вознесенную до амбарной крыши гору кулей пузатых, с овсом и солью, слежавшеюся в камень, с прильнувшими цепко голубями, со струйками золотого овсеца… и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки…
– Да пускай, Панкратыч!.. – оттирает плечом Василь Василич, засучив рукава рубахи, – ей-Богу, на стройку надоть!..
– Да постой, голова елова… – не пускает Горкин, – по-бьешь, дуролом, яблочки…
Встряхивает и Василь Василич, словно налетает буря, шумит со свистом, – и сыплются дождем яблочки, по голове, на плечи. Орут плотники на досках: «Эт-та вот тряха-ну-ул, Василь Василич!» Трясет и Трифоныч, и опять Горкин, и еще раз Василь Василич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей.
– Эх, бывало, у нас трясли… зальешься! – вздыхает Василь Василич, застегивая на ходу жилетку. – Да иду, черт вас!..
– Черкается еще, елова голова… на таком деле… – строго говорит Горкин. – Эн еще где хоронится!.. – оглядывает он макушку. – Да не стрясешь… воробьям на розговины пойдет, последышек.
Мы сидим в замятой траве; пахнет последним летом, сухою горечью, яблочным свежим духом; блестят паутинки на крапиве, льются-дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков.
– Осенние-то песни!.. – говорит Горкин грустно. – Про-щай, лето. Подошли Спасы – готовь запасы. У нас ласточки, бывало, на отлете… Надо бы обязательно на Покров домой съездить… да чего там, нет никого.
Сколько уж говорил – и никогда не съездит: привык к месту.
– В Павлове у нас яблока… пятак мера! – говорит Трифоныч. – А яблоко-то какое… па-влов-ское!
Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев в ушки. Выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге:
- Крива-крива ручка,
- Кто даст – тот князь,
- Кто не даст – тот соба-чий глаз.
- Собачий глаз! Собачий глаз!
Горкин отмахивается, лягается:
– Ма-хонькие, что ли… Приходи завтра к Казанской – дам и пару.
Запрягают в полок Кривую. Ее держат из уважения, но на Болото и она дотащит. Встряхивает до кишок на ямках, и это такое удовольствие! С нами огромные корзины, одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке белой – Спаса-в-Наливках, мимо желтеющего в низочке Марона, мимо краснеющего далеко, за Полянским рынком, Григория Неокесарийского. И везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги. И все дремлет: белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья, за заборчиками с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожих на голубые гречневички, бурые фонари, плетущиеся извозчики. Небо какое-то пыльное, – «от парева», – позевывая, говорит Горкин. Попадается толстый купец на извозчике, во всю пролетку, в ногах у него корзина с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно.
– Староста Лощенов с Шаболовки, мясник. Жадный, три меры всего. А мы с тобой закупим боле десяти, на всю пятерку.
Вот и Канава, с застоявшейся радужной водою. За ней, над низкими крышами и садами, горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и Болото, по низинке, – великая площадь торга, каменные «ряды», дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными снетками, судаками, яблоками… Далеко слышен сладкий и острый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблока. Голубятся стайками голубки. Куда ни гляди – рогожа да солома.
– Бо-льшой нонче привоз, урожай на яблоки, – говорит Горкин, – поест яблочков Москва наша.
Мы проезжаем по лабазам, в яблочном сладком духе. Молодцы вспарывают тюки с соломой, золотится над ними пыль. Вот и лабаз Крапивкина.
– Горкину-Панкратычу! – дергает картузом Крапивкин, с седой бородой, широкий. – А я-то думал – пропал наш козел, а он вон он, седа бородка!
Здороваются за руку. Крапивкин пьет чай на ящике. Медный зеленоватый чайник, толстый стакан граненый. Горкин отказывается вежливо: только пили, – хоть мы и не пили. Крапивкин не уступает: «Палка на палку – плохо, а чай на чай – Якиманская, качай!» Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого, в соломке, глядятся яблочки. «С яблочными духами чаек пьем!» – подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник, они пьют долго и разговаривают как следует. Называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу уже третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов на соломенных жгутиках-виточках по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дыньки, висит старый тяжелый образ в серебряном окладе, горит лампадка. Яблоки по всему лабазу, на соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы – привезли ящики с машины. Наконец подымаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта: вот белый налив – «если глядеть на солнышко, как фонарик!» – вот ананасное-царское, красное, как кумач, вот анисовое монастырское, вот титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневое, восковое, бель, ростовка-сладкая, горьковка.
– Наблюдных-то?.. показистей тебе надо… – задумывается Крапивкин. – Хозяину потрафить надо?.. Боровок крепонек еще, поповка некрасовита…
– Да ты мне, Ондрей Максимыч, – ласково говорит Горкин, – покрасовитей каких, парадных. Павловку, что ли… или эту, вот как ее?
– Этой не-ту, – смеется Крапивкин, – а и есть, да тебе не съесть! Эй, открой, с Курска которые, за дорогу утомились, очень хороши будут…
– А вот поманежней будто, – нашаривает в соломе Горкин, – опорт, никак?..
– Выше сорт, чем опорт, называется – кампорт!
– Ссыпай меру. Архирейские прямо… как раз на окропление.
– Глазок-то у тебя!.. В Успенский взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем, Анфи-теятрову! Проповеди знаменито говорит, слыхал небось?
– Как не слыхать… золотое слово!
Горкин набирает для народа бели и россыпи мер восемь. Берет и причту титовки, и апорту для протодьякона, и арбуз сахарный, «каких нет нигде». А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков, с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы – пахнет полями и деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу и радостные «китайские», щечки и хвостики их из щелок, вспоминаю их горечь-сладость, их сочный треск и чувствую, как кислит во рту. Оставляем Кривую у лабаза и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам.
– Павловка, а? мелковата только?..
– Сама она, купец. Крупней не бывает нашей. Три гривенника полмеры.
– Ну что ты мне, елова голова, болясы точишь!.. Что я, не ярославский, что ли? У нас на Волге – гривенник такие.
– С нашей-то Волги версты до-лги! Я сам из-под Кинешмы.
И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Ловкач парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин и у него покупает меру.
Пора домой, скоро ко всенощной. Солнце уже косится. Вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Иван-Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки, плавятся здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки.
Едем полегоньку, с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо: такое оно спокойное, так бы и улетел в него.
Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви – не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков изломившейся белой лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают по плечам, над головами, идут к иконам – передаются – к «Празднику!». Проплывают над головами узелочки – все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины на амвоне, «обкадятся», – сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным – свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, весело – будто гости, и церковь – совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и принесли их – посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: «Ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!» И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть – Преображение.
Приходит Горкин и говорит: «Пойдем, сейчас окропление самое начнется». В руках у него красный узелок – «своих». Отец все считает деньги, а мы идем. Ставят канунный столик. Золотой-голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторожем тащат с амвона знакомые корзины, подвигают «под окропление, поближе». Все суетятся, весело, – совсем не церковь. Священники и дьякон в необыкновенных ризах, которые называются «яблочные», – так говорит мне Горкин. Конечно, яблочные! По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки, и груши, и виноград, – зеленое, золотое, голубое: отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освящают воду. Потом старший, в лиловой камилавке, читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде – необыкновенную, веселую молитву – и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкают и тут, и там, отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки… Идут ко кресту. Дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый дьякон, нарочно будто, три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях. Певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их – живей проходи, не засть! Они клянчат: «Дай яблочка-то еще, Горкин… Мишке три дал!..» Дают и нищим на паперти. Народ редеет. В церкви видны надавленные огрызочки, «сердечки». Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом – и морщится.
– С кваском… – говорит он, морщась и скосив глаз, и трясется его бородка. – А приятно, ко времени-то, кропленое…
Вечером он находит меня у досок, на стружках. Я читаю «Священную историю».
– А ты не бось, ты теперь все знаешь. Они тебя вспросют про Спас или, там, как-почему яблоко кропят, а ты им строгай и строгай… в училищу и впустят. Вот погляди вот!..
Он так покойно смотрит в мои глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогож и теса, так радостно отчего-то мне, что я схватываю охапку стружек, бросаю ее кверху, – и сыплется золотистый, кудрявый дождь. И вдруг начинает во мне покалывать – от непонятной ли радости или от яблоков, без счета съеденных в этот день, – начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное – что в училище меня впустят, непременно впустят!
Рождество
Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же… Не поймешь чего – подскажет сердце.
Как будто я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он – редко, выпадет – и стаял. А у нас повалит – свету, бывало, не видать, дня на три. Все завалит. На улицах – сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях – вот сколько снегу! С крыш свисает. Висит – и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай – увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно. Только в мороз визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса… – вот радость!..
Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, – скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче – белугу, осетрину, судачка, наважку; победней – селедку, сомовину, леща… У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество – свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, – мороженые свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, – разводы розовые видно, снежком запорошило.
А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит; туманно, дымно. И тянутся обозы – к Рождеству. Обоз? Ну, будто поезд… только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек – «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь… Знаешь – рябчик? Пестренький такой, рябой… – ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется – дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат!.. Здесь редко видишь, а у нас – обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного товару, ситцу – и домой, чугункой. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес-то и лошади к продаже своих заводов, с косяков степных.
Перед Рождеством на Конной площади в Москве – там лошадями торговали – стон стоит. А площадь эта… – как бы тебе сказать?.. – да попросторней будет, чем… знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся – в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи – как дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да… с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает… – розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, – наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед свининой – поросячий ряд, на версту. А там – гусиный, куриный, утка, глухари-тетерки, рябчик… Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия – без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни – большие сани, – везут-смеются. Горой навалят: поросят, свинины, солонины, баранины… Богато жили.
Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях – лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, – тычинки. У нашей елки… как отогреется, расправит лапы, – чаща. На Театральной площади, бывало, – лес. Стоят в снегу. А снег повалит – потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках – будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сла-дкий сбитень! калачики горячи!..» В самоварах, на долгих дужках, – сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем – душисто, сладко. Стакан – копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, – пальцы жжет. На снежку, в лесу… приятно! Потягиваешь понемножку, а пар – клубами, как из паровоза. Калачик – льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо – в дыму – лиловое, в огне. На елках иней. Мерзлая ворона попадется, наступишь – хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а… тепло!..
В Сочельник, под Рождество, – бывало, до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы, с медом; взвар – из чернослива, груши, шепталы… Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто – дар Христу. Ну… будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь – звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон – другая… Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени.
А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь – резанет, ожжет морозом. А звезды!.. На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут – голубой хрусталь, и синий, и зеленый, – в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды – звон-то! Морозный, гулкий – прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят – древний звон, степенный, с глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала… – гул и гул.
Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок – мороз и не щиплет. Выйдешь – певучий звон. И звезды. Калитку тронешь – так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице – сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух… – синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий – плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних – Рождество.
Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый… – и почему-то видится кроватка, звезды.
- Рождество Твое, Христе Боже наш,
- Воссия мирови Свет Разума…
И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный… был всегда. И будет.
На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жмется. За мерзлым стеклышком – знакомый Ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка… осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет. Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вот она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год – над этим садом, низко. Она голубоватая. Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти – придешь туда. Вот прийти бы… и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он – в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне… Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь – и думаешь: «Волсви же со Звездою путеше-эствуют!..»
Волсви?.. Значит – мудрецы, волхвы. А маленький я думал – волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, – думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься… Видишь – кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой манит?.. Да, и волков… всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам… и пастухи, склонились… и цари, волхвы… И вот подходят волки. Их у нас в России много!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им… злые такие были. Ты спрашиваешь – впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды… все звезды там, у входа, толпятся, светят… Кто, волки? Ну, конечно, рады.
Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки…
Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой… Крикнешь в конуру: «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полижет руку, будто скажет: да, Рождество. И – на душе тепло, от счастья.
Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедем… Народу сколько завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать, скажет: «Выкормочек мой… растешь»… Подбитый барин придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить стихи. Я помню:
- И пусть ничто-с за этот праздник
- Не омрачает торжества!
- Поднес почтительно-с проказник
- В сей день Христова Рождества!
В кухне на полу рогожи, пылает печь. Теплится лампадка. На лавке: в окоренке оттаивает поросенок, весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита: стоит?.. Только под Рождество бывает. Огромная, во всю плиту, – свинья! Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках, рылом в кухню. Только сейчас втащили – блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит… Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется – свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!» Смотрю я долго. В черном рыле – оскаленные зубки, «пятак» как плошка. А вдруг соскочит и загрызет?.. Как-то она загромыхала ночью, напугала.
И в доме – Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. Окна совсем замерзли. Отблескивают огоньки лампадок – тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, – другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки-звездочки, в лесу как будто… А завтра!..
А вот и – завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклах наросло буграми. Солнце над Барминихиным двором – в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мо-роз!..
Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить… Все мои друзья: сапожниковы, скорнячата. Впереди Зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит «славить». Мишка Драп несет звезду на палке – картонный домик, светятся окошки из бумажек, пунцовые и золотые, – свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом.
– Волхи же со Звездою питушествуют! – весело говорит Зола.
- Волхов приючайте,
- Святое стречайте,
- Пришло Рождество,
- Начинаем торжество!
- С нами Звезда идет,
- Молитву поет…
Он взмахивает черным пальцем, и начинают хором:
- Рождество Твое, Христе Боже наш…
Совсем непохоже на Звезду, но все равно. Мишка Драп машет домиком, показывает, как Звезда кланяется Солнцу Правды. Васька, мой друг, сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плешкин в золотой короне, с картонным мечом серебряным.
– Это у нас будет царь Кастинкин, который царю Ироду голову отсекет! – говорит Зола. – Сейчас будет святое приставление! – Он схватывает Драпа за голову и устанавливает, как стул. – А кузнечонок у нас царь Ирод будет!
Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи, на голове зеленый колпак со звездами.
– Подымай меч выше! – кричит Зола. – А ты, Степка, зубы оскаль страшней! Это я от баушки еще знаю, от старины!
Плешкин взмахивает мечом. Кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы. И все начинают хором:
- Приходили вол-хи,
- Приносили бол-хи,
- Приходили вол-хари,
- Приносили бол-хари,
- Ирод ты, Ирод,
- Чего ты родился,
- Чего не хрестился,
- Я царь Ка-стинкин,
- Маладенца люблю,
- Тебе голову срублю!
Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, и Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком. Васька подает царю Кастинкину розу. Зола говорит скороговоркой:
– Издох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа славим-носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут – не бросим!
Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он утирается седой бородкой и обещает зайти вечерком спеть про Ирода «подлинней», но никогда почему-то не приходит.
Позванивает в парадном колокольчик и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке, до серебряной звездочки наверху.
Приходят-уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крякают.
Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, промерзшие. Такой там грохот, словно разбивают стекла. Это – «последние люди», музыканты, пришли поздравить.
– Береги шубы! – кричат в передней.
Впереди выступает длинный, с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький, маленький, с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты все играют и играют.
Вот уже и проходит день. Вот уж и елка горит – и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье… – должно быть, в кухне.
В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними – звезды. Светит большая звезда над Барминихиным садом, но это совсем другая. А та, святая, ушла. До будущего года.
Святки
Птицы Божьи
Рождество…
Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне —
- Христос рождается – славите!
- Христос с небес – срящите! —
слышится хруст морозный.
Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад – в глубоком снегу – светлеет, голубеет. Вот побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро праздника, – Рождество.
В детстве таким явилось – и осталось.
Они являлись на Рождество. Может быть, приходили и на Пасху, но на Пасху – не удивительно. А на Рождество такие трескучие морозы… а они являлись в каких-то матерчатых ботинках, в летних пальтишках без пуговиц и в кофтах и не могли говорить от холода, а прыгали все у печки и дули в сизые кулаки – это осталось в памяти.
– А где они живут? – спрашиваю я няню.
– За окнами.
За окнами… За окнами – чернота и снег.
– А почему у кормилицы сын мошенник?
– Потому. Мороз вон в окошко смотрит.
Черные окна в елочках, там мороз. И все они там, за окнами.
– А завтра они придут?
– Придут. Всегда приходят об Рождестве. Спи.
А вот и завтра. Оно пришло, после ночной метели, в морозе, в солнце. У меня защипало пальцы в пуховых варежках и заломило ноги в заячьих сапожках, пока шел от обедни к дому, а они уже подбираются: скрып-скрып-скрып. Вон уж кто-то шмыгнул в ворота, не Пискун ли?
Приходят «со всех концов». Проходят с черного хода, крадучись. Я украдкой сбегаю в кухню. Широкая печь пылает. Какие запахи! Пахнет мясными пирогами, жирными щами со свининой, гусем и поросенком с кашей… – после поста так сладко. Это густые запахи Рождества, домашние. Священные – в церкви были. В льдинках искристых окон плющится колко солнце. И все-то праздничное, на кухне даже: на полу новые рогожи, добела выскоблены лавки, блещет сосновый стол, выбелен потолок и стены, у двери вороха соломы – не дуло чтобы. Жарко, светло и сытно.