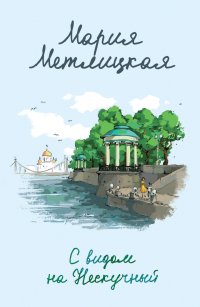Читать онлайн Все, что мы когда-то любили бесплатно
- Все книги автора: Мария Метлицкая
© Метлицкая М., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Все, что мы когда-то любили
Он двигался так же стремительно, как и двадцать лет назад. Или почти так же. Это была походка мужчины в самом расцвете сил, а не старика за семьдесят. И только ей были заметны крошечные изменения: чуть-чуть, почти незаметно, он стал по-стариковски пришаркивать и почти исчезла прежняя легкая пружинистость, когда казалось, что он идет не по земле, а немного «над» и вот- вот взлетит.
Да, никакой пружинистости не было. А все остальное было по-прежнему. Красивое мускулистое тело – видно даже под фирменным желтым поло. Ни грамма возрастного жирка, плоский живот и бока, красивые стройные ноги – молодой позавидует, – загар, рост, густые седые волосы, в общем, красавец.
Анна сидела за дальним столиком все того же кафе, где они встречались последние несколько лет. Сидела и нервничала, как перед первым свиданием.
Свободным оказался единственный столик под высоченным раскидистым платаном, и ее, маленькую и хрупкую – воробышка, как он ее называл, – попробуй заметь.
Он остановился, прищурился и стал озираться по сторонам.
«Пижон, – усмехнулась она. – Надень нормальные очки, старый пень, ведь ни черта не видишь!»
Но нет, очки он не надел, зато снял модные дорогущие солнцезащитные и наконец увидел ее. На его красивом загорелом лице расплылась блаженная улыбка. Он радостно замахал ей и, лавируя между столиками, стал пробираться к ее столу.
– Ну наконец-то, – облегченно выдохнул он, плюхнувшись на плетеный стул. – Ты нарочно так спряталась?
Она развела руками – дескать, сам видишь, как плотно все забито! Время ланча, что поделать.
– Перекусишь или только кофе? – заботливо спросила она.
– Перекусить? – задумчиво повторил он. – Наверное, нет, только кофе. Попробую дожить до обеда.
– Доживешь, – улыбнулась она, отпивая из чашки остывший, с осевшей пенкой капучино. – Как дорога? Доехал легко?
– Без происшествий – уже хорошо! – кивнул он, ища глазами официантку. – Немного застрял в горах возле Локарно, но это обычная история.
– Устал? – спросила она, точно зная, что он ответит.
– Немного, – неожиданно ответил он.
Ее брови взлетели вверх: ого! Впервые он признавался, что устал!
И тут она разглядела его глаза, красные от усталости, и опущенные уголки красивого рта, и почти белые брови – кажется, в прошлом году они были пегими. Или он их подкрашивал? Нет, вряд ли, это совсем не его.
Официантка, совсем молодая девочка, с большими, немного коровьими глазами, ослепительно улыбнулась и угодливо заглянула ему в глаза.
– Двойной эспрессо, – сказал он.
– И все же возьми сэндвич, – посоветовала Анна. – До обеда еще далеко.
– Ладно, сэндвич с соленым лососем, – согласился он. – Только прошу, никакого майонеза! Лосось, помидор и хаса! Тьфу, салат! – поправился он.
– Сэндвичи у нас готовые, их привозят с основной кухни, и все с майонезом, простите! – растерялась девица.
– Милая! – Он поднял глаза и пару минут изучал ее. – Сделайте так, как я вас прошу! Уверен, это в ваших силах!
Окончательно смутившись и покраснев, официантка застрочила в своем блокноте.
– А ты, Марек, по-прежнему производишь неизгладимое впечатление на женщин! – рассмеялась Анна. – И наверняка тебя это радует.
Досадливо махнув рукой, он скривился:
– А, перестань! Осталось совсем мало вещей, способных меня порадовать. А уж это… – И он снова махнул рукой.
Но чудеса – минут через десять на стол аккуратно и торжественно был поставлен именно тот сэндвич, который он попросил, – тост, копченый лосось, тонко нарезанный помидор и листья салата.
Счастливая официантка вежливо поклонилась.
Как же красиво он ел! Анна всегда любовалась. Правда, он все делал красиво – ел, спал, ходил, слушал музыку, читал книгу, одевался. И откуда такой аристократизм? Непонятно. Никаких дворян, графов и шляхтичей в его семье не было. Хотя кто знает – может, когда-то и согрешила прабабка с каким-нибудь важным паном, и правнуку это передалось.
Слева от их столика пышным цветом цвела желтая акация. Справа – кустарник с белыми пахучими цветами. Как он называется, этот кустарник? Ах да, это же жасмин! Что стало с памятью, боже! Но самое интересное – все то, что хотелось бы забыть и не вспоминать, в памяти держалось так крепко и цепко, что было ясно – это с ней навсегда.
Она глянула на него – тоненький листик салата повис на нижней губе. Да, старческая неряшливость никого не минует. И она протянула ему салфетку.
– Ну, ты доволен? – улыбнулась она.
Откинувшись на спинку стула, он кивнул и посмотрел на часы:
– Ого! Через десять минут у меня первый визит к врачу!
– Успеешь, – успокоила его она. – А кстати, ты придумал, на что будешь жаловаться?
Похоже, он немного обиделся – дурачок! Не понимает, какое это счастье в их возрасте – не иметь жалоб на здоровье!
– Ты думаешь, мне не на что пожаловаться? – обиженно сказал он. – У меня, между прочим, болит плечо! – Он на секунду задумался: – Правое, да. И еще, ты знаешь, я стал уставать. Казалось бы, не с чего, а устаю.
– Это возраст, мой дорогой! – улыбнулась Анна. – И он, увы, никого не минует. Даже таких крепышей, как ты. Это нормально, Марек, зря ты расстраиваешься. Ей-богу, зря!
«Нет, все-таки он удивительное явление природы, – подумала она. – Что называется, редкий экземпляр».
– Ну я, пожалуй, пойду. – Он поднялся. – Встретимся на обеде. Кстати, качество питания осталось на том же уровне?
– Все нормально, очень прилично. Хотя повар, кажется, поменялся.
Волоокая официантка, стоящая неподалеку, смотрела на него во все глаза.
– Ну вот, – усмехнулась Анна. – Кажется, ты разбил очередное женское сердце!
Он огляделся по сторонам и недовольно буркнул:
– Хватит делать из меня престарелого ловеласа. Кажется, я им не был даже в далекой молодости!
Действительно, ловеласом и бабником он никогда не был – был верным. Хотя бабы кружились вокруг, как осы над миской с вареньем: еще бы, такая фактура! Как говорила ее сестра Амалия, помесь Жана Маре и Жана Габена. Она смотрела ему вслед. Волоокая официантка тоже.
«Дурочка! Он же старик! – качнув головой, усмехнулась Анна и тут же вздохнула: – Бедная Шира! Он говорил, что она ревнивица».
* * *
Они с Мареком встретились, когда Анне едва исполнилось восемнадцать. Ей восемнадцать, ему девятнадцать – сущие дети.
Почему он обратил на нее внимание? Красотой она не блистала, ничего примечательного, обычная девушка. Смешные рыжеватые пружинки волос, карие глаза, чуть вздернутый нос и куча веснушек, словно солнце бросило ей на лицо целую пригоршню солнечных лучиков. К тому же крошка, крохотуля, Дюймовочка – метр пятьдесят четыре. Недоросток, послевоенное дитя. Тоненькая как веточка. Ножки, ручки, шейка – все как у подростка. Кроме одного – груди. Вот грудь ей досталась солидная – третий номер при прочих параметрах!
Выглядело это немного комично, и она яростно с этим боролась – надевала тесные лифчики, распашные рубашки и платья. Но грудь, высокая и пышная, прятаться не хотела и нагло лезла наружу.
– Чем я тебе понравилась? – спрашивала она его. – Нет, ну правда! Даже Маля куда красивее, чем я! Про всех остальных я и не говорю! Помнишь Монику? Ну, ту высокую блондинку с сиреневыми глазами? А Эву Полянски? Что, тоже не помнишь? Темненькая такая, зеленоглазая, с пухлыми ножками?
– Моника? – рассеянно переспрашивал он. – Нет, не помню. А Эва твоя – никакая. К тому же кривляка. А ты, Аннушка…
У нее замирало сердце.
– А ты, – повторял он, – ты смешная, Аня! Смешная, забавная и настоящая. И еще я очень люблю кудрявых и рыжих!
Вот этого было в избытке – и рыжести ее, и кудрявости. Была ли она смешной? Немного сомнительный комплимент для девушки.
А то, что она настоящая – что он имеет в виду? Что значит «настоящая»? А все остальные – искусственные?
Ну ладно, хватит к нему приставать. Да и вообще, ей достался самый красивый, лучший парень в городе. И нечего мучиться дурацкими вопросами! Любят ведь не за что-то, правильно? Любят, потому что… Любят.
Анна знала, что он ее любит. Знала и чувствовала. Интуиция у нее была о-го-го. И она его любила. Как? Ей-богу, смешно! Все эпитеты казались ей ужасно пошлыми – до безумия, до остолбенения, до дрожи в ногах, до безрассудства, до смерти. До какой смерти, о чем вы? Они так молоды и только встретились. И впереди у них долгая, длинная и счастливая жизнь.
Анна готова была на все – уехать за тридевять земель, жить в шалаше, есть пустой хлеб, ходить в обносках, ухаживать за ним, умереть ради него – всё, достаточно?
Была весна, и любимый город пах свежестью, распустившейся сиренью, дождем, влажной листвой, масляной краской, которой обновляли скамейки. Город пах жизнью, надеждой, свободой, любовью. Потому что закончилась война, потому что весна.
Каждый вечер он ждал ее у калитки.
Семья Анны жила в крошечном собственном домике на окраине города: три комнатки плюс кухонька и сарайчик с садовым инвентарем в саду. Впрочем, какой там сад? Слишком громкое слово. Это был палисадник, и он тоже был маленьким, кукольным – две яблоньки, вишня, остальное цветы. Цветы заполняли все пространство – вдоль узенькой дорожки от калитки к крыльцу росли пионы, астры, хризантемы, флоксы, гладиолусы, мускарии и бархотки. Они щекотали коленки и голени, а после дождя мокрые цветы склоняли головы, и у Анны всегда промокали туфли и гольфы.
Цветы разводила Анна, она их обожала. Но кроме любви и удовольствия они приносили доход. Громко сказано, но девочкой Анна собирала букеты и продавала их на перекрестке. Копейки, а все же помощь – жили тяжело, голодно. Послевоенное время, вдова и две дочери. Женское царство – мама, Амалия и она, Анна. Отец погиб в сорок четвертом. Милейший, тишайший и добрейший человек. После похоронки мама замкнулась, замолчала. Нет, обязанности свои она выполняла – в доме всегда была еда и стерильная чистота. Весь дом в вышитых и вязаных скатертях и салфетках – пани Тереза постоянно вязала. «Чтобы не сойти с ума», – говорила она.
Денег катастрофически не хватало, зарплата у мамы-бухгалтера была крошечной. Окончив восьмилетку, старшая, Амалия, устроилась нянечкой в детский сад. Стало немного полегче, но по-прежнему считали каждую копейку.
Окончив десятилетку, Анна собралась на работу, но мать заставила ее поступать в институт. «Хоть одна из моих дочерей должна получить образование, – твердила пани Тереза. – К тому же ты, Анна, умница и светлая голова!»
Это была чистая правда – любой предмет давался Анне легко, будь то математика или литература. «Очень способная девочка, – говорили про Анну учителя. – Пани Малиновски, Аннушка обязана продолжить учебу».
Амалия обиделась. А кто бы на ее месте не обиделся? Ей выливать горшки и подтирать детские задницы, а младшенькая – студентка! Институт – это новая, интересная жизнь, молодежные компании и симпатичные парни, свидания и влюбленности, а дальше – хорошая работа, уважение и хорошее жалованье. А женихи? Где, скажите на милость, взять в детском саду кавалера? Будущее Амалии было туманным, скорее всего, ее ждала участь старой девы.
Мама Анной гордится, а что гордиться Амалией?
Зато Амалия развела огород. Правда, за него пришлось побороться – рыжая вредина не хотела отдавать и полметра земли! Ничего, справилась! Еще бы не справиться с этой малявкой!
Хотя огород – это смешно. Иметь настоящий площадь не позволяла. Но у забора на аккуратных, словно игрушечных, грядках росли укроп и сельдерей, клубника и огурцы, кабачки и даже картошка. И пусть всего было ничтожно мало, но Амалия с гордостью резала салат из собственной редиски и зеленого лука и со стуком ставила на стол миску с первой клубникой.
Правда, мама это не оценила – возни много, а толку чуть! Да и цветы куда красивее: цветы – удовольствие, а твоя морковка толщиной с волос. И так всегда – у маленькой все хорошо, а у нее, у старшей, все вечно не так. А ведь Амалия думает о хлебе насущном, а студентка витает в облаках, огород ее не интересует. Зато клубнику и редиску трескает за милую душу, но продолжает возиться со своими цветами! А что от них толку?
По вечерам, когда Анна торопливо выбегала на свидание, Амалия с завистью смотрела в окно.
«Счастливая, – вздыхала она. – И парень такой высоченный и, кажется, симпатичный. Правда, скромный – в дом так ни разу и не зашел. А эта дурочка влюбилась по уши – краснеет, бледнеет, кусает губы. Даже ресницы накрасила! А все равно смешная – нелепая, маленькая, как подросток. И совсем некрасивая».
– Не завидуй, – поймав завистливый взгляд старшей дочери, бросила мать. – Никто не знает, какая кого ждет судьба.
Как в воду глядела.
Все – правда. Разве мог кто-то предвидеть, что ждет беспечную, веселую и счастливую Анну? Ой, не дай бог. Не дай бог пережить то, что досталось сестрице. Бедная, бедная Анна, а все так хорошо начиналось…
Что делают влюбленные? Влюбленные гуляют по улицам, сидят в парках и скверах, едят мороженое, бегают в кино и ходят на танцы. И, конечно, без конца целуются и обнимаются.
Встав на цыпочки, Анна тянулась к любимому. Он легко брал ее на руки:
– Воробушек! Ты мой воробушек, совсем невесомая. Надо тебя покормить!
И они шли в любимое кафе, где ели бублики, булочки, запивая все это горячим кофе, но Анна все равно оставалась худышкой.
Ее любимый Марек, оказалось, из богатой семьи – ничего себе, а? Отец – известный дантист с собственным кабинетом. Жили они в самом сердце города, у рыночной площади, где селились очень обеспеченные люди. К тому же у них была домработница, а хозяйка дома, мама Марека, никогда не работала.
– А что же она делает день напролет? – удивлялась Анна. – Ей не скучно?
– Что ты, – смеялся Марек. – Ей всегда не хватает времени. Встает она не раньше полудня. Потом пьет кофе и разговаривает по телефону. Дает указания Зосе, нашей работнице. Потом едет к портнихе или в магазин. Дальше встречается в кафе с подружками, пани Маркевич и пани Вайсман. И они снова пьют кофе, едят пирожные, обсуждают наряды и сплетничают. А когда наговорятся – дело к вечеру. В общем, домой она возвращается уставшая, и ей надо срочно прилечь. Вечером приходит отец, и начинается ужин. А там недалеко и до сна. Но перед сном опять телефон, и снова пани Маркевич и пани Вайсман, просмотр журналов мод, легкое чтение и – бай-бай, матушка утомилась!
– И так каждый день? – не могла поверить Анна. – Нет, так можно рехнуться.
Он пожимал плечами:
– Она так привыкла. – Кажется, ему становилось неловко, и он добавлял: – Нет, еще они ходят в театр, в кино и в гости и иногда принимают у себя. А это, знаешь, тоже работа, – шутил он. – В общем, жизнь насыщенна и многообразна! Правда, – тут Марек хмурился, – мама часто болеет и подолгу лежит в больнице. У нее было страшное детство, погибла вся семья и родня, и это, конечно же, не прошло бесследно.
Анна сочувственно кивала: болезни – это ужасно. Ее мама приходила с работы с темными синяками под глазами и жаловалась, что слепнет от цифр – мелких, как назойливые мухи. И Анна видела, как мама устает. А мама крепкая, сильная женщина. Нет, замечательно, что мама Марека может не ходить на службу! И здорово, что пан Ванькович, его отец, хорошо зарабатывает! А пани Тереза, Аннина мама, получив жалованье, садилась за стол и с тяжелым вздохом принималась раскладывать деньги – за электричество, на новые чулки, сколько можно штопать старые, на мясо, на подарки к Рождеству. И каждый раз у нее становились мокрыми глаза.
Да, все живут по-разному, такая вот правда жизни. Но если бы был жив папа, все было бы совсем по-другому! Всё! И мама была бы веселой и неплаксивой, и они бы не покупали свиные обрезки с жилами, а покупали настоящие куски мяса и запекали бы его в духовке, как делали раньше, до войны, как любил папа – с чесноком, розмарином и мелкими картофелинами.
Нет, тушеная капуста или картошка с обрезками были тоже вкусными, но большой, истекающий соком кусок мяса Анне снился ночами.
Месяцев через восемь пани Тереза не выдержала:
– И где твой кавалер, Аннушка? И, кстати, какие у него намерения? Он что-то вообще говорит?
– Говорит, – пролепетала смущенная Анна, – говорит, что любит меня.
Амалия расхохоталась:
– Ну ты и дурочка, Анна! Мама имеет в виду совершенно другое.
Анна уставилась на сестру.
– Не понимаешь?
Амалия скривила презрительную гримасу:
– Он замуж тебя зовет или как? Или вы просто…
– Зовет, – перебила ее Анна, – говорит, что жить без меня не может и что мы обязательно будем вместе.
– Да? – желчно осведомилась сестра. – Ну знаешь, это как-то расплывчато… В этом деле, дорогая, нужна конкретность!
– Ну конечно, ты у нас самая умная и самая опытная, – не выдержала мама, видя, как потухла младшая дочь. – Раз есть разговоры на эту тему – уже хорошо. Ну не самой же Анне делать ему предложение!
Но самое смешное, что через два дня, ровно через два дня, как будто подслушал их разговор, Марек сделал ей предложение.
– Замуж? – переспросила Анна, вспыхнувшая от смущения. – А твои родители в курсе?
– Пока нет, – нарочито бодро ответил он. – Но, кажется, сначала полагается попросить руки у родителей невесты?
– Если честно, то я не знаю, – прошептала Анна. – Такое со мной в первый раз.
Марек в голос расхохотался:
– Со мной, между прочим, тоже! И опыта у меня никакого, поверь.
И вдруг Анна расплакалась.
Растерянный и перепуганный, Марек крепко сжимал ее в своих объятиях и целовал мокрое, зареванное лицо.
Чуть позже, когда она успокоилась, он отодвинул ее от себя и с тревогой спросил:
– Ну а вообще? Ты согласна?
Конечно, она была согласна, еще бы! Такого, как Марек… Таких больше нет на всем белом свете – ни одного, даже не стоит искать! В этом Анна была уверена.
В первые же выходные было назначено знакомство с мамой и сестрой. И началась суета – пани Тереза пересчитывала деньги и охала, что на хороший стол точно не хватит.
– Ой, а еще же вино! Или шампанское? Что пьют на помолвку? Или это не помолвка, а просто знакомство? Матка боска, что делать, с кем посоветоваться? – бормотала она. – С соседями или с сотрудницами? Нет, только не это. А вдруг все сорвется? Как тогда? Языки у всех с километр, понесут по знакомым: младшая Малиновски выходит замуж. Еще старшую не отдали, а тут эта малявка! А закуска, а горячее? А посуда? Сервиз совсем плох, тарелки со сколами, скатерть старая, обтрепанная – стыдоба. А он из приличной семьи! И осталось всего-то три дня! Нет, они ничего не успеют! Не успеют и предстанут перед женихом неряхами и ободранками!
Но кое-как все разрешилось. На столе лежали кружевные салфетки, сервиз одолжили у соседа, одинокого вдовца, которому было не жалко посуды: «На что она мне, милая пани?»
И отлично подошло тесто, и знаменитые пирожки с вишнями и капустой получились отменными, и картофельные клецки не расползлись, и селедка оказалась малосоленой, а свекла – сладкой. Но самое главное – мясо! Вечером в пятницу, под самый конец базара, пани Малиновски отхватила замечательный кусок свиной шеи. Это была большая удача!
И теперь, издавая немыслимый аромат, нашпигованная чесноком и морковью шея шкворчала и шипела в духовке.
Шампанское отменили, остановились на вине. В конце концов, мы не французы, да и времена сейчас не самые сытые. В общем, к приему жениха все были готовы.
Ах, как нелепо выглядел ее жених – белая узковатая рубашка, черные брюки, приглаженные влажные кудри, но самое главное – галстук! Нелепейший голубой галстук с желтыми горошинами и блестящим отливом!
Она смотрела на него и хохотала:
– Ну какой же ты смешной, Марек!
Он немного обиделся:
– Я же старался… – Но галстук с удовольствием стянул и с облегчением сунул в карман.
В руках он держал большой букет желтых тюльпанов и какой-то бумажный сверток.
– Что это? – спросила Анна.
– Кекс с изюмом к чаю, – растерялся он. – А что, не надо было?
– Сойдет, – вздохнула Анна. – Но мама готовится серьезно: и пирожки напекла, и эклеры.
Переглянувшись, они взялись за руки и наконец вошли в дом. В доме пахло праздничной, давно позабытой едой.
Анна прикрыла глаза и втянула забытые запахи – когда это было? Нет, дни рождения, разумеется, отмечали, но скромно и без размаха – пирог с яблоками или с вареньем, салатик и голубцы. В голубцы можно положить совсем немного мяса и много риса.
В прихожую вышла Амалия, в лучшем платье, с круто завитыми локонами, подкрашенными ресницами и губами. Красавица. Следом появилась и мама – ее единственное старенькое праздничное платье было прикрыто передником. От мамы пахло ванилью и тестом.
После обычных приветствий сели за стол.
Амалия с интересом разглядывала будущего родственника. В ее голубых круглых глазах читалось удивление, которое она и не собиралась скрывать, – ну ничего себе, а? Эта пигалица, эта соплячка – и ухватила такого кавалера, такого красавца? Ну где справедливость, ей-богу? Она, Амалия, высокая, стройная, длинноногая и красивая, сидит сиднем и, скорее всего, останется на бобах. А эта малявка… А Марек и вправду красавчик. Ничего не скажешь – просто писаный красавчик. И, кажется, скромный, воспитанный. Вот повезло.
Разговор почему-то не клеился. Смущаясь, пани Тереза слишком настойчиво предлагала то одно блюдо, то другое. Смущался и Марек – от настойчивости хозяйки, от слишком пристального и насмешливого взгляда сестрицы Амалии, от странных вопросов будущей тещи: «А в каком районе вы живете? А чем занимаются ваши родители?»
Анна хихикала и дергала его за руку. Они переглядывались, и больше всего им хотелось поскорее сбежать. Но Марек собрался с духом и попросил Анниной руки.
За столом воцарилось молчание.
– Рановато, конечно, – хриплым от волнения голосом сказала пани Тереза. – Даже не рановато, а рано! Второй курс, Анна совсем ребенок.
Пани Тереза громко вздохнула.
Марек испуганно глянул на Анну.
– Но раз вы решили, – снова вздохнула пани Тереза, – возражать я не стану.
Пробормотав «спасибо», Марек крепко сжал руку Анны.
Сбросив напряжение и, кажется, успокоившись, будущая теща принялась обсуждать свадьбу и считать гостей. И тут официальный жених окончательно растерялся.
– Все-все, – успокоила его пани Тереза. – Конечно, я не права: и стол, и количество гостей мы будем обсуждать с вашей матушкой, верно? Молодые тут ни при чем.
– Еще чуть-чуть, – шепнула ему Анна. – Сейчас горячее, а потом кофе – и все, мы свободны! Час от силы, не больше, терпи!
Жених удрученно кивнул.
Плавно и торжественно выплыв из кухни, пани Малиновски водрузила на стол блюдо с запеченной свиной шеей. По комнате поплыли вкуснейшие запахи жареного мяса, чеснока и трав. Анна потянула носом.
Отрезав большой, сочный, розоватый внутри и блестящий снаружи кусище, хозяйка протянула тарелку гостю. Вытянув шею, Марек посмотрел на содержимое тарелки, отпрянул, вздохнул и пробормотал:
– Простите, пани Тереза, но… Это свинина, верно?
Удивленная, пани молча кивнула.
– Простите, – повторил гость, – я свинину не ем. Я очень ценю ваши хлопоты, да и мясо выглядит просто роскошно, но сто раз простите! И, кстати, – он делано оживился, – я уже объелся! Ваши пирожки и салаты – это какое-то чудо!
За столом воцарилась мертвая тишина.
Анна с испугом смотрела на мать. Пани Малиновски пыталась взять себя в руки, но, кажется, это не получалось. Удар был нанесен в самое сердце – как ей досталось это мясо! Как отрывала она от сердца деньги, отложенные на туфли для Амалии! Как боялась, что оно пересохнет или не будет достаточно мягким! Как гордилась, что основным блюдом будет запеченная шея! Но она взяла себя в руки:
– А-а-а, – с пониманием протянула она, – у вас проблемы с желудком? Вы не переносите свинину, это слишком жирно, верно?
Ситуацию можно было спасти. Но нет, не получилось.
Неблагодарный жених покачал головой:
– Нет, уважаемая пани. С желудком у меня все нормально. Просто… – Ища поддержки, Марек коротко глянул на Анну. – В нашем доме не принято есть свинину. Мой прадед был раввином. Его я, разумеется, не помню, прадед, как и вся остальная семья, погибли в Освенциме. Мы не соблюдаем все так, как было когда-то, да и мой отец чистокровный поляк. Но свинина в нашем доме… Ее не бывает. Мама даже не переносит ее вида и запаха. Простите, но это привычка.
Анна взяла любимого за руку.
Амалия переводила взгляд с матери на сестру. Лицо пани Терезы пошло красными пятнами, но она нашла в себе силы улыбнуться.
– Теперь все понятно, – сказала она. – Слава богу, что вы здоровы! А виновата во всем, – она сурово глянула на младшую дочь, – наша Анна! Это она должна была сказать, предупредить! В конце концов, я могла запечь петуха. Если бы удалось его достать… – пробормотала она.
– Извините, – повторил Марек.
– Я не знала, – тихо проговорила Анна. – Прости, мама, но я правда не знала.
Ситуацию спасла Амалия:
– Ну вы как хотите, а лично я приступаю к горячему!
Все понемногу приходили в себя, только пани Тереза бросала на Анну укоризненные взгляды.
Потом были кофе и мамины эклеры, а вот кекс, принесенный будущим зятем, пани Тереза на стол не поставила – развернув бумагу, брезгливо отодвинула его в сторону – отомстила.
Распрощавшись, молодые выскочили на улицу. Выйдя за калитку и взявшись за руки, почему-то бросились бежать. Бежали, пока не задохнулись. Остановившись, Марек крепко прижал ее к себе.
– Подвел я тебя, а, Аннушка? Сильно подвел?
– Какие глупости! – воскликнула Анна. – Мама права: это я должна была спросить тебя, что ты любишь и вообще что ты ешь. Лично у меня от жирного ночью болит живот. Вот и отлично – в нашем доме не будет свинины. Ну что, в кино или в парк?
– Подожди, – остановил он ее, – скажи… только честно! То, что я сегодня сказал, никак не повлияет на нашу свадьбу?
– Ты о чем? – улыбнулась Анна. – О том, что ты не ешь свинину?
– Ты понимаешь, о чем я говорю, – нахмурился он. – Не притворяйся.
– Конечно, понимаю, – кивнула она. – Марек, ну конечно же, нет! Мама расстроилась из-за мяса, а не из-за того, что ты еврей. Как ты мог такое подумать? Но я тебя понимаю, – тихо добавила Анна, – у тебя есть все основания.
Они долго молчали. Спустя какое-то время он улыбнулся:
– А знаешь, мне кажется, что все равно все прошло неплохо, ну если бы не это дурацкое мясо! И мама у тебя славная, и сестра. А вот тебя, Аннушка, ждет испытание посильнее. Моя матушка дама сложная, и это мягко говоря. С отцом все проще, он очень занят и много работает. Честно говоря, ему до меня нет никакого дела. И эти разговоры про свадьбу, стол и родню… Ох, Аннушка… Не знаю, что из этого выйдет. Моя мать человек сложный и странный, в ее жизни было много горя и слез. Страшная судьба, страшная. И ее нынешняя жизнь, как мне кажется, ее праздный образ жизни – компенсация за страдания. Но в любом случае с ней будет непросто.
– Скажи, – тихо спросила Анна, – а она… не будет против того, что я не…
– Нет, – перебил ее Марек, – вот здесь точно нет! Мой отец – поляк, а не еврей. И я думаю, она специально вышла замуж не за еврея. Как-то она сказала: не хочу, чтобы мой ребенок страдал так, как я, не хочу, чтобы он носил еврейскую фамилию. Она хотела вырваться из этого горестного круга, не слышать разговоры про гетто и концлагеря, забыть все, как ужасный сон, забыть погибших близких. В общем, отдалиться от того, что с ними случилось. Ей казалось, что это возможно… Мы не отмечаем еврейские праздники, но каждую неделю у себя в комнате она зажигает субботние свечи. Не молится – во всяком случае, я этого не видел. И все же на Песах, самый главный еврейский праздник, на нашем столе лежат горькая зелень и хрен, символы горечи египетского рабства, маца, пресный хлеб, куриное крылышко и отварное яйцо. И мы выпиваем четыре бокала вина. Пожалуй, это все, что осталось от ее прошлого. Да, и еще: в нашем доме не бывает свинины – Эстер не переносит ее вида и запаха. Это все с детства, впитано с кровью. А в остальном мама вполне светская дама!
– Я понимаю, – кивнула Анна. – А когда мы пойдем к твоим?
– Я тебе скажу, – запечалился Марек. – Не думаю, что будет просто договориться.
* * *
Анна сидела в роскошном зале ресторана и посматривала на дверь. Марек опаздывал.
Отель-санаторий располагался в старинном особняке XIX века. Конечно, его перестроили, но к старине здесь относились серьезно и все, что смогли, сберегли. В холлах стояла старинная, обитая натуральным шелком мебель, узкие английские книжные шкафы с книгами на разных языках, журнальные столики на гнутых затейливых ножках. В солнечные дни стекла причудливых окон горели витражами модного в начале ХХ века ар-нуво. В ухоженном парке били фонтанчики, окруженные амурами с отбитыми носами и пухлыми, не всегда целыми пальцами.
Но самым роскошным был ресторан с мраморными колоннами, с лепниной на потолке, с инкрустированным полом. В каждом углу стояли огромные, полные свежих цветов вазы. Неслышно, словно скользящие конькобежцы, мелькали услужливые, понимающие все с полувзгляда стройные официанты.
Анна пила холодный яблочный сок и смотрела на часы. Ну вот наконец: близоруко щурясь, Марек оглядывал зал.
Анна помахала ему рукой.
Он направлялся к их столику. Анна смотрела на бывшего мужа. Да, пожалуй, не только она – пара вполне молодых, к сорока, женщин, модных и ухоженных, проводили его долгим и заинтересованным взглядом.
«Бедная Шира! – в который раз подумала Анна. – Впрочем, эти истории не про Марека. Хотя… кто его знает? Как говорится, седина в голову, бес в ребро. Но это уже не мое дело. Слава богу, что не мое».
– Ты заказала? – присаживаясь, спросил он.
– Только суп, – ответила Анна. – А уж горячее сам. Откуда мне знать, что ты захочешь?
– Аннушка, – укоризненно ответил он. – Мои вкусы не изменились, они так же примитивны и незатейливы, как и сорок лет назад.
Подошел официант и, вежливо поклонившись, поставил на стол две глубокие тарелки с горячим супом и объявил:
– Уха из трех сортов рыбы. Приятного аппетита! Да, господин, что вы желаете на горячее?
Уха была хороша. Мясо, которое выбрал господин, тоже. Анна ела курицу.
– Почему не мясо? – удивился он. – Ты же так любишь мясо!
Анна грустно усмехнулась:
– Ну какой же ты недогадливый! Не у всех в наши годы свои зубы и не все могут жевать жареное мясо.
Его брови взлетели вверх – кажется, он искренне удивился.
– Ну как твои процедуры? – спросила она. – Ты доволен?
Неопределенно пожав плечами, он сделал глоток воды.
– Доволен, недоволен – какая разница? Я приехал сюда не за процедурами.
Анна молчала.
– Я приехал сюда за тишиной, – продолжил он, – за сервисом, хорошей едой и видом Карпат из окна. И еще, – улыбнулся он, – и самое главное, чтобы увидеть тебя.
Анна смутилась, покраснела как девочка и, уткнувшись в тарелку с фруктовым салатом, сердито пробурчала:
– Вот уж истинная радость – увидеть меня! Впору позавидовать, честное слово!
Он нежно погладил ее по руке.
После обеда гуляли в парке. Немного прошлись и присели на скамейку в тени густой старой липы, неподалеку от фонтанчика с купидоном.
– Ну рассказывай, – потребовала она, – и все по порядку! Про детей, про Ширу, про бизнес. И главное – про себя!
– Сначала ты, – запротестовал он. – Ты первая!
Анна вздохнула.
– Мне нечего рассказывать, Марек. В моей жизни нет никаких изменений. Все ровно так же, как было в прошлом году. – Анна задумалась. – И ты знаешь, я очень этому рада!
Он принялся рассказывать ей про детей, сына и дочь, и был недоволен обоими: сын – бездельник и прожигатель жизни, типичный представитель золотой молодежи, на уме одни гулянки и ночные клубы, в общем, история знакомая и невеселая.
– Парень он неплохой, добрый и даже чувствительный, но стержня в нем нет, странно, правда? Ведь я и Шира… Совсем другие. В общем, вряд ли из него что-то получится. А Эстер… здесь тоже все непонятно. Никаких стремлений, понимаешь? Вообще никаких! Нет, она хорошая, но… странная она получилась – ни за руль не садится, ни карьеры не хочет. В кого она, а? Точно не в мать. Ты же знаешь, Шира – страшная карьеристка, человек жесткий, самодостаточный. А эта хочет замуж и кучу детей. Всё! В общем, Аннушка, упустили мы своих детей. Надо честно признать, что неправильно их воспитали.
– Глупости, – горячо возразила Анна. – Просто у каждого свой путь, вот и все! То, что Эстер такая домашняя, это прекрасно! А что Илан оболтус – так и это нормально! Ты же сам говоришь: парень добрый, душевный! Сердце есть, а это главное. Что бездельник – так жизнь ему позволяет! А если припрет, не дай бог, разумеется, все будет нормально, поверь! Просто у твоих детей, – Анна немного запнулась, – все было с самого детства. А это, как понимаешь, расслабляет.
– Спасибо тебе, – со вздохом откликнулся он. – Но знаешь… Я часто думаю… если бы Мальчик… Он точно бы был другим! Потому, что у него была ты.
– Оставь, – резко остановила его она. – Ради бога, оставь. Это бессмысленно.
– Прости, – кивнул Марек. – Просто я привык, что могу сказать тебе все.
* * *
Анна ожидала расспросов и укоров, но, странное дело, и мать, и сестра молчали. Амалия только хмыкнула:
– Ну и красавчика ты себе нашла! Не боязно идти за такого?
– Не боязно, – ответила Анна. – Дело в человеке, в его душе, а не во внешних данных.
Амалия усмехнулась.
Через неделю было назначено знакомство с родителями Марека.
Анна нервничала – еще бы! Во-первых, понимала: красотой она не блещет, а мать такого красавца наверняка хочет красивую невестку. Да и, наверное, каждая мать считает, что ее сыночка недостойна любая, даже самая красивая, самая умная, самая богатая, с самой лучшей родословной. А здесь ничего из этого списка не было – ни красоты, ни богатства, ни уж тем более родословной. Семья наладчика швейных машинок и бухгалтера, скромнее не бывает. А что касается ума, так наверняка светскую даму это не очень заботит, да и взгляд на этот вопрос у каждого свой.
Марек успокаивал ее и говорил, что запретить ему никто ничего не сможет, к тому же родители его живут своей жизнью, и жизнь сына их не очень заботит. Последнее утешало.
Странное дело: первое знакомство Анны с будущей свекровью произошло в кафе.
Накануне мать сказала Мареку: «В три часа я буду в кафе с Эвой, пары часов нам вполне хватит, ты же знаешь, какая она зануда, так что подходите к пяти, я уже буду свободна. А отцу скажи сам. Только вряд ли он сможет, у него вечерний прием».
– Вот видишь, – расхохотался Марек, успокаивая Анну. – Бояться тебе нечего. Их и я не очень волную, а про мою невесту и говорить нечего! В общем, Аннушка, пустая формальность, светская встреча, чашка кофе, разговор о погоде.
Обескураженная, Анна не нашла что сказать.
В дорогом и модном кафе, в которое, конечно, Анна никогда не заглядывала, было полно народу. Разговоры и смех тонули в плотном, слоистом табачном дыму. Пахло кофе, ванилью, корицей, хорошим табаком и изысканными духами. Негромко играл тапер, внимания на него не обращали.
Анна растерянно застыла на пороге. Марек вглядывался в посетителей. Увидев матушку, он взял Анну за руку и потащил за собой. Анна еле за ним поспевала.
За столиком у окна сидела моложавая, очень худая и бледная дама. На тонком, резко очерченном лице горели огромные черные глаза. Изящный, с горбинкой нос, узкие губы накрашены красной помадой. Красивой она не была, но было в ней то, что гораздо важнее красоты: ее лицо, а особенно глаза тревожили и притягивали. Черные, блестящие волосы, стянутые в плотный и низкий пучок, разделял четкий и ровный пробор. На длинной, пожалуй, слишком длинной шее была бархотка с большой грушевидной жемчужиной. Пальцы пани Эстер были покрыты кольцами, хрупкие запястья увешаны браслетами. Тонкие черные брови сведены к переносице, глаза смотрели печально и тревожно, а на красивых губах дрожала натянутая улыбка.
«Странно, – подумала Анна. – Я представляла ее совершенно иначе».
Увидев сына и его девушку, дама улыбнулась. Улыбка была натужная, светская, но, как говорится, спасибо и за это.
Анна и Марек присели за стол и заказали кофе с пирожными. «Они здесь великолепны, – отрекомендовала дама. – И мазурка, и кремувка».
Разговор не клеился. Смущенная, Анна не поднимала глаз от чашки, неловко ковыряла пирожное, не замечая его отменного вкуса, а Марек был растерян и поглядывал на дверь – ждал отца.
– Ждешь напрасно, он не придет, – усмехнулась будущая свекровь. – У него «очень важный пациент». Ну так что? – Закурив новую сигарету, пани Эстер посмотрела на Анну. – Значит, вы решили пожениться?
Вздрогнув, ища поддержки, Анна бросила умоляющий взгляд на Марека.
– Да, – слишком резко ответил он. – Мы так решили.
– Ваше право и ваш выбор. Ничего комментировать я не буду. Но у меня есть несколько пожеланий.
Анна опять уставилась в чашку.
– Итак, – продолжила пани Ванькович, – совместное проживание невозможно. Я могу не озвучивать причины? – обратилась она к будущей невестке.
Анна кивнула.
– Далее, – продолжила она. – Некую сумму мы, безусловно, вам будем давать, но только пока Марек не закончит учебу. И самое главное – никакой свадьбы не будет. Я имею в виду свадьбу с размахом, с кучей родни, рестораном и прочими дурацкими атрибутами. А с вашими родителями, – она с усмешкой посмотрела Анне в глаза, – мы познакомимся перед свадьбой без всякой помпы: чашка кофе в кафе. Вы принимаете мои условия?
Волнуясь, Анна закивала:
– Да, да, разумеется.
– Мама, – расхохотался Марек, – кажется, мы впервые сошлись с тобой во мнениях. Нам с Анной не нужны ни пышная свадьба, ни родственные отношения между вами, ни совместное проживание. Можем подписывать пакт?
Вальяжно откинувшись на стуле, пани Ванькович благосклонно отозвалась:
– Да, можно.
Через полчаса они сидели в парке – притихшая и растерянная невеста и радостный жених.
– Ты расстроилась? – поинтересовался Марек.
– Нет, я удивилась.
– Я тебя предупреждал: у меня странная семья и очень странная матушка. Но что уж есть, верно? В конце концов, здесь определенно имеется преимущество: в нашу семейную жизнь она лезть точно не будет! А это, согласись, очень много!
И Анна наконец улыбнулась.
Спустя много лет, когда пани Эстер тяжело болела и долго, мучительно уходила, она рассказала Анне, что всю жизнь бежала от кошмара, который ей пришлось пережить. Нищета в раннем детстве – семья была многодетной, отец простой сапожник, мама растила детей, – тошнотворный запах ржавой селедки и неистребимый чеснока, вечные заботы матери, как прокормить большую семью, бормотание и поклоны в молитвах отца, субботняя хала, которую ждали как манну, но доставалось всем по небольшому кусочку. В сорок первом они оказались в гетто. Война, гетто, страх поселились на всю оставшуюся жизнь. И голод, голод, который сводил с ума. И снова молитвы отца и слезы матери. А дальше было еще страшнее – началась операция «Кракау» – евреев собирали на площади Згоды и увозили в лагеря смерти.
В сорок третьем в один день не стало большой семьи Авеля Хацкеля – их увезли в Освенцим. Уцелела одна Эстер. Уцелела случайно: спустилась в подвал за остатками проросшей картошки и, услышав крики матери и детей, затаилась.
Отсидев три дня в подвале, Эстер решила бежать. Куда? Насмерть перепуганная тринадцатилетняя девочка не понимала. Добираться в маленькое местечко под Краковом, где жили их дальние родственники? Но выбраться из города не удавалось, везде были патрули. Девочка пряталась по подвалам и помойкам, умирала от голода и жажды, а потом ей несказанно повезло – умирающую, горящую в тифозном бреду, на окраине города ее нашла польская женщина по имени Марта, прислуга доктора Томашевича. Рискуя жизнью, она спрятала Эстер на чердаке, где та провела два года.
Когда все закончилось, истощенная, бледная до синевы, два года не видевшая солнечного света, еле стоявшая на ногах, дрожавшая от любого звука и шума, с вечной дорожкой слез на лице, Эстер вышла из мрака. Доктор Томашевич и его жена, пани Ольга, плача и охая, ругали Марту, что она ничего им не сказала.
Эстер поселили в комнате вместе с Мартой. Впервые за несколько лет она спала на чистом белье, ходила в туалет, а не в ведро и чистила зубы зубным порошком. Она снова училась есть из тарелок, а не из жестяной плошки и пользоваться приборами. Ее роскошные, кишащие вшами волосы Марта остригла еще на чердаке. Но теперь они отрастали.
В пятнадцать лет, придя в себя и немного набрав вес, Эстер превратилась в писаную красавицу.
Томашевичи ее обожали – от пневмонии в начале войны скончалась их младшая дочь Эрика, а единственный сын Томаш еще оставался на фронте.
В конце сорок пятого Томаш Томашевич вернулся домой и без памяти влюбился в красавицу Эстер. Влюбленные были счастливы – наконец-то началась жизнь, нормальная человеческая жизнь со всеми ее атрибутами – воскресными семейными обедами после посещения костела, ужинами по вечерам, походами по многочисленным родственникам, шитьем новых платьев и поцелуями на лестнице – украдкой, не дай бог, увидят родители! Но, узнав обо всем, родители только обрадовались – спасенная еврейская девочка была им родной. Свадьбу назначили на конец мая. А в апреле Томаш попал под поезд.
Тогда Эстер сказала:
– Теперь я поняла: счастье – это не для меня. Мое счастье, мои надежды и моя жизнь закончились в тот день, когда погиб Томаш. Двадцать третьего апреля я умерла.
Свадебное платье и длинную фату Эстер положила в гроб к жениху и дала себе слово, что замуж никогда не выйдет.
Так и не смирившись со смертью сына, вернувшегося с войны и погибшего в мирное время, через год умер доктор Томашевич, вслед за мужем ушла и пани Ольга, а за ней и старая Марта.
В доме, завещанном ей, Эстер осталась одна.
Она уже знала, что никто из ее семьи не выжил, ни один человек – все сгорели в печах Освенцима.
Утопая в своем горе и одиночестве, она год почти не выходила из дома, но однажды словно очнулась. Очнулась и решила, что будет жить – за всех них, за родителей, бабушек и дедов, за погибших сестер и братьев, за соседей с их улицы, за любимых Томашевичей, за старую Марту. За Томаша.
Она не имеет права не жить, раз так получилось.
Продав кое-что из наследства пани Томашевич, Эстер пошила себе пару платьев, купила две пары туфель и шляпку, духи и помаду и пошла в ресторан. На красивую, печальную и одинокую девушку поглядывали с большим интересом. Там, в ресторане, в первый же день она познакомилась с Вацлавом Ваньковичем, приятным и воспитанным молодым человеком, своим будущим мужем. Она его не любила, она по-прежнему думала только о Томаше, но одиночество грызло ее, как голодный волк. По ночам ее продолжали мучить кошмары – темный и сырой подвал, миска с проросшей картошкой, крик матери и плач сестер и братьев, которых уводили на смерть.
Ей снились газовые камеры, печи крематория, горы детских ботиночек и одежды, стоны и крики, и каждую ночь она умирала вместе с родными.
Что говорить, поспешное замужество вернуло ее к жизни. И эта веселая, бурная жизнь закрутила ее, как карусель. Только в чужом веселье, в чаду ресторанов, танцполов и кинотеатров она забывала про свои кошмары.
И еще она знала: если уйдет от Вацлава, точно погибнет. «Другого выхода у меня нет, – твердила она про себя. – Либо он, либо смерть».
Спустя два года она родила сына и назвала его Мареком, Марком, в честь младшего и самого любимого братика.
– Я боялась одного: остановиться, – рассказывала она. – Остановлюсь – и все, меня не будет.
К сыну приставили няню, а молодая мать вернулась в прежнюю бурную жизнь.
Она все так же не могла уснуть без снотворного. Ночь стала для нее врагом, самым главным и трудным испытанием, и, дожидаясь рассвета, она просиживала у окна.
– Как вампир, – горько смеялась она. – Только они ждут ночи, а я – рассвета.
Засыпала Эстер, когда начинало светать, и спала до полудня, а потом начинались «дела» – встречи с подругами, портнихой и косметологом, долгие походы по магазинам. Лишь бы не думать, не думать… Не думать и не вспоминать.
Семейная жизнь, которой она так страшилась, оказалась на удивление необременительной – муж, известный дантист, целыми днями пропадал у себя в кабинете, а вечерами, после ужина, читал газеты, после чего, извинившись, уходил спать. Через восемь лет брака они разъехались по разным спальням, благо жилищные условия это позволяли.
В первый год после разъезда Вацлав еще пытался сблизиться и вести интимную жизнь. Но, слава богу, скоро попытки прекратились – ни Эстер, ни ему это было не нужно.
Потом она узнала, что у него есть любовница, и с пониманием усмехнулась: обычное дело, если жена не спит с мужем.
Любовница была молода, хороша собой и полная противоположность Эстер: пухлая, розовощекая блондинка с ямочками на щеках и задорным взглядом. Все последующие женщины Вацлава были точно отлиты по одному лекалу: такие же пышные и разбитные блондинки. При этом статус-кво соблюдался: в театры и в гости они ходили вместе и крайне редко собирали гостей у себя.
Каждый раз, беря мужа под руку, Эстер отчетливо чувствовала, что этот красивый, высокий, обаятельный и успешный мужчина не просто чужой человек, а человек в ее жизни случайный.
Рождение сына ее не изменило. Марека она любила, он получился на славу, ну всем хорош: и внешностью, и сообразительностью. Только и он стоял в ее жизни как бы немного сбоку – она боялась к нему привыкать. Вырастет и уйдет, думала она. И опять я останусь одна. В общем, трепетной матерью она так и не стала.
Когда Эстер брала сына на руки, тут же перед глазами проплывали лица Моше, Бейлки, Рахель, Иосифа и маленького Марека – ее родных сестер и братьев, сгоревших в Освенциме.
А сколько было двоюродных, троюродных и совсем дальних? Сколько было соседей и жителей их района? Ее подруг, с которыми она играла в куклы, их сестер и братьев, их родителей и дедушек с бабушками, задушенных в газовых камерах и сожженных в печах крематория, закопанных в ямах, попавших под бомбежки, заваленных под руинами, умерших от голода и болезней?
«Я должна жить за них, – как мантру, повторяла она. – Я должна. Я должна радоваться, удивляться, получать удовольствие. Я должна смеяться и любить».
Должна. Но не получалось.
В общем, ни жены, ни матери из нее не вышло. А если бы Томашек не погиб? Если бы они сыграли свадьбу и родили ребенка? Если бы, если бы – дурацкое сослагательное наклонение, как же она его ненавидела!
Ладно, ей ничего не исправить и не на что жаловаться – у нее хороший, здоровый и умный сын. Богатый и уважаемый муж. У них прекрасная, большая квартира, машина, прислуга, и она может позволить себе все что захочется. И не надо гневить Господа Бога!
Вот только Эстер сомневалась, что он существует, если он смог допустить все, что произошло.
То, что ее глупый сын задумал так рано жениться и привел эту некрасивую, но милую и забавную девочку, ее не смутило. Каждый вправе набивать свои шишки. Хотя, конечно, дурак: не понимает, как важно ценить свободу.
Но это его жизнь и его дело, она лезть не будет. Да и красота мало кому приносила счастье, она это знает по себе. По большому счету, да и по малому, ей было наплевать на решение сына. Ей было на все наплевать. И на саму себя в том числе.
Главное – не участвовать во всем этом. Вот от этого точно избавьте!
* * *
После прогулки разошлись по номерам – Анна видела, что Марек тоже устал.
– Встретимся за ужином, – сказала Анна. – Только не опаздывай и не перекладывай на меня свой заказ.
Анна лежала в своем роскошном, богатом номере на прекрасной и удобной, устеленной шелковистым, прохладным бельем двуспальной кровати, но уснуть не могла. Перед глазами проплывали картины их прошлой жизни.
Ох, не забыть бы показать ему фотографии с кладбища – она была там перед самым отъездом, чтобы он увидел, как расцвели мелкие малиновые и белые розы и желто-синие ирисы, посаженные еще в той, прежней жизни. Пусть он порадуется, как густо, прикрывая резную оградку, разросся жасмин. Кладбище старое, сейчас на нем не хоронят. Даже когда умер Мальчик, там уже не хоронили, но свекровь, пани Эстер, все устроила. Она всегда могла все устроить, к тому же деньги – великая сила. А потом там упокоились все: и ее мать, и пани Эстер. Только пан Вацлав лежал на другом – его хоронила молодая жена.
Семейная могила с разрешением последующих захоронений. Как удалось пани Эстер добиться невозможного? А вскоре там ляжет она, Анна. Рядом с Мальчиком, мамой и свекровью. А Марек упокоится на горячей, сухой, насквозь прокаленной солнцем земле – там, где его новый дом. Что ж, все логично.
Пытаясь уснуть, Анна закрыла глаза. Но сон и не думал с ней встретиться…
Их скромная свадьба и нелепое, пошитое мамой, в дурацких жестких кружевах платье грязно-розового цвета из искусственного шелка. Как ей не хотелось его надевать! Но это была бы обида на всю оставшуюся жизнь. А вот от фаты она решительно отказалась, здесь была тверда как гранит. Но пани Тереза не успокоилась и в старом сундуке, стоявшем на чердаке, нашла венок из искусственных цветов, в котором сама выходила замуж.
Пожелтевший и пожухлый венок был жалок и неопрятен, и тут за сестру вступилась Амалия.
– Тогда свадебная прическа! – кричала мать. – Твои распущенные буйные кудри – это совсем неприлично!
Волосы, ее главную красоту, пришлось подобрать и заколоть гребнем.
В мэрии все прошло быстро и гладко.
После церемонии, сославшись на головную боль, сухо попрощавшись и не обняв молодых, вручив ключ от их собственного дома – щедрейший свадебный подарок, – пани Эстер уехала. За ней, пряча глаза и сославшись на прием, смущенно удалился растерянный свекор.
Свадебный стол был накрыт в маленькой гостиной пани Малиновски. Изнемогая от жесткого воротничка белой сорочки и тугого узла отцовского галстука, молодой муж был не в духе. Да и его юная жена мечтала об одном – поскорее скинуть неудобное платье и туфли, освободить из плена волосы и поскорее рухнуть в постель.
Гостей было немного: сосед, пекарь пан Ружинович с женой Софьей, соседка пани Ядя, старая дева с застывшим, словно мертвым, лицом. Мамина подруга Зузанна, бездетная вдова, и дальняя родня из Зеленой Гуры, двоюродный брат отца пан Влодимир с полной и одышливой супругой пани Марией.
Проголодавшиеся гости нахваливали свадебный стол – кулинарка пани Тереза была замечательная. Только ни Анна, ни Марек ничего не ели – кусок не лез в горло. Анна плохо понимала, что происходит, – она вышла замуж и это ее свадьба? А Марек, красавчик Марек, мечта всех девчонок – теперь ее муж? Нет, невозможно! Ее бесценный, красивый, нежный и добрый Марек – ее законный супруг?
– Еще немного, – шепнула она, легонько пожав ему руку, – еще немного, и мы сбежим, слышишь?
Марек со вздохом кивнул и удивился:
– Как это так – сбежать с собственной свадьбы?
Но через пару часов молодая чета, нагруженная коробками с подарками и свертками с едой, заботливо собранной мамой, распрощавшись с гостями, выскочила на улицу.
Мама, прощаясь, плакала, и даже Амалия, обняв сестру, хлюпнула носом.
– Так странно, – сказала она, – что тебя теперь здесь не будет.
– Не горюй, – рассмеялась Анна. – Зато теперь у тебя будет только своя комната и глупая младшая сестра больше не станет хватать твои вещи и мешать тебе спать.
Такси подъехало к их новому жилью, к их первому дому – щедрому подарку пани Эстер.
Анна стояла в маленьком дворике и сквозь наплывшие сумерки пыталась разглядеть сад и дом, отвыкшие от людей. Здесь все лохмато, заброшено, все в разрухе – и покосившийся низкий забор, и беспорядочно и нахально разросшиеся цветы, и давно не стриженные кусты.
Пышные георгины, склонившие тяжелые, словно уставшие к вечеру головы. Темные кусты у забора, дикий виноград, оплетавший крыльцо и козырек над ним. Силуэт домика в глубине сада.
Анна и Марек поднялись по расшатанным, скрипучим ступенькам и открыли входную дверь – домик издал тихий и жалобный стон. Кажется, он был не рад новым хозяевам. Все правильно, он привык к одиночеству и тишине. А чего ждать от этих?
«А сколько здесь всего было, – подумала Анна, – смеха и слез, горя и радости». Когда-то здесь звучали детские крики и плач детей Томашевичей, тихие перебранки взрослых, раздавались звуки поцелуев, здесь страдали от горя и плакали от счастья и витали запахи пирогов и горячего глинтвейна. Здесь была жизнь. А потом все исчезло и замерло. Дом давно привык к одиночеству. А они пришли и побеспокоили его.
– Извини, теперь здесь будем мы, – обращаясь к дому, прошептала Анна. – И ты уж, пожалуйста, нас прими! Мы хорошие, правда, мы тебя не обидим.
Марек обнял ее за плечи.
– Даже мне страшновато, – поежился он.
– Не страшновато, а тревожно, – возразила Анна. – Ну ничего, дом привыкнет к нам, а мы привыкнем к нему. И постараемся ему понравиться.
Марек взял Анну за руку, и они вошли в дом.
Первое, что они почувствовали, – запах сырости, старости, затхлости. Раскрыли окна. Постелили постель.
Продолжая знакомство, Анна бродила по домику – гладила стены, проводила ладонью по мебели, а дом поскрипывал, постанывал, кряхтел как старик, но ей казалось, что как-то по-доброму.
Кое-как разместив еду в стареньком, ворчащем и дребезжащем холодильнике, они наконец улеглись.
– Всё завтра, – прошептал Марек, уткнувшись ей в ухо. – Всё.
– Всё? – удивленно переспросила Анна, и они рассмеялись.
В ту ночь они сразу уснули – день был нелегким и бесконечно длинным. «Наверное, так у всех, – успела подумать Анна. – Не мы первые, не мы последние».
Утром их разбудили бесстыдно галдящие птицы и яркое, ослепительное, нагло рвавшееся в окна июльское солнце.
Анна вскочила с кровати, мельком глянула на крепко спящего мужа, счастливо улыбнулась и, как была, в одной ночной сорочке, босиком, выскочила на крыльцо. Солнце ослепило ее и, зажмурившись, она втянула в себя запахи буйно разросшегося сада и мокрой от росы травы.
Потянувшись окончательно, открыла глаза и замерла от восторга. Да, все было заросшим, неухоженным, диким: цветы, давно вырвавшиеся из огороженных клумб, старые, переплетенные кривыми, корявыми ветками вишни и яблони, которые давно следовало обрезать, изумрудная, влажная трава, бывшая когда-то аккуратным газоном, а теперь просто лугом, лужком с высокой и нежной травой. Яркие анютины глазки, фиолетовые, желтые, бордовые, проглядывали сквозь густые заросли. Алые георгины и разноцветные флоксы, розовые, малиновые, сиреневые и белые, пылали на солнце, источая неповторимый сладостный аромат. У калитки росла невысокая голубая елочка с мягкими, бархатистыми иглами.
«Господи, какая красота! – подумала Анна. – А мы еще сомневались! Какие же мы дураки! И самое главное, у меня снова есть сад! Мой личный сад, где я – полноправная хозяйка».
Поежившись от прохладной влаги, она прошлась босиком по мокрой траве и уткнулась лицом в соцветие флоксов.
«Я самая счастливая! – захлебнувшись в невероятном запахе, подумала она. – Самая-самая! У меня лучший на свете муж, самый прекрасный сад и скоро будет самый красивый и умный ребенок на свете. И наша любовь никогда не закончится. Потому что… Потому что такая любовь бывает нечасто».
Анна вернулась в дом. Марек по-прежнему спал, и она начала инспекцию дома уже при дневном свете.
Да уж… При дневном свете все было не так уж и радужно. Облупившаяся и пожелтевшая штукатурка, выцветшие и отошедшие от стен обои, желтые, в глубоких трещинах потолки, рассохшиеся, растрескавшиеся, скрипучие оконные рамы, облупившийся деревянный пол, покосившиеся, разбухшие двери. Массивный, старинный, покрытый толстым слоем пыли буфет, линялые, в густой паутине занавески, потертый, почти бесцветный ковер, шаткие венские стулья и овальный, покрытый серо-желтой скатертью обеденный стол. Когда-то за ним собиралась семья. Большая и дружная семья доктора Томашевича.
Анна открыла створку буфета. Остро пахнуло сыростью, лежалостью. Жалкие остатки сервиза, стеклянная, с отбитым краем синяя вазочка, в которой лежала обертка от конфеты, мутно-зеленый лафитник для вина, картонная коробка с настольной игрой в лото, стопка пожелтевших льняных салфеток с ришелье по краям. Остатки чужой жизни.
Во второй комнате, спальне, кровать с металлическим изголовьем, на которой счастливо похрапывал ее муж. Маленький комод с пустой коробкой от пудры и флакон с темно-желтой жидкостью – давно выдохшиеся духи. Расческа с тонким светлым волосом, полпачки раскрошившихся пилюль, коробочка со слипшимся порошком. Коврик у кровати, еще один венский стул, на котором валялось ненавистное розовое свадебное платье, и кривоватый платяной шкаф с треснутым зеркалом.
«Это к беде, – вздрогнула Анна. – Шкаф срочно выбросить! Или по крайней мере вынуть разбитое зеркало».
Следующая комната когда-то была детской. Узенькая кровать, застеленная одеялом с вышитыми медведями, наволочка с нежным кружевом – Анна провела по ней рукой. Деревянный ящик с игрушками – машинка, кубики, остатки конструктора. На подоконнике сидел плюшевый заяц – грустный, лопоухий и одноглазый. Анна погладила его по пыльной шерстке. «Как тебя звали? – подумала она. – Ежи, Влодек? А может быть, Михаль? Наверняка тебя обожал твой хозяин, и по ночам ты спал с ним в обнимку». Анна вздрогнула – на стене висела большая фотография в белой рамке. Полноватая миловидная женщина в жемчужных бусах и пышном кружевном воротнике на темном, видимо, бархатном платье и кряжистый, серьезный мужчина в чесучовом костюме и в галстуке с крупной булавкой, а между ними кудрявый мальчик лет пяти-шести, разумеется, в матроске. Все улыбались. В руках мальчуган держал знакомого зайца, тогда еще двуглазого и не облезлого.
Анна поторопилась выйти из детской.
Дальше была кухонька, крошечная, метров в пять, с поржавевшим, но работающим холодильником, белым столом и тремя белыми стульями, печкой и открытыми полками, на которых стояли пустые банки для круп. На дне одной их них сиротливо валялись несколько крупинок гречневой крупы, а в другой – пара сухих горошин черного перца. И только банка с лавровым листом была почти полной.
Из кухоньки вела дверь в туалет. Он тоже был крошечным, не развернуться. Унитаз в ржавых подтеках, маленькая раковина, полная мертвых мух, полотенце, висевшее на крючке, и голубой тазик, прислоненный к стенке, – когда-то в нем или стирали, или мыли ноги.
«Ничего, – бодро подумала Анна, – порядок мы наведем. Подкрасим, побелим, и будет красота! Наш первый дом… Наш с Мареком дом. А главное, у маленького будет своя комната, и коляска целый день будет стоять в саду. Правда, неизвестно, как тут будет зимой. Пусть наши зимы теплые, но сырые, дождливые, влажные, а бывает и очень приличный мороз. Ладно, разберемся, до зимы еще далеко, но печку проверить надо».
Порядок навели – и покрасили, и побелили. И как могли, отмыли туалет и, спасибо маме, повесили новые шторки.
Анне не терпелось заняться садом, но осенью началась учеба, а Марек устроился на подработку.
Сейчас было главным утеплить дом и починить печь, скоро осень, а за ней и зима.
Эти бытовые мелочи их не расстраивали – еще чего! В молодости к ним относишься легко – подумаешь, потек кран или засорился слив в туалете! Правда, денег было в обрез, да что там – их всегда не хватало. Кончались они, как ни странно, внезапно. Вчера еще оставались, а сегодня пусто.
– Чу2дная у них способность, у этих денег, испаряются, как летучий газ, – смеялись они.
Тогда их все веселило и все умиляло.
Как же они были счастливы! Как они друг друга любили!
* * *
Во сколько она уснула? В пять или раньше? Какая разница? Проснувшись, посмотрела в окно и удивилась: ого!
За окном были сумерки. «Ну вы и поспали, дорогая пани! Вот она, старость». Вздохнув, Анна медленно сползла с постели. Главное – медленно и аккуратно. Сейчас, в ее возрасте, появился главный навязчивый страх – упасть.
Не упасть, чтобы не сломать что-нибудь. Главное – чтобы уцелела шейка бедра, основная напасть пожилых людей, этого Анна боялась больше всего. Все остальные многочисленные страшные и неизлечимые болезни она отодвинула. Знала: если, не дай бог, что, выход есть, и она к нему давно подготовилась. «Выход» лежал в верхнем ящике прикроватной тумбочки, запрятанный глубоко-глубоко, упакованный в непрозрачный мешочек из парфюмерного магазина и завернутый в носовой платок. Двадцать двояковыпуклых небольших желтоватых таблеток. Уточняла – да, хватит. Точно хватит. Хватит и десяти, но чтобы уж наверняка…
Прекрасная смерть – выпить все двадцать и тихо уснуть. Лучше и не придумать! Без страданий, без мук, без привлечения посторонних. Как здорово она все придумала. Нет, нет, это, как говорится, на крайний случай. Самый крайний и безнадежный, потому что огромный тяжелый грех, Анна знает. Просто не желает быть обузой. Да и кому ей быть обузой? Амалия сама еле жива, к тому же ухаживает за старым и тяжелобольным мужем. Марек… Смешно. При чем тут вообще Марек? Тыща лет как они расстались, и тридцать лет у него другая семья. Да и живет он в другой стране. Конечно, он бы точно ее не бросил, они друзья. Самые близкие друзья, родные люди. Марек не из тех, кто бросает своих. Да и любовь их, и молодость, и общую беду – разве это можно вычеркнуть из памяти? Марек оплатил бы лучшую клинику, нашел лучших врачей, устроил в хороший пансионат, нанял постоянную сиделку. Вот только Анну этот вариант не устраивал.
Она встала с кровати, и тут же раздался телефонный звонок.
– Ну где ты? – Голос недовольный и раздраженный. – Я уже полчаса в ресторане!
– Извини, – залепетала она. – Так крепко уснула! Сейчас-сейчас, – бормотала она, – через десять минут я внизу.
Умывшись холодной водой, глянула на себя в зеркало. Старуха. Сколько морщин, господи! А эти полумертвые глаза? Как у дохлой рыбы, ей-богу. А темные, тяжелые мешки под глазами? Фу, омерзительно.
Она никогда не была красавицей. Миловидной, симпатичной, забавной, не более. А старость ломает даже красавиц, что говорить про нее?
Печально вздохнув и быстро одевшись, Анна поспешила вниз, в ресторан. Там было забито до отказа. На балконе играл дуэт братьев-цыган, скрипка и фортепьяно. Работали братья в этом отеле давно, лет пятнадцать. Начинали совсем мальчишками, а сейчас это были взрослые, пополневшие и поседевшие, солидные дядьки.
Увидев ее, Марек помахал рукой. На лице по-прежнему недовольная мина.
– Извини, – повторила Анна, – сама такого не ожидала.
Он все еще злился.
– Послушай, – усмехнулась она, – и ты еще обижаешься? Я жду тебя ежедневно на завтрак, обед и ужин! И, заметь, не менее пятнадцати минут. И это еще хорошо! Но стоило мне один раз опоздать! И вообще, устраивай сцены своей жене! Можем вовсе друг друга не ждать, а питаться отдельно!
– Да я давно уже не злюсь, – испуганно ответил Марек. – Извини. Просто настроение паршивое. – В знак примирения он погладил ее по руке.
Подошел официант, и обстановка сама собой разрядилась.
После ужина пошли прогуляться в городок. Крошечный центр давно привели в порядок – туристическое место, кафешки, мороженое, сувенирные магазины, аптеки. Присели за столик знакомой и любимой кофейни. Два капучино, печенье с корицей, порция мороженого – здесь оно было отменным.
– Ну, – наконец спросила Анна, – и из-за чего у тебя паршивое настроение? Бизнес, дети, Шира? Кто провинился?
Марек махнул рукой:
– Да бог с ними со всеми! Все как всегда. Дочка собирается в Индию – местная молодежь обожает туда мотаться. А там, сама знаешь: грязь, микробы, болезни. В общем, сходим с ума. И знаешь, как у них модно? Жить в хижинах – не приведи бог в хорошем отеле, – есть на улице, шариться по самым глухим углам! И вся эта милая поездочка, называемая в народе «инфаркт для родителей», предусмотрена минимум на четыре месяца! Не на неделю, Аннушка! И не на две! А на четыре месяца! А то и на полгода! Ну скажи, как это вынести? Тем более Эти такая домашняя и совершенно не приспособлена к трудностям.
Анна сочувственно посмотрела на Марека:
– Да уж, сюрприз…
– Нет, – махнул он рукой, – никакого сюрприза. Мы с ужасом этого ждали. Обычно они срываются в эту чертову Индию сразу после службы, типа оторваться и сменить обстановку. Я все понимаю, конечно. Но разве мало на свете других интересных стран, цивилизованных, защищенных, спокойных? Так нет же, подавай им эк-зо-ти-ку! – Он с отвращением, по слогам произнес это невинное слово и с горечью продолжил: – Так вот, после армии нас пронесло. Мы думали, все, проскочили, не будет никакой Индии и никаких инфарктов. Так не же, прется, черт ее подери! Дура упрямая, каменная башка, вся в свою мать.
Анна усмехнулась:
– Ну знаешь… Ты тоже не очень сговорчивый! А Индия – интереснейшая страна. И знаешь, их можно понять. В молодости ничего не страшно, если ты помнишь, конечно. – Анна лукаво улыбнулась. – Ты прав, мир огромен, и кроме Индии есть много всего интересного, а любая экзотика опасна. Но ехать в добрую старую Европу им неохота. Вы их давно туда свозили и все показали. Разве не так?
Он молча кивнул.
– И вообще, зачем думать о плохом? Вот прямо сразу и о самом страшном? Думай о том, как ей будет интересно! Сколько необычного она повидает! Как наберется впечатлений на всю оставшуюся жизнь! Хотя, конечно. – Вздохнув, она повторила: – Я вас понимаю. И все же придется с этим смириться. Разве мы в этом возрасте слушали своих родителей? Ну! – Она потрепала его по руке. – Или у тебя Альцгеймер, Марек?
Они гуляли по главной торговой улице, рассматривали витрины, и Марек все спрашивал:
– Тебе это нравится? А это? Смотри, какой красивый жакет! Ручная работа! Красивый и теплый, ты всегда любила вязаные вещи.
– Отстань, – смеялась она. – У меня столько тряпья – до смерти не сносить! Одно утешает – там столько нового, что хватит одеть половину пансиона мерзнущих старичков!
Устав, они присели на скамейку, и она подумала, что обратный путь пройти будет не так уж и просто, так сильно разболелась нога.
Она слышала, как в кармане его брюк вибрирует телефон, и каждый раз он морщится. Шира. Да уж, она умеет достать. Ревнует. Молодая, красивая, умная. А ревнует. Дурочка. Куда он денется от нее? От нее и от всего остального? Да и к кому ревновать? К хромой, морщинистой и несчастной старухе?
«Никакая она не умная, я погорячилась. Может, в работе и умная, а в жизни полная дура. Бедный Марек. Не повезло. Хотя как сказать – Шира родила ему двух здоровых детей».
До отеля еле доплелись. Марек все пытался подстроиться под медленный шаг Анны, но сбивался и улетал вперед. У двери ее номера не выдержал:
– Послушай, ну сколько можно мучиться? Нет, я все понимаю – операция в нашем возрасте… И все же, Аннушка! Лучше пережить операцию, восстановиться и быть человеком! Господи, что я несу! Человеком ты будешь в любом случае… Прости.
Смутился. Страшно смутился.
Она рассмеялась:
– Боже, Марек! Но это же не буквально, я понимаю! Но нет и нет. Ухаживать за мной некому. Амалия и так давно превратилась в сиделку. Повесить на ее плечи еще меня? Нет, извини. А твое предложение по поводу постоянной сиделки – тоже нет, Марек! Ты знаешь, я не смогу ужиться с посторонним человеком. Не ужиться, а существовать, не так выразилась.
– Ужиться ты сможешь с любым. Если уж ты подружилась с моей матерью и даже смогла ее полюбить…
* * *
Участия в их жизни Эстер не принимала.
– Счастье, – твердила Амалия. – Свекровь не проверяет твои шкафы и не лезет в кастрюли! Знаешь, как у Боженки? Не знаешь! – торжествовала Амалия. – Эта старая сука вламывается среди дня и белым платком протирает поверхности. А потом лезет в кастрюли – все ли по правилам, все ли, что любит ее сыночек? Почему сырники подгорели? Почему тесто плохо взошло? Почему рубашка не накрахмалена? Вот и представь – ты бы это терпела?
Анна смеялась – представить Эстер, сующую нос в кастрюлю? Нет, невозможно, Амалия права.
Через полгода Анна забеременела.
С родителями мужа они встречались раз в месяц на семейном обеде. Иногда в центре города, чтобы выпить кофе. Семейные обеды проходили практически молча. Закуска, поднятые за всеобщее здоровье бокалы, первое, горячее, десерт. Позвякивали приборы, раздавались редкие просьбы передать соль или сахар. Старинная скатерть в бесценных фламандских кружевах – Анна до дрожи боялась что-нибудь капнуть или уронить, – тончайшая лиможская посуда, серебряные приборы.
Свекровь ела мало, про таких говорят «клюет как птичка». А беременную Анну пробирал жуткий аппетит. Особенно хотелось жареного мяса и сладкого. Еле удерживала себя, чтобы не попросить третий кусок сливового торта.
Свекор ел с аппетитом, увлеченно, как здоровый, полный сил мужчина. Изредка вставляя фразы про политику, кажется, только из приличия пытаясь вступить в полемику. Но и это не получалось – Эстер политика не занимала, Анна ничего в ней не смыслила, а Марек, кажется, просто не хотел говорить на эту тему. Скорее всего, из вредности. Будет спор про политику – точно выйдет раздор, и Анна его умоляла не спорить.
После вкусного, но крайне утомительного обеда свекровь уходила к себе. И каждый раз повторялась коронная фраза: «Боже, нельзя столько есть!» Все молча переглядывались и переводили взгляд в ее тарелку. Кусочек куриного крылышка, пара стеблей спаржи и пара кружков отварной моркови. Чашка кофе и чайная ложка сливового торта.
Однажды она позвала Анну к себе. Анна с тревогой посмотрела на мужа – Марек пожал плечами.
По длинному и темному коридору Анна шла почему-то на цыпочках, словно боясь поскользнуться на блестящем, как лед, недавно натертом паркете. Комнату свекрови, в которую попала впервые, пожалуй, она так и представляла – те же блестящие, словно лакированные, полы, несколько ковров – у кровати, посредине комнаты и у письменного стола. Огромный, до потолка, гардероб с поблескивающим зеркалом, два кресла с шелковой обивкой, высокая напольная ваза с увядшими розами, темные бархатные задернутые шторы, большая настольная лампа со стеклянным абажуром с рисунком и кровать – двуспальная, с высокой резной деревянной спинкой, с кучей подушек и подушечек, небрежно застеленная смятым шелковым покрывалом.
Спальня была мрачной, таинственной, загадочной, немного пугающей и, безусловно, красивой – словом, полностью соответствовала хозяйке.
– Сядь. – Свекровь кивнула на кресло и подошла в высокому, со множеством ящиков старинному комоду.
Открыв верхний ящик, Эстер достала длинный кожаный футляр на поблескивающем замке, открыла его и, словно раздумывая, долго разглядывала его содержимое. Наконец, стуча каблуками домашних туфель, подошла к Анне.
– Это тебе, – сказала она, протягивая ей темно-желтую, простого плетения, плоскую тяжелую цепочку с небольшим каплевидным ярко-красным камнем.
От смущения Анна забыла поблагодарить.
– Я тебе ничего не подарила, – напомнила свекровь, – а так не положено.
– Что вы, – залепетала Анна, – мне ничего не нужно. Вы же знаете… – Она окончательно растерялась. – Я ничего такого… я не ношу!
– А это, будь добра, надень! – усмехнулась свекровь. – И пусть это будет твоим талисманом. – Помолчав, Эстер добавила: – Это единственное, что осталось от моей матери и ее семьи. Ее наследство. До замужества мама жила в небедной семье, ее отец, мой дед, держал бакалейный магазинчик. Нет, богачами они, разумеется, не были, к тому же пять дочерей, и всем полагалось приданое. Маме досталось вот это. Единственное из той жизни, – повторила она. – Все остальное: подарки мужа, мои собственные покупки – так, ерунда. Это рубин. Похож на каплю крови, верно? – сказала свекровь. – А знаешь, как мне удалось это сохранить? Цепочку, на которой первоначально висел кулон, продали еще во время войны. А камень мамочка сохранила. Повесила его на длинный шнурок от ботинок и надела мне на шею. «Спрячь под платье, – велела она мне, – может, и не заметят». – Эстер помолчала. – Не заметили…
Вздрогнув, Анна посмотрела на нее.
– Голубиная кровь, дитя солнца, лал, – перечисляла свекровь названия камня. – Говорят, он приносит покой и избавляет от душевной боли. Хотя мне не принес. Может, тебе повезет? В общем, носи, мне будет приятно. И все, хватит мистики и рассуждений. Это твое, надевай!
Кивнув, Анна пыталась застегнуть цепочку на шее. От неожиданности и волнения дрожали руки. Свекровь решила помочь и справилась моментально. Анна только успела вздрогнуть от прикосновения ее холодных, почти ледяных пальцев, хотя в комнате было сильно натоплено.
– Спасибо, – бормотала она, пятясь к двери, – большое спасибо, но правда, не стоило…
Эстер молча махнула рукой.
Выйдя в коридор, Анна прислонилась к стене. «Как гулко бьется сердце! Неужели я так сильно ее боюсь? Какая глупость. Она не обижает меня, не лезет в мою жизнь, не поучает, не вредничает и не делает замечаний. Но почему мне так неуютно находиться рядом с ней? Ведь она просто несчастная женщина. Добрая и несчастная, и ее можно только жалеть». Подаренную цепочку с подвеской голубиной крови Анна никогда не снимала. Сорвала ее в самый страшный день своей жизни. Самый страшный. Хотя страшных дней было немало… Сорвала с диким, душераздирающим криком, навсегда перестав верить в талисманы, магическую силу, приметы и чудеса. Куда зашвырнула, не помнила, кажется, в угол, за диван, в общем, с глаз долой. И что интересно – спустя год, когда она наконец решила заняться генеральной уборкой и отодвинула тот самый диван и освободила все углы, цепочки с подвеской нигде не было. Как испарилась.
«Ну и славно, – подумала Анна. – Нет – и отлично».
* * *
Не читалось. Странное дело – книги всегда выручали. А сегодня все мимо строк. Ей показалось, что в номере душно. Анна встала, отдернула шторы и открыла балконную дверь. На улице было свежо. Чистый прохладный вечерний воздух спускался с Карпатских гор. Анна вышла на балкон, и тут хлынул дождь, короткий и бурный, воздух после него стал еще слаще, еще ароматнее.
Стало зябко, но она все стояла, не в силах уйти.
Окончательно замерзнув, вернулась в номер и включила чайник – не дай бог заболеть. С кружкой чая она улеглась в кровать, осторожно сделала большой глоток и в блаженстве закрыла глаза. И в эту минуту раздался звонок.
Ну конечно, это был Марек!
– Как ты? Я тебя не разбудил? – смущенно спросил он. – Знаешь, мне что-то тревожно. Умотал я тебя, эгоист. Мне-то что, ты знаешь, я хожу километрами. А у тебя нога… Прости меня, а? – жалобно бормотал он, повторяя: – Эгоист, да, признаю. Но ты тоже хороша – могла бы остановить меня, сказать, что тебе тяжело.
– Мне не было тяжело, мне было прекрасно. Да и потом, все врачи говорят, что надо ходить. Двигаться. А ты меня знаешь – я лучше с книжкой и на диване. Ленивая стала… Стыдно, а потом думаю: а что, не имею права? Когда, как не в старости, правда? Тем более что забот у меня не осталось, – вздохнула она. – Почти не осталось. Только сад. Но разве это забота? Это счастье и удовольствие. А вообще тут, в тишине, я философствую. И знаешь, что пришло в мою дырявую голову? В одиночестве много прелестей! Нет, правда! И оно меня совсем не тяготит. Ты не знаешь и поэтому не спорь! Во-первых, тишина. А ты знаешь, как люблю тишину. Во-вторых, все время – мое, не надо думать о домашних делах. Поверь, за всю женскую жизнь они ужасно надоедают! Как вспомню вечные мысли: что на обед и что на ужин, достать то или это. А глажка? А уборка? Ой, кошмар, честное слово! А сейчас я сама себе хозяйка, обедов и ужинов не готовлю – зачем? Бутерброд с колбасой, помидор с огурцом. Диван и книжка – вот оно, счастье! Я часто вспоминаю маму. Она никогда не сидела без дела, никогда. Даже вечером, после работы и ужина, вроде самое время просто плюхнуться на диван, посмотреть телевизор, полистать журнал! Так нет же – одним глазом в телевизор и подрубает простыню, или штопает чулки, или что-нибудь вяжет, или варит бульон, чтобы завтра его только заправить. Чем накормить, как сэкономить, как из старого платья сделать новую юбку – две девицы на выданье, нищета, вот мозг и кипит.
Однажды я посмотрела на нее спящую… Даже во сне была суровая складка на лбу, брови сведены, рот плотно сжат. Как будто продолжает считать, прикидывать. – Анна помолчала. – И только в гробу ее лицо разгладилось, представляешь? Только когда она умерла, когда ушли все хлопоты и заботы, вот тогда лицо ее стало гладким, спокойным, беспечным.
– А у моей матери? – глухо спросил он. – Наверняка даже в гробу было тревожное и беспокойное лицо. Представляешь, я ничего не помню, вообще ничего.
– Да, так и было, прости.
– Ладно, – бодрым голосом сказал он, – куда-то нас не туда понесло, да еще на ночь глядя! У нас с тобой завтра путешествие, ты не забыла? А это означает, что мы должны быть полны сил. Все, извини за звонок. Надеюсь, ты выспишься! А после завтрака двинемся в путь!
Пожелав ему спокойной ночи, Анна нажала отбой.
Да, надо уснуть. Иначе завтрашний день пойдет насмарку.
Только вот как – вопрос…
В воскресенье процедур не было, и отдыхающие беспечно валялись у бассейна, пили коктейли или отсыпались в номерах, ну а самые неугомонные отправлялись на шопинг – в пятидесяти километрах был большой аутлет.
В девять утра Анна и Марек встретились на завтраке, а потом уселись в машину и двинулись наугад, без всяких планов и задач, как говорится, куда глаза глядят.
– Наугад – это прекрасно! – улыбнулась Анна.
Они ехали вдоль чистых, аккуратных, нарядных палисадников в разноцветных и буйных кустах роз, гладиолусов и георгинов, вдоль поселков и деревушек, вдоль Карпатских гор, покрытых густым изумрудным лесом, мимо крошечных, на три столика, местных кафешек, маленьких магазинчиков, почтовых отделений, аптечных и больничных пунктов, зеленых лугов с пасущимися козами и коровами и узких, сверкающих в лучах солнца речушек. Эти пейзажи Анне были отлично знакомы – до ее родного Кракова было всего-то триста с небольшим километров. А Марек не переставал восхищаться и удивляться – европейскую природу он обожал.
– Нет, – торопливо оправдывался он, – нашу израильскую природу я тоже люблю, и у нас тоже горы, правда, сосны невысокие, разлапистые, другие. Зато какие платаны, Аннушка! А эвкалипты? А наши пустыни? Ты знаешь, пустыня – это красиво! А весной, когда цветут маки?
Анна кивала.
– А море? – продолжал он. – Что может быть красивее моря? Морской закат – чистое волшебство. Но пальмы, пальмы… Кругом одни пальмы! А я люблю липы и клены, елки люблю, березы, рябину, сирень. У нас этого нет. Зато есть бугенвиллеи – всех цветов, ну ты знаешь, – словно оправдывался он, – и розовые кусты вдоль дорог. Правда, розы почему-то не пахнут, я всегда удивлялся. А наша мимоза, – оживлялся он, – величиной с хорошую вишню. Но странное дело – тоже не пахнет…
– Ты европейский человек, – смеялась Анна, – родился и вырос в Европе. Отсюда и любовь к европейским пейзажам, и, как следствие, твоя тоска.
Он кивнул:
– Да, ты права. И странное дело – у меня как будто раздвоение личности: кто я, откуда? Какой культуре принадлежу? Что мне ближе и что роднее? Я люблю свою страну, ты не подумай! Люблю и горжусь ею. Но часто ловлю себя на мысли, что все-таки я человек европейский. Израильтяне другие. Не хуже и не лучше, просто другие: шумные, крикливые, несдержанные, все эмоции налицо. Подчас дурно воспитанные. Но если что-то случается или тебе нужна помощь, если ты в опасности, если ты… – он на минуту задумался, – скажем, голоден или что-то еще, они тут же, незамедлительно окажутся рядом! Дадут питу, бутылку воды, окажут первую помощь, отвезут куда надо. И, самое странное, будут искренне за тебя переживать, и ты это сразу почувствуешь!
Да, безумный анклав разных культур и традиций, порой невозможно друг друга понять! Но если что-то случается… В тот же миг ты, они, все почувствуют, что это их страна и вы – один народ. Несмотря на то что один – эфиоп, другой – марокканец, а третий – выходец из Испании, а четвертый – ты будешь смеяться – узкоглазый и смуглый житель Непала!
Изумленная Анна качала головой:
– Вот уж правда! Такой страны больше нет!
– И кухня, – продолжал Марек. – Знаешь, я многое там полюбил: и хумус, и фалафель, и острые хацелим, баклажаны по-нашему. Но, – улыбнулся он, – как я скучаю по капусьняку, журеку, по перогам с сыром, по нашей любимой кремувке!
– Так научил бы Ширу! – воскликнула Анна. – Нехитрое дело!
– О чем ты! У нее совершенно другие пристрастия. Восточная кухня, все острое, перченое: кускус этот, куриные оладьи с корицей! С корицей, Аннушка! И хумус, хумус, только что в кофе не добавляют, а так он везде! К тому же местные дамы не очень-то озабочиваются готовкой! Так что пришлось привыкать.
– Это не самое главное, – сказала Анна. – Главное – она родила тебе прекрасных, красивых и здоровых детей! И все же, мне не просто любопытно, ты ощущаешь себя на родине? Ну, что твои предки здесь жили и так далее?
Он долго молчал, наконец проговорил:
– Это странное чувство. Тогда, когда я уехал, это был просто побег. Плюс интерес – мне хотелось поглубже узнать эту жизнь и эту страну. И долгое, о-о-очень долгое время я ощущал себя кем-то вроде туриста или командированного. И у меня было чувство, что я обязательно вернусь обратно. Да, непременно вернусь! А потом, – усмехнулся он, – знаешь, как говорится, врос корнями. Женился, купил дом, родились дети. И это уж точно их страна и их родина. Я выучил язык, и местные говорят, что у меня нет акцента. Я стал понимать эту страну, понимать ее сущность, глубину ее патриотизма, упрямую и непоколебимую веру в будущее. Я вижу мужчин-калек и понимаю, откуда такие травмы. Бесконечные войны. И мне стыдно, что меня не было там, рядом с ними…
Я плохо переношу жару, но почти к ней привык, меня раздражает леность и неторопливость левантийцев, их наплевательство и пофигизм, совершенно непонятный нам, европейцам. Мне часто кажется, что я не могу просчитать их, понять их мысли, мы очень разные. Разные, а жену нашел из сефардов, – усмехнулся он и замолчал. – Сколько раз я хотел вернуться, не сосчитать. Уговаривал Ширу, сулил ей куда лучшую жизнь. Сколько раз хотел просто сбежать. На все наплевать и сбежать! Но постепенно раздражение уходило – я твердил себе, что мы просто разные в силу всех обстоятельств. Окончательно, кстати, я понял это после женитьбы.
Но если ты все же решил жить в этой необычной стране, рожать там детей – а для них лучше места не найти, – с этим просто надо смириться, смириться и принять. Просто принять эту разность, эти крики и эту суету, этот пофигизм. Я объяснял себе, что эти люди не желают мне зла, просто у них все по-другому. И я это принял, как и многое другое – в смысле, все остальное. И эту жару, которую я всегда ненавидел, острое и перченое, и песни, и музыку. И природу – пальмы, песок и три моря на одну крошечную страну. И вечную тревогу, что на нас могут напасть. Привык к девчонкам и мальчишкам с автоматами наперевес. А уж когда в армию пошли мои дети, тогда я окончательно понял, что здесь моя родина.
Да, ко многому я так и не смог привыкнуть, но ко многому приспособился и восхищаюсь и горжусь этой страной. Господи, как они смогли? Как смогли приехать на эту выжженную, пустынную землю, в эту непонятную Палестину? Да, это были упрямые идеалисты, пионеры и социалисты, бежавшие от нищеты и погромов. Но были и другие, успешные и небедные. Они оставили свои дома, привычки, налаженную жизнь и приехали в эти полные гнуса болота? Как, расчищая пространство, могли ворочать глыбы камней, осушать болота, вручную вырубать пни? Сажать леса и поля и подводить к ним воду для орошения? Как можно было создать эти кибуцы, построить дома, развести скот и плодовые сады? И это при всех войнах и терактах, в окружении врагов? Они работали, рожали детей и верили, верили… Энтузиазм, идеология и вера – великое дело, Аннушка! И я понял – при всех ее недостатках это великая, необычная и необыкновенная страна.
Это мой дом. Сейчас уже да. И, знаешь, я, пожалуй, не пожалел, что я уехал. К тому же я обещал матери – она мечтала об этом, повторяя, что там, в своем государстве, с нами не случится того, что случилось здесь, в Польше, ну и во всей Европе.
Анна сжала его руку.
– Но все это не отменяет моей тоски по старушке Европе! – рассмеялся он. – И каждый год рвусь сюда как оглашенный: к Европе и к тебе, Аннушка.
Остановились у маленького кафе выпить кофе.
Тут выяснилось, что Марек проголодался. В меню оказались только что вспоминаемые пероги – большие вареники с сыром. Как же он наслаждался! Причмокивал и причавкивал, постанывал и похрюкивал, а Анна радовалась и смеялась – сбываются мечты!
Дальше был старый, почти разрушенный замок с какой-то мистической страшной историей, холодный домашний лимонад в кафе, маленький магазинчик с изумительными салфетками с вышивкой, и она уговорила его купить их в подарок жене.
А потом снова дорога и снова горы и деревушки, магазинчики и кафе, и они увидели указатель на конюшню.
Марек обожал лошадей. Лошадей и собак. Впрочем, как и она. И здесь они совпадали.
Свернули к конюшне. Удивились вылизанным, ухоженным красавцам – все как на картинке! Марек спросил у работника, можно ли прокатиться верхом. Ему вывели высокую пегую кобылу. Оглянувшись на Анну, словно спрашивая ее одобрения, он светился от счастья. Обеспокоенная, Анна неуверенно глядела на него, но он уже был в седле.
Конюх вывел кобылу на улицу.
– Осторожнее! – только и успела выкрикнуть Анна, и Марек скрылся за пригорком.
В изнеможении она села на скамью.
Господи! Он уже не мальчик, не дай бог упадет, не дай бог что-то сломает! «Матка боска, не дай ему упасть, умоляю тебя!» И Анна стала молиться. Вглядываясь в даль, она вытирала уставшие и разболевшиеся глаза – ей казалось, что его не было невозможно долго, целую вечность. «Надо было его остановить, – твердила она про себя. – Какая я дура! Наверняка он упал и что-то сломал! Да где же он? Так, надо действовать!» Она решительно встала и направилась к конюхам.
У входа в конюшню обернулась и увидела Марека, он подъезжал. Спешился ловко, ладно, как опытный ездок. А какая радость была написана на его лице, как молодо горели его глаза!
«Молчи, – приказала себе она и выдавила улыбку. – В конце концов, ты ему не жена. Кстати, а кто ты ему?»
Вернулись под вечер, уставшие, еле живые. Распрощались у ее номера – он всегда ее провожал.
– Ну как ты, жива? – спросил он, с тревогой заглядывая ей в глаза. – Очень устала?
– Очень, – кивнула она. – Но я счастлива, Марек. Спасибо тебе.
И это была чистая правда.
* * *
Пани Тереза готовилась к рождению младенца – шила чепчики и распашонки, украшала постельное белье вышивкой, кружевами и ришелье. Потом принялась за вязание и раз в три дня появлялись новые шапочки, теплые пинетки и носки, рукавицы и шарфики, кофточки и рейтузы.
А у Амалии случился роман, и это тоже было событие и еще – страшная тайна. Любовник сестрицы, пан Ежи, был старше ее на пятнадцать лет и, конечно, женат. Коренастый, полноватый и кривоногий, он стоял на земле очень устойчиво. Всегда в костюме в полоску, светлой рубашке с накрахмаленным воротничком, который отчаянно резал его толстую шею, и в ярком галстуке с непременной золотой булавкой.
«Какой он пошлый! – подумала разочарованная Анна. – И этот четкий пробор, и блестящие, слишком аккуратные усики – фу, просто персонаж из какого-то комикса! Неужели в него можно влюбиться?»
– Зачем он тебе? – спрашивала она у Амалии. – Старый, некрасивый и вообще комичный.
– Не у всех молодые и красивые, – огрызалась сестрица. – Не всем так везет! Это ты у нас счастливица – оторвала молодого, красивого и богатого и сразу заимела собственный дом.
Не обращая внимания на колкости, Анна убеждала сестру, что она впустую теряет время, пан Ежи никогда не оставит семью, повторяла, что Амалия красавица и найдет себе приличного мужа. Но тщетно – сестрица и слушать ничего не хотела. Амалия все и всегда обожала делать назло.
А вскоре случилось вот что – прознав про интрижку, жена пана Ежи ворвалась в дом пани Малиновски и устроила грандиозный и непотребный скандал. Ее голос гремел на всю улицу. Испуганные соседи распахивали окна, вслушиваясь в ругань оскорбленной жены.
Амалия, гордо вскинув голову, стояла у окна. Она не проронила ни единого слова, но на ее лице была довольная и счастливая улыбка победительницы.
После визита крикливой мадам пани Малиновски слегла с высоким давлением – такого позора она не испытывала никогда. А кривоногий пан Ежи струсил и смылся на следующий же день, конечно же, избежав объяснений и извинений перед любовницей.
В тот вечер Анна узнала, что сестра беременна. Ахнув, она обрадовалась:
– Значит, будем вместе катать коляски! Как здорово, правда? Как здорово, что мама нашила и навязала так много, всем хватит, и моему, и твоему!
Амалия посмотрела на нее как на умалишенную:
– Ну ты и дура, Анна! – зло выдавила она.
Через неделю Анна узнала, что сестра сделала аборт.
Стоял теплый сентябрь, и через пару недель Анне предстояло родить.
В те дни Марек был особенно нежен и старался предугадать все ее желания и капризы. Впрочем, капризов у нее не было, а желания были минимальными, ничего особенного – например, однажды ей захотелось мятных леденцов, а в другой раз сладкую булку с соленым сыром.
В ночь на десятое октября у Анны начались схватки. Родила она только одиннадцатого, почти через сутки, намучившись так, что ей казалось, будто она умерла. Когда ребеночек вышел, измученная Анна провалилась в небытие – наверное, это был обморок. Открыв глаза, она не сразу поняла, что случилось. В родильной было тихо.
– Где мой ребенок? – закричала она. – Почему я его не слышу?
– Тихо, тихо. – Пожилая акушерка погладила ее по руке. – Сомлела ты, девочка. А ребеночек там, у врачей, – кивнула она на соседнюю комнату, – осматривают его.
– С ним все нормально? – Анна еле шевелила запекшимися губами. – Почему он не кричит?
Акушерка погладила ее по волосам:
– Отдыхать тебе надо. Такие роды – не приведи господи! – И не ответив на заданный вопрос, акушерка вздохнула: – Все будет хорошо, Аннушка! Ты еще так молода!
Анна покрылась холодным потом, ей показалось, что она проваливается в преисподнюю. «Ну и отлично!» – успела подумать она и снова потеряла сознание.
Очнулась в палате – яркий дневной свет бил в глаза. Белое постельное белье, белая сорочка, белая тумбочка, белые стены. Анну охватил ужас, и она крепко зажмурилась. Открывать глаза не хотелось.
В палате она находилась одна, вторая, соседняя, койка была пуста.
Приоткрылась дверь, заглянула нянечка.
– Проснулась, – обрадовалась она. – Есть хочешь?
– Нет, спасибо. Только пить, если можно.
Радостно закивав, нянечка бодро побежала по коридору. Через несколько минут Анна пила клюквенный морс. Кажется, такого наслаждения она никогда не испытывала. Напившись и поблагодарив, Анна попросила позвать врача. Опустив глаза, нянечка прикрыла за собой дверь.
Минут через десять в палату зашел врач. Это был молодой, симпатичный, сероглазый мужчина, раньше Анна его не видела. Представившись педиатром, он сел на стул возле Анниной кровати. По его опущенным глазам и немного дрожавшим рукам Анна почувствовала что-то неладное. Сердце остановилось.
– Что с моим ребенком? С ним все хорошо? – почти утвердительно сказала она. – Почему я его не кормлю, почему мне его не приносят?
Врач молчал.
– Почему? – закричала Анна. – Он умер?
– Он жив, – тихо ответил врач, – но…
Анне казалось, что она слышит биение своего сердца. Оно билось на всю палату. «Наверное, и доктор слышит», – промелькнуло у нее в голове.
– Что – «но»? – закричала Анна. – Что вы хотите этим сказать? Что вы тянете, что молчите? Если все так ужасно, наконец наберитесь мужества!
– Это вы, уважаемая пани, должны набраться мужества, – ответил врач. – Ваш мальчик… он родился больным. Серьезная патология развития и еще куча проблем. Извините.
– Почему? – прошептала Анна. – Почему так случилось? Это я виновата? Это из-за меня? Почему это случилось именно с нами? Почему у нас? Мы молодые, здоровые! И я ничем не болела! Совсем ничем, даже простудой! Нет, такого просто не может быть! Не может, вы слышите? – Анна кричала. – Или это ваша вина? А? Признавайтесь! Это вы виноваты, вы пропустили? Мой ребенок был здоров, я это точно знаю! Значит, это все-таки вы! Да, я уверена, это ваша ошибка! И что значит – серьезная патология развития и еще куча проблем? Что это значит? Может, вы его уронили, а сейчас вы все хотите свалить на меня? Мой ребенок был совершенно здоров, вы меня слышите? – Анна кричала до хрипоты.
Врач, в момент посеревший и постаревший, проговорил:
– Нет, пани. Мы тут ни при чем. Это сможет доказать любая комиссия. Это внутриутробная патология, генетика. Вы можете обвинять нас в чем угодно, но, поверьте…
– Кому поверить – вам? – истерически расхохоталась Анна. – Вы же убийцы! У меня был совершенно здоровый ребенок, – повторяла она, – я это чувствовала! Он переворачивался, менял положение, выпячивал ножки и ручки! Он был нормальным, вы меня слышите?
Резко встав, врач приоткрыл дверь. За дверью стояли две медицинских сестры и все та же нянечка.
– Успокоительное, – коротко бросил он, – истерика.
Одна из сестер бросилась за ампулой, через минуту обессиленной Анне сделали укол. Она почувствовала, как обмякает, теряет последние силы и, кажется, умирает. Ни руки, ни губы не шевелились. Она слышала чьи-то размытые, растянутые, как на заезженной пластинке, голоса.
– Бедная, – прошептал голос. – Такая молодая, и такое! И за что такая беда? И мать ее плачет, и муж. А муж какой славный – такой симпатичный, прямо красавчик!
– Не волнуйся, оставят, не заберут, – сказал второй голос. – Кто же такого заберет? Сначала при больнице будет, а как вырастет – в доме инвалидов. Если, конечно, доживет. Такие обычно быстро… того.
На следующий день все выяснилось.
– Мальчик болен, – сказал ей врач, – и болен серьезно, врожденная патология развития. Перспективы? Неважные. Точнее – ужасные. Ходить точно не будет, самостоятельно есть тоже. Скорее всего, твердую пищу глотать не сможет – отсутствует глотательный рефлекс. Мышечная атрофия. Наверняка разовьется гидроцефалия, при этих симптомах ее не избежать. Будет ли говорить? Вряд ли, такой букет болезней. Будет ли сохранен разум? Здесь вопрос. Полностью нет однозначно. Возможно, какие-то доли мозга работать будут, но пока непонятно. В общем, перспективы, увы, нерадостные.
Отвернувшись к стене, Анна молчала. Стена была серой, шершавой, холодной. Слушая врача, Анна не произнесла ни слова. Ей казалось, что все это происходит не с ней. Или она еще не проснулась после укола. Сон, страшный, кошмарный сон, вот что это было. С ней не могло такого произойти! Ни она, ни Марек этого не заслужили.
– Почему вы его мне не показываете? – не поворачиваясь, спросила она. – Он такое чудовище?
Врачи молчали. Лишь одна из них, лица ее Анна не видела, тихо сказала:
– Может быть, вам не надо привыкать к нему, пани Анна? Так будет проще. Мы… мы советуем вам оставить такого ребенка. Вы так молоды, вы здоровы, вы сможете родить нормального, да не одного – двух, трех! Зачем вам такие муки? Это поломанная жизнь – растить такого ребенка, вы нам поверьте! А в медицинском учреждении за ним будет хороший уход, персонал знает, как обращаться с такими детьми. Так будет лучше для всех, я вас уверяю! Да и потом… – Врач вздохнула. – Знаете ли, по опыту, мужчины не справляются с такой бедой. Они уходят. Точнее – сбегают, и мать остается одна. А одной это не сдюжить, поверьте. В общем, подумайте и примите решение. Да, это сложно. Почти невыносимо. Но мы хотим вам только добра! Такое бывает, причины неизвестны, генетика наука плохо изученная. В общем, пани Анна, мы ждем, когда вы будете готовы.
– Принесите мне моего мальчика, – прохрипела Анна. – Немедленно принесите! Это мое решение, и я его не поменяю. Да, и еще! – повернувшись, Анна привстала на локте. – Прошу вас, не пускайте ко мне родню! Я… я не готова с ними общаться…
Анна разглядывала своего сына. С виду – обычный ребенок. Хотя нет, не так, она обманывает себя. Она видела младенцев – красных, как помидоры, желтых от послеродовой желтушки, орущих, сверкающих блестящими беззубыми деснами. С открытыми глазами и закрытыми, сморщенных, спящих и бодрствующих. Пьющих из бутылочек и жадно сосущих материнскую грудь. Хватающих матерей за носы или соски. Блондинов, шатенов, лысых. Щекастых и нет. Все они были похожи, как близнецы, с первого взгляда не различить. Но матери их узнавали в ту же секунду. Каждая своего. Узнавали даже по крику.
Ее Мальчик был другим. Он не издавал никаких звуков, его ручки лежали вдоль запеленутого тела, как тряпочки, на темечке пульсировала крупная голубая жилка, глаза были полуоткрыты, а лицо похоже на застывшую маску. Он не морщился, не жмурился, не открывал, как птенец, рот. Он смирно лежал, как… предмет. Предмет, который принесли и положили. А потом перенесут в другое место. Кожа на его личике была вялой, старушечьей. Он был похож на старую поломанную куклу, которую хотелось поскорее отложить, спрятать в глубокий ящик комода. Нет, печали на его лице не было. Да и страданий тоже. На его лице вообще ничего не было – глаза, лицо ничего не выражали, словно он ничего не чувствовал. Не чувствовал жизни, ее дыхания, присутствия матери, ее теплой, пульсирующей, полной молока груди.
Анна не выпускала его из рук, прижимала к себе, пыталась засунуть в ротик набухший сосок, гладила его по головке, осторожно дотрагивалась губами до его лица и ручек – на его бледном личике не промелькнула ни одна эмоция. Спит он или бодрствует? Анна этого не понимала. Она вообще ничего не понимала. Кроме одного – она его никуда не отдаст. Никуда и никому. Никогда.
Она увидела Марека. Он то смотрел на ее окно, то, опустив голову, сидел на скамейке, то мерил шагами небольшой двор родильного дома. Ее сердце сжалось от тоски и боли, и, распахнув окно, она выкрикнула его имя. Вздрогнув, он посмотрел наверх и, увидев ее, отчаянно замахал. Вскоре он был в палате. Мальчик спал.
Марек бросился к Анне, крепко, до боли, сжал ее в своих объятиях, стал целовать лицо и руки, шептать какие-то слова, но их она не разбирала.
Вырвавшись из его крепких рук и отступив назад, Анна вскинула подбородок и указала на мальчика:
– Это мой сын, – гордо сказала она.
– Твой? – удивился он. – Мне кажется, и мой тоже!
И в ту минуту, закрыв лицо руками, она разрыдалась впервые за эти страшные дни.
Марек осторожно подошел к детской кроватке и стал разглядывать мальчика. Анна с тревогой и страхом следила за ним. Но на его лице были написаны восторг и нежность, не было ни брезгливости, ни испуга, ни жалости.
– Какой красивый, – наконец произнес он. – И, кажется, похож на меня. Как мы его назовем, Аннушка? Есть мысли на этот счет?
– Я называю его Мальчик. Мой Мальчик, – тихо ответила Анна. – А имя придумай ты, ладно?
– Я могу его… взять? – осторожно спросил он. – Подержать на руках? Ему не будет больно?
Анна улыбнулась:
– Нет. Больно ему точно не будет. Я его почти не спускаю с рук, и, мне кажется, ему это нравится.
– Ну тогда пусть привыкает к рукам отца! – И Марек осторожно, словно драгоценное старинное стекло, взял сына на руки и расплылся в улыбке. На его лице были написаны такое счастье и такая гордость, что Анна еле сдержала слезы. Только успела подумать: «Как же я его люблю! Как я могла подумать плохое? Нет, не его – их! Я люблю своего сына и своего мужа. И все у нас будет прекрасно». В эту минуту она в это верила.
* * *
До полудня набегавшись по процедурам, решили отдыхать. После ужина прогулка по роскошному ухоженному старинному парку. Минут сорок, не больше. А потом Марек пойдет смотреть футбол – начинался чемпионат мира. А Анна – с большим, надо сказать, удовольствием – улизнет к себе в номер. Там ее ждут хороший роман, чашка крепкого чая и стакан малины, купленной накануне на маленьком деревенском базарчике. Лучшее времяпрепровождение трудно придумать.
Только одно омрачало – звонок Амалии. Раз в три-четыре дня она звонила сестре и никогда этот разговор не был легким.
Амалия долго не брала трубку – обычная история. Наконец взяла. Голос был недовольным.
– Задремала перед телевизором, – хмуро сказала она. – А ты, как всегда, разбудила!
Извинившись, Анна задавала дежурные вопросы: «Как самочувствие? Как поживает Тадеуш? Приходит ли Алиция, его сестрица, обещавшая помогать и не бросать золовку в беде? Ну и вообще – какие новости?»
– У меня одни новости, – недовольно и ворчливо отвечала сестрица. – Руки болят, попробуй переверни его три раза в день. Ночью сплю отвратительно, сама знаешь, как это, вставать по пять раз. Накормить сложно, капризничает. Стирки навалом, памперсы все пропускают. А эта… – Амалия презрительно фыркнула. – Ну ты ее знаешь! Прибежит как подстреленная, выпьет подряд три чашки кофе, а потом начинает ныть и жаловаться на сердце. Помощница из нее еще та. Поохает, покряхтит у его постели, порыдает: «Бедный мой братик!» Попричитает: «И за что тебе такое досталось?» Видеть ее не могу! Нарыдавшись, заявит, что голодна: «Чашка бульона меня вполне бы устроила». Ну а потом, как обычно, бурчит про наследство: родительский дом в Тыньце надо продать, дают хорошую цену. Машину тоже – «зачем вам машина?». Ее можно отдать Збигневу, ее дорогому сыночку. В память о дяде. Как тебе? А потом так случайно, невзначай, по сто первому разу: «Тебе, случайно, не попадались мамины серьги с бриллиантами?» В общем, мне хочется ее придушить, наверное, этим и кончится.
Анна смеялась. Все-таки счастье, что при таких обстоятельствах Амалия сохранила чувство юмора, иначе и вправду не выжить.
– Ну а как у тебя? – Голос Амалии снова стал пренебрежительным, с холодком: – Как проводите время?
– Лечим старые кости, – усмехнулась Анна. – Грязевые аппликации, ванны, кислородные коктейли. Словом, всякая санаторная ерунда, обычная и довольно скучная. Гуляем по парку, пьем кофе, болтаем.
– Не наболтались еще, – фыркнула сестрица.
Эту реплику Анна пропустила мимо ушей. Амалия не одобряла, а главное, не понимала их «высоких» – сказано с иронией и даже сарказмом – отношений.
– Кто вы? – не отставала она. – Уверена, секса у вас нет. Общие интересы остались в прошлом. У всех своя жизнь. Вы скучаете друг по другу? Сложно поверить. Он по-прежнему любит тебя? Тоже нет, иначе… все было бы иначе! Сто лет назад разведенные супруги. Здесь только жалость с его стороны. Жалость, и все.
Амалия всегда была злюкой, и Анна давно научилась не реагировать на ее выпады.
– Мы друзья, – смеялась она. – Жаль, что это понятие тебе не знакомо. И еще – родственники.
– А мне не жаль! – язвила сестрица. – Мне некогда распыляться на ненужных друзей. Одна пустая трепотня. Нет у меня времени на эти глупости.
Это правда, времени на глупости у нее и вправду не было – последние годы Амалия жила тяжело.
– Это ты свободна, – часто повторяла она Анне. – Выпила свою чашу и – гуляй не хочу! Старость для тебя отпуск. А для меня…
Такие слова многие бы не простили, но Амалия была ее родной сестрой и единственной родственницей, не считая Марека. У Амалии, как ни странно, соединялось несочетаемое: злость и милосердие, нетерпимость и огромное терпение, зависть и мгновенная готовность помочь. Странным она была человеком. Странным и сложным. Да и жизнь ее ничем не порадовала – короткие и бестолковые романы, острое желание выйти замуж, связь с кривоногим и противным паном Ежи, аборт, отсутствие детей, уход за мамой и от отчаяния поздний брак с пожилым вдовцом. Тяжелые отношения с его детьми, которые ее так и не приняли, естественно, упрекнув в корысти, болезнь Тадеуша и тяжелый уход за лежачим больным.
– Что тебе привезти? – примирительно спросила Анна.
– У меня все есть, – отрезала сестра, с горечью добавив: – Даже то, что мне и вовсе не надо.
– Хочешь теплые тапочки из натурального меха? Мягкие такие, уютные! Лично я собираюсь себе купить.
– Отстань, – ответила сестра, – больно нужны мне какие-то тапки! – И Амалия нажала отбой.
Да уж, непросто с сестрицей: не привезешь подарок – обидится, привезешь – обязательно раскритикует.
Ладно, куплю ей тапочки. Люди мы пожилые, всегда пригодятся. А нет – так отнесет соседке, одинокой старушке, которую она опекает. Словом, подарок не пропадет.
* * *
Кажется, не было дня, чтобы Анну не уговаривали оставить ребенка. Главный врач, лечащий врач, педиатр, медсестры и нянечки. Все сотрудники роддома посетили ее в те черные дни.
Анна стояла насмерть. Ее пугали, что они не справятся, что молодой папаша точно уйдет, а уж такой красавчик и подавно! Пытались объяснить, что такое уход за больным ребенком. Говорили, что ее жизнь превратится в кромешный и беспросветный ад, что она хоронит себя заживо, если муж оставит ее – а это уж непременно, – нового мужчину она никогда не найдет. Кто возьмет на себя такой груз и такую ответственность? Повторяли, что будут нужны огромные деньги – курорты, массажисты, специальное питание и все прочее.
Анна в дискуссии не вступала – молчала. Молчала и улыбалась. И медики дружно решили, что она сходит с ума. А может, уже и того, да, похоже. «Ну ладно, в конце концов, мы сделали все что могли, – решили они. – Это решение может вызывать только уважение, но все-таки с головой у нее непорядок».
Пани Тереза приходила и молча, не поднимая глаз, сидела на краешке стула.
– Анна, – однажды не выдержала она, – ты все решила окончательно?
– Это не обсуждается, – отрезала Анна и отвернулась к стене.
– Я поняла, – тихо ответила мать и вышла из палаты.
Уж кто-кто, а она хорошо знала свою младшую дочь и в душе ее понимала. Задавала себе вопрос: а как бы поступила я? Ну если бы, не дай бог? Точного ответа не было. Сложно было это представить. Если бы тогда, в мирное время, до войны, когда был жив муж. Нет, он бы точно не дал ей оставить ребенка в больнице! Ей казалось, что даже слышала его слова: «Ты что, рехнулась? Чтобы наша кровиночка да на чужих руках? А как мы будем жить с этим, ты не подумала? Есть, спать, гулять, принимать гостей? И думать о том, что наш ребенок там, в интернате?» Да, он бы ни минуты не сомневался. Анна в отца, ей компромиссы незнакомы. О себе она думает в последнюю очередь. А пани Тереза – она бы подумала. Да, подумала бы. И, возможно, пожалела бы себя. Она была прекрасной женой и, кажется, не самой плохой матерью. Но дети выросли, а она постарела. Она не сможет помочь своей дочери. У нее появились возрастные недомогания и совсем мало сил. Ей хочется покоя и тишины. Прийти с работы, выпить чаю и лечь в постель. И вспоминать прежнюю жизнь, ту, счастливую, довоенную. Когда у нее был муж и достаток, две хорошенькие девочки и много чего впереди.
Но все оказалось не так. Красавица Амалия давно в списке старых дев. Казалось бы, повезло Анне. И вот такое несчастье… За что им все это? Они же хорошие люди, честные и работящие. Они никому не делали зла. Не брали чужое. Не завидовали. Нет никакой справедливости, нет и не будет. Жизнь – коварная штука, она это знает.
Амалия, разумеется, разорялась, обзывая сестру разными словами: и дура, и идиотка, и чокнутая. «Марек твой сгинет через неделю. И его семья не признает урода – зачем им урод в их красивой и респектабельной жизни?» Предрекала полное одиночество: «На меня не рассчитывай, помогать не стану, уволь! Мать стареет. Твоя свекровь? Не смеши! Останешься одна и вспомнишь, что все говорили!» На племянника глянула и брезгливо скривилась. У Анны оборвалось сердце: значит, такую же брезгливость ее Мальчик будет вызывать у всех: у родственников, знакомых, прохожих. На него будут смотреть как на бородавчатую жабу, таракана или червя. Его никто не будет жалеть. И ее тоже – что это за женщина, которая родила такого уродца? Сердобольные люди начнут причитать, а злые – плевать им вслед: зачем такому жить на этом свете? И то ужасно, и это… Она помнила, как когда-то на их улице жила женщина с ребенком-дауном. Бедняга родила без мужа, и было ей слегка за сорок. Боже, сколько ее обсуждали! Обсуждали и осуждали. Мол, так ей и надо, наверняка родила от женатого! Шипели ей вслед, как змеи. Кривили физиономии, награждали эпитетами: и урод, и дебил, и зачем таким жить. И, что самое интересное, сбежавшего папашу никто не осуждал, все осуждали несчастную мать. «Сбежал? И правильно сделал! А кто бы на его месте не сбежал? Такой позор!»
Анна холодела от этих разговоров – как они могут? В чем вина несчастной матери? В том, что она захотела ребенка? А в чем виноват бедный ребенок? Завидев несчастную пару, мамаши хватали здоровых детей и разбегались. А мальчик-даун, улыбаясь светлой и странной улыбкой, печально смотрел им вслед. Через пару лет мать с мальчиком уехали. Говорили, что на глухой хутор, туда, где никого нет. Нанялась работницей к фермеру, а когда тот овдовел, вышла за него замуж и стала хозяйкой.
«Вот вам! – торжествовала Анна. – И закройте свои поганые рты!»
Значит, и им надо уехать? А что, это мысль: купить маленький домик на краю света, завести козу и кур, посадить огород, развести цветы и жить как им хочется. И никто не укажет пальцем на ее сына, никто не покрутит пальцем у виска в ее сторону. Но врачи, медицина… Да и вряд ли Марек захочет уехать. И имеет ли она право так распорядиться его судьбой? Ему светит хорошая карьера, в городе театры и кинозалы, Марек франт и любит одеваться. У него есть друзья. И, наконец, родители, нездоровая мать, которую он не оставит. «Какое счастье, что у нас есть наш домик, – думала она. – И сад, где Мальчик будет гулять! И совсем необязательно выходить с ним в город и болтаться среди людей».
Свекровь не появлялась, как будто ее не было. Свекор в палату не зашел, но передал огромный торт и скромный букет нарциссов. К букету была приколота короткая записка: «Анна, держись! Мои сожаления». «Бред, – возмутилась она. – Как будто я кого-то хороню! – И тут же мысленно поправилась: – Ну если только себя…» Но, отругав себя последними словами, эти дурацкие мысли тут же выкинула из головы – еще чего, совсем спятила!
Их выписывали через две недели.
Накануне в палату со скорбными лицами зашли врачи, сообщив, что больше ничем помочь не могут. «Ищите специалистов, в роддоме их нет. Да, есть специальные отделения в детских больницах. Ну, вы и сама разберетесь, пани Ванькович! – натужно и криво улыбнулся врач. – Вы женщина смелая, даже отчаянная!»