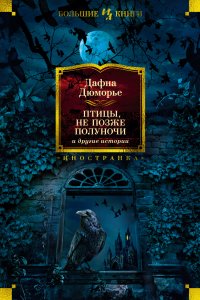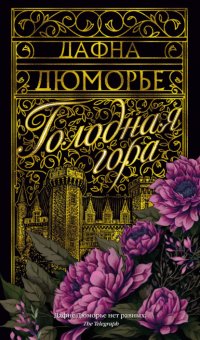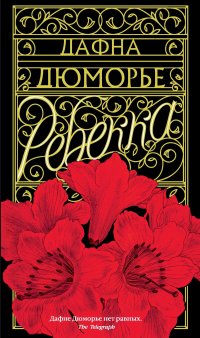
Читать онлайн Ребекка бесплатно
- Все книги автора: Дафна дю Морье
Daphne du Maurier
Rebecca
Copyright © Daphne du Maurier, 1938
© Г. А. Островская (наследники), перевод, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство АЗБУКА®
Глава I
Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мэндерли. Мне чудилось, будто я стою у железных ворот перед подъездной аллеей и не могу войти. Путь прегражден, на воротах – цепь и замок. Я позвала привратника, но не получила ответа и, прижавшись лицом к ржавым прутьям, увидела, что сторожка покинута.
Из трубы не поднимался дымок, забранные решетками окошечки зияли пустотой. Затем, как это бывает во сне, я вдруг преисполнилась чудодейственных сил и, словно бесплотный дух, проникла сквозь преграду. Передо мной уходила вдаль извилистая подъездная аллея, петляя по сторонам, как и в прежние времена, но чем дальше я шла, тем сильнее меня охватывало чувство, что она стала другой: узкой, запущенной, ничуть не похожей на самое себя. Сперва я была в недоумении, ничего не могла понять, и лишь когда мне пришлось наклонить голову, чтобы не наткнуться на низко свисавшую ветку, догадалась, что произошло. Природа вновь вступила в свои права; незаметно подкрадываясь, наступая шаг за шагом, она вторглась в аллею, схватила ее длинными цепкими пальцами. Деревья, издавна угрожавшие ей, наконец одержали победу. Темные, вышедшие из-под узды, они подступали к самым ее краям. Склонились друг к другу буки с белыми обнаженными сучьями, их ветви сплелись в диковинном объятии, образуя надо мной свод, подобный церковной аркаде. Были тут и другие деревья, которые я не узнавала, – приземистые дубы и корявые вязы, стоящие бок о бок с буками; они проросли из безмолвной земли рядом с чудовищным кустарником и другими растениями, ни одно из которых я не могла припомнить.
Аллея стала узкой лентой, ниточкой в сравнении со своей прежней шириной, гравий исчез, она заросла травой и мхом. Загораживая дорогу, протянулись вперед низкие ветви; узловатые корни были похожи на лишенные плоти когтистые лапы. Там и сям среди этой дикой поросли я узнавала кусты, служившие ориентирами в былые дни, прелестные гортензии – плод садовничьего искусства, – голубые головки которых были некогда столь знамениты. Теперь ничья рука не сдерживала их рост, и они одичали, вытянулись до устрашающей высоты, но больше не цвели и стояли темные, уродливые, как безымянные паразиты, что росли возле них.
Все дальше и дальше, то на восток, то на запад, вилась жалкая ниточка, бывшая некогда подъездной аллеей. Порой она совсем терялась, но возникала опять – за упавшим деревом или по другую сторону топкой вымоины, оставшейся после зимних дождей. Я не думала, что дорога так длинна. Видно, мили умножились, как и деревья, и эта тропа вела в глухое место, в лабиринт, а не к дому… Я вышла к нему внезапно – подход был скрыт противоестественно разросшимися огромными кустами, торчащими во все стороны, – и застыла: сердце гулко билось в груди, слезы щипали глаза.
Передо мной был Мэндерли, наш Мэндерли, затаенный и безмолвный, как встарь, серый камень поблескивал в лунном свете моего сна, высокие, узкие трехстворчатые окна отражали зеленую траву и террасу. Время было бессильно перед идеальной симметрией этих стен, перед этим домом – алмазом в углублении ладони.
Террасы уступами отлого спускались вниз, к лужайкам, лужайки тянулись почти до самого моря, и, обернувшись, я увидела серебряную полоску, безмятежную под луной, как озеро, покой которого не нарушают ни ветер, ни волны. Эти воды моего сна не рябила зыбь, прозрачное бледное небо не затягивали тяжелые тучи, гонимые западным ветром. Я снова обернулась к дому и увидела, что, хоть сам он стоит нетронут, нерушим, словно мы только вчера покинули его, сад, как и парк, одичал, подчинился закону джунглей. Рододендроны вытянулись вверх на пятьдесят футов, их стволы искривились, переплелись с орляком; они уже давно вступили в противоестественный союз со множеством безымянных растений, жалких ублюдков, которые цеплялись за их корни, словно стыдясь своего незаконнорожденного происхождения. Сирень спарилась с красным буком, и, чтобы еще крепче соединить их друг с другом, злобный плющ, вечный враг красоты, обвил их усиками, заключив в свое узилище. В этом погибшем саду плющ был всему владыка, его длинные плети ползли по лужайкам, скоро они вторгнутся и в самый дом. Было там еще одно растение, детище леса и сада, давным-давно посеянное под деревом, а затем преданное забвению; теперь, двигаясь в ногу с плющом, оно, словно гигантский ревень, опускало уродливые листья к мягкой траве, где некогда цвели нарциссы.
В авангарде полчища шла крапива. Она проникла повсюду – душила траву, расползалась по дорожкам, заглядывала – долговязая, тощая, грубая – в окна. Дозорный из нее был плохой, во многих местах ее ряды были сломаны похожим на ревень растением, вялые стебли и сморщенные листья стелились по земле, образуя кроличьи тропы… Я сошла с подъездной аллеи и зашагала по террасе к дому, для меня во сне крапива была не страшна – для очарованного путника нет преград.
Лунный свет играет странные шутки с нашим воображением, даже с воображением объятого сном. Стоя там недвижно и безмолвно, я могла бы поклясться, что дом – не просто пустая оболочка, что он живет и дышит, как встарь.
Из окон струился свет, в ночном воздухе тихо колыхались гардины, дверь в библиотеку, наверно, полуоткрыта – так, как мы оставили ее, – и на столе, рядом с вазой осенних роз, лежит мой платок.
Все в комнате свидетельствует о том, что мы здесь. Кучка библиотечных книг с пометкой «возвратить», прочитанный номер «Таймс», пепельница с окурком сигареты, подушки на спинках кресел с отпечатками наших голов; угли в камине, где вечером жарко пылал огонь, все еще тлеющие, хотя настало утро. И Джеспер, любимый Джеспер, с говорящими глазами и тяжелой, отвисшей нижней губой, растянувшийся на полу и виляющий хвостом при звуке шагов хозяина.
Облако, невидимое до тех пор, закрыло луну и повисло на миг, как темная, заслонившая лицо рука. И вместе с лунным светом исчезла иллюзия, погасли огни в окнах дома. Я глядела на пустую бездушную оболочку, где больше не блуждали тени прошлого, где за голыми стенами не слышен был шепот его былых обитателей.
Дом был гробницей, в его руинах лежали похороненные нами страдания и страх. Воскрешения из мертвых не будет. Теперь, думая о Мэндерли наяву, я не стану испытывать горечи. Я буду думать о том, как все могло бы быть, если бы я была способна жить там без страха. Буду вспоминать розарий летом и птиц, поющих на заре. Чай под каштаном и рокот моря, доносившийся до нас снизу, из-за лужаек.
Я буду думать о цветущей сирени и о Счастливой Долине. О том, что нетленно, что не может исчезнуть. Эти воспоминания не причинят мне боли. Все это я решила во сне, в то время как тучи заслонили лик луны, ибо – как большинство спящих – я знала, что вижу сон, что все это мне только снится. В действительности я лежала в постели в чужой стране, в тысяче миль оттуда, и через несколько секунд проснусь в небольшом пустом гостиничном номере, в самой безликости которого есть покой. Я вздохну, потянусь, перевернусь на другой бок и, открыв глаза, не пойму в первый миг, почему так сверкает солнце, так беспощадно ярка синь неба, столь непохожего на освещенное мягким светом луны небо моего сна. День, ждущий нас, будет долог и однообразен, не спорю, но зато преисполненный умиротворения, дорогой для нас безмятежности, ранее неведомой нам. Мы не будем говорить о Мэндерли. Я не расскажу о своем сне. Ибо Мэндерли больше нам не принадлежит. Мэндерли больше нет.
Глава II
Мы никогда туда не вернемся, это бесспорно. Прошлое все еще слишком близко к нам. Все, что мы пытались забыть, оставить позади, может вновь пробудиться, и страх, тайное беспокойство, перерастающее постепенно в слепую, не поддающуюся доводам рассудка панику – сейчас, слава богу, утихшую, – может непостижимым образом вновь стать нашим постоянным спутником.
…Он удивительно терпелив и никогда не жалуется, даже когда ему на память приходит былое… что случается, я думаю, гораздо чаще, чем он показывает мне.
Я сразу догадываюсь об этом по его потерянному, отсутствующему виду. Внезапно это любимое лицо утрачивает всякое выражение, словно его стирает невидимая рука, и превращается в маску: застывшие черты по-прежнему прекрасны, но лишены жизни и тепла, словно высечены из мрамора. Он принимается курить сигарету за сигаретой, забывая их гасить, и тлеющие окурки осыпают кругом землю, как лепестки. Начинает оживленно и быстро говорить… ни о чем, хватаясь за любую тему, лишь бы унять боль. Кажется, существует теория, что страдания облагораживают людей, делают их сильнее и, чтобы шагнуть вперед, мы должны пройти искус огнем. Этого нам досталось с лихвой, как ни иронически звучат мои слова. Оба мы узнали, что такое страх, и одиночество, и душевная мука. Я думаю, в жизни каждого человека рано или поздно наступает испытание. У всех нас есть собственный дьявол-мучитель, который ездит на нас верхом и с которым в конце концов мы вынуждены сразиться. Своих дьяволов мы одолели, во всяком случае, так мы полагаем.
Дьяволы больше на нас не ездят. Мы выиграли битву, хотя и покрылись шрамами от ран. Его предчувствие, что нас ждет несчастье, было верным с самого начала, и, как плохая актриса в слабой пьесе, я могу велеречиво возгласить, что мы заплатили за свою свободу. Но с меня хватит мелодрам в этой жизни, и я охотно отдала бы свои пять чувств, если бы это помогло сохранить теперешние покой и защищенность. Счастье не приз, который получаешь в награду, это свойство мышления, состояние души. Конечно, у нас бывают порой минуты уныния и грусти, но бывают и другие минуты, когда время, неподвластное часам, незаметно течет вперед и переходит в вечность, и, поймав его улыбку, я знаю, что мы – вместе, что мы шагаем в лад, между нами нет расхождения в мыслях или взглядах, которые могли бы нас разъединить.
У нас нет больше секретов друг от друга. Мы делимся всем. Не спорю, наш скромный отель довольно уныл, кормят здесь неважно, один день похож на другой, и все же мы не хотели бы жить иначе. В больших отелях встречалось бы слишком много людей, которые его знают. Мы оба неприхотливы, а если нам и бывает скучно… что ж, скука – хорошее лекарство от страха. Мы привыкли к нашей монотонной жизни, и я… я научилась прекрасно читать вслух. Он проявляет нетерпение лишь тогда, когда задерживается почтальон, – значит, пройдет еще день, пока прибудет почта из Англии. Мы пробовали пользоваться приемником, но треск действует ему на нервы, и мы предпочитаем подождать, но зато уж получить удовольствие: результаты крикетного матча, сыгранного недели назад, так много теперь для нас значат.
Соревнования по крикету между Англией и Австралией, спасавшие нас от тоски, встречи по боксу, даже турниры бильярдистов! Финальные игры между спортивными командами закрытых школ, собачьи гонки, диковинные состязания в отдаленных графствах – все это льет воду на нашу мельницу, мы все перемелем. Иногда мне попадается старый экземпляр «Филд», и я переношусь с этого малопримечательного островка в настоящую английскую весну. Я читаю о ручьях меж меловых берегов, о поденках, о щавеле, растущем на зеленых лугах, о грачах, кружащих над деревьями, в точности как в Мэндерли. От захватанных, рваных страниц журнала до меня доносится запах сырой земли, кислый привкус торфа с сухих болот, я ощущаю под пальцами набухший от воды мох, с белеющими там и сям пятнами помета цапли.
Однажды мне попалась в «Филд» статья о диких голубях, и, когда я читала ее вслух, мне чудилось, будто я снова в Мэндерли, в самой глубине парка, и голуби порхают у меня над головой. Я слышала их тихое самодовольное воркование, навевающее умиротворенность и прохладу в жаркие летние послеполуденные часы. Ничто не нарушало их покоя, пока не появлялся Джеспер; опустив мокрый нос к земле, он бежал вприпрыжку по подлеску, разыскивая меня. Словно старые дамы, застигнутые во время омовения, голуби суетливо вспархивали из своих убежищ, бестолково носились взад и вперед, шумно хлопая крыльями, и улетали от нас над верхушками деревьев. Вот их уже не видно и не слышно. Когда они исчезали, наступала иная тишина, и я, встревоженная, не зная сама чем, вдруг замечала, что с шуршащих под ногами листьев исчез солнечный узор, ветки деревьев потемнели, тени удлинились; вспоминала, что к чаю меня ждет свежая малина. Я поднималась с куртинки папоротника, стряхивала с юбки лоскутки прошлогодних листьев и, подозвав свистом Джеспера, направлялась к дому, презирая себя за торопливую поступь, за брошенный назад быстрый взгляд.
Ну не странно ли? Какая-то статья о диких голубях так живо вызвала в памяти прошлое, что я стала спотыкаться на каждой строке. Внезапно я и совсем замолчала – я увидела, как посерело его лицо, – и принялась перелистывать страницы, пока не нашла краткого отчета о крикете, очень делового и скучного: команда Мидлсекса успешно отбивала мячи от своих ворот в «Овале»[1], набирая все большее количество перебежек. Как я благословляла эти невозмутимые фигуры в спортивных костюмах! Через несколько минут его лицо расслабилось, на щеки вернулся румянец, и он со здоровым раздражением принялся высмеивать подачу мячей серрейской команды.
Мы избежали возвращения в прошлое, но для меня это было хорошим уроком. Читай на здоровье вслух все английские новости: спортивные, политические и светские – всё, в чем проявляется английское самодовольство, но то, что причиняет боль, в будущем держи при себе. Краски, ароматы, звуки, дождь, плеск волны, даже осенние туманы и запах воды при разливе – в этих воспоминаниях о Мэндерли я себе не могла отказать. Но потворствовать этой своей слабости можно лишь втайне от него. Некоторые люди грешат тем, что читают железнодорожные справочники. Они планируют бесчисленные поездки по стране просто ради удовольствия согласовать расписание поездов и самые невозможные пересадки. Мое «хобби» менее скучное, хотя не менее странное. Я – неистощимый источник сведений о сельской Англии. Представьте себе, я знаю имена всех владельцев всех вересковых пустошей и торфяных болот и их арендаторов тоже. Я знаю, сколько убито тетеревов, куропаток и оленей за охотничий сезон. Я знаю, где водится форель, где играет лосось. Я присутствую при всех охотничьих сборах, участвую во всех гонах. Даже имена тех, кто вываживает охотничьих щенков, мне знакомы. Состояние урожаев, цена племенного скота, таинственные болезни свиней – для меня нет более приятного чтения. Жалкое занятие, возможно, и не очень-то развивающее ум, но я дышу милым мне воздухом Англии и могу потом с большим мужеством глядеть на это сверкающее небо.
Низкорослые виноградники и крошащиеся под ногой камни перестают существовать, ведь я могу, если захочу, дать волю воображению и собирать наперстянку и белую дрёму среди сырых от росы живых изгородей.
Бедные причуды фантазии, такие скромные, такие хрупкие… Они помогают побороть горечь и сожаление и скрашивают ссылку, на которую мы сами себя обрекли.
Благодаря им я с удовольствием иду на послеполуденную прогулку и возвращаюсь с улыбкой, свежая, готовая стойко выдержать ритуал чаепития. Он неизменен. По два ломтика хлеба с маслом и китайский чай. Какой мы, должно быть, кажемся старозаветной парой, цепляясь за этот обычай лишь потому, что привезли его из Англии. Здесь, на этом балконе, белом, безликом, из века заливаемом солнцем, я вспоминаю Мэндерли, где ровно в половине пятого ставился в библиотеке перед камином чайный стол. Минута в минуту распахивались двери, и начиналась никогда не изменяющаяся процедура накрывания на стол: белоснежная скатерть, серебряный поднос, чайник с кипятком. Джеспер – длинные, как у всех спаниелей, уши свисают до полу – делает вид, будто его вовсе не волнует появление пирожков. Каждый день нас ждало целое пиршество, а мы ели так мало.
Как сейчас вижу эти масляные сдобные булочки, крошечные хрустящие треугольные тосты, ячменные и пшеничные лепешки с пылу с жару! Сандвичи неизвестной мне природы, с таинственным запахом и такие восхитительные на вкус, и совершенно особенную имбирную коврижку. Торт с кремом из кокосовых орехов, тающий во рту, и его более солидного соседа – кекс с изюмом и цукатами. Еды было столько, что ее хватило бы на неделю целой семье. Я так и не узнала, куда все это девалось, и подобное расточительство порой тревожило меня.
Но я не осмеливалась спросить миссис Дэнверс. Она бы презрительно взглянула на меня, улыбаясь своей ледяной надменной улыбкой, и сказала – я так и слышу ее слова: «Ко мне не было никаких претензий, когда была жива миссис де Уинтер». Миссис Дэнверс. Интересно, что она делает теперь? Она и Фейвел. Я думаю, именно из-за этого выражения ее лица мне впервые стало не по себе. У меня невольно мелькнуло в уме: «Она сравнивает меня с Ребеккой» – и между нами острым мечом вонзается тень…
Теперь все это позади, с этим покончено, поставлена точка, подведена черта. Меня больше не мучают кошмары, не обуревают страхи, мы оба свободны. Даже верный мой Джеспер уснул вечным сном, а Мэндерли больше нет. Осталась лишь пустая оболочка в глубине запущенного парка; он такой, каким я видела его во сне. Заросли сорняков, царство птиц. Возможно, туда забредает порой бродяга или браконьер в поисках укрытия от внезапного ливня, и, если у него храброе сердце, это сойдет ему с рук. Но его робкому, слабонервному собрату лучше держаться подальше от Мэндерли, тамошний парк не для него. Кто знает, вдруг он нечаянно наткнется на домик в бухте; вряд ли он почувствует себя уютно, слушая, как мелкий дождь барабанит по обвалившейся крыше. Кто знает, вдруг там все еще не выветрилась та напряженная, томительная атмосфера… А поворот подъездной аллеи, где деревья теснят гравий, – там тоже не стоит задерживаться, особенно после захода солнца. Шелест листьев так напоминает шелест женского вечернего платья, словно кто-то пробирается там украдкой, а когда, внезапно задрожав, они падают на землю и несутся по дорожке, кажется, будто слышишь легкий перестук торопливых женских шагов, и вмятина на гравии похожа на след атласной туфельки на высоком каблуке.
Вот когда я вспоминаю обо всем этом, я с облегчением гляжу на панораму перед нашим балконом. В ослепительном свете не заметишь крадущихся теней, каменистые виноградники поблескивают на солнце, бугенвиллея бела от пыли. Быть может, наступит день и я взгляну на этот вид даже с нежностью. Сейчас он внушает мне если не любовь, то по крайней мере уверенность в себе. А уверенность – качество, которое я очень высоко ценю, хоть и обрела его поздновато. Я думаю, храброй меня сделало одно – его зависимость от меня. Во всяком случае, я избавилась от своей робости, неловкости, страха перед чужими. Я очень отличаюсь от той девочки, которая впервые ехала в Мэндерли, скованная отчаянной застенчивостью, полная надежд и упований, горячо желая понравиться. Конечно, мое полное неумение держаться и производило такое плохое впечатление на людей вроде миссис Дэнверс. Где мне было тягаться с Ребеккой! Память перекидывает мост к тем годам, и я вновь вижу, как я – прямые, коротко стриженные волосы, юное, ненапудренное лицо, плохо сидящий костюм и джемпер собственной вязки – плетусь позади миссис Ван-Хоппер, как пугливый, сторожкий жеребенок. Она шествует впереди меня к ланчу, с трудом сохраняя равновесие на высоченных каблуках, короткое туловище ходит ходуном, ее блузка, вся в воланах и рюшах, – комплимент огромному бюсту и раскачивающимся бедрам, новая шляпа с чудовищным пером надета набок, открывая широкий лоб, голый, как колено. В одной руке – гигантский ридикюль, из тех, где держат паспорта, записные книжки-календари, куда заносятся встречи и приглашения, и листки с записями счета при игре в бридж, другая – поигрывает неизбежным лорнетом, от которого не укрывается никто и ничто.
Она подходит к «своему» столику в углу зала, возле окна, и, подняв лорнет к свинячьим глазкам, обозревает ресторан, затем опускает лорнет – он повисает на длинной черной ленте – и восклицает недовольно: «Ни одной известной фигуры. Я потребую у дирекции скидку. Для чего, они думают, я сюда приезжаю? Любоваться на мальчишек-рассыльных?» И пронзительным, отрывистым голосом, режущим слух, как пила, подзывает к себе официанта.
Как не похож ресторанчик, где мы теперь едим, на этот огромный, пышно и кричаще украшенный зал в отеле «Кот-д’Азюр»[2] в Монте-Карло, как не похож мой теперешний сотрапезник, который ровными, спокойными, методичными движениями красивых рук чистит мандарин, поднимая время от времени взгляд, чтобы улыбнуться мне, на миссис Ван-Хоппер, чьи жирные, унизанные золотыми кольцами пальцы роются в тарелке, где горой лежат ravioli[3], a глазки быстро перебегают от ее тарелки к моей – вдруг я выбрала более вкусное блюдо. Она могла не волноваться: официант, с присущей их племени проницательностью, давно уже догадался о моем зависимом положении и теперь поставил передо мной блюдо с холодным языком, которое кто-то отправил обратно в буфет, так как мясо было плохо нарезано. Как странно, откуда эта злоба слуг, их неприкрытое раздражение? Помню, я однажды гостила вместе с миссис Ван-Хоппер в загородном доме. Горничная никогда не отвечала на мой робкий звонок и не приносила вычищенных туфель, а утренний чай, холодный как лед, проливала на пол за дверью в спальню. То же, хотя и в меньшей степени, было в «Кот-д’Азюр»; иногда же преднамеренное невнимание переходило в оскорбительную фамильярность, и покупка марок у ухмыляющегося портье превращалась в испытание, которого я предпочла бы избежать. Какой молодой и неопытной я, должно быть, казалась да и чувствовала себя. Слишком уязвимая, слишком впечатлительная, я ощущала шпильки и булавочные уколы в словах, за которыми не скрывалось ничего дурного.
Как хорошо я помню эту тарелку с холодным языком! Сухой, неаппетитный, нарезанный с острого конца, но отказаться от него у меня не хватило смелости. Мы ели молча, так как миссис Ван-Хоппер не любила отвлекаться во время еды, а глядя, как течет у нее по подбородку соус, я понимала, что пельмени пришлись ей по вкусу.
Зрелище это не могло пробудить во мне аппетит к холодному языку; посмотрев в сторону, я заметила, что соседний столик, не занятый последние три дня, снова накрыт. Метрдотель, кланяясь так, как того удостаивались лишь избранные клиенты, препровождал на место вновь прибывшего гостя.
Миссис Ван-Хоппер положила вилку и навела на него лорнет. Я покраснела от стыда. Источник ее интереса, не замечая назойливого внимания, просматривал меню. Но вот миссис Ван-Хоппер со стуком сложила лорнет, перегнулась ко мне через столик и, сверкая глазами от возбуждения, проговорила громче, чем следовало:
– Это Макс де Уинтер. Владелец Мэндерли. Вы, конечно, слышали об этом поместье. Он неважно выглядит, правда? Говорят, не может оправиться после смерти жены.
Глава III
Интересно, как сложилась бы моя жизнь, если бы миссис Ван-Хоппер не была снобом.
Забавно думать, что все мое дальнейшее существование оказалось обусловленным этим ее качеством. Ее любопытство было болезнью, чуть не манией. Сперва, видя, как люди смеются над ней за спиной, как они поспешно выходят из комнаты, когда она появляется, и даже убегают через служебный вход в коридоре, где был наш номер, я приходила в ужасное замешательство; я казалась сама себе «мальчиком для битья», которого секут вместо его хозяина. Миссис Ван-Хоппер уже много лет подряд приезжала в отель «Кот-д’Азюр» и приобрела печальную известность в Монте-Карло тем, что – помимо бриджа – занималась только одним: набивалась в друзья всем сколько-нибудь именитым людям, даже если она видела их один раз в жизни, скажем, где-нибудь на почте. Она умудрялась так или иначе с ними познакомиться, и прежде чем ее жертва догадывалась об опасности, приглашала ее к себе в номер люкс. Нападала она так внезапно и нагло, что мало кому удавалось спастись. В «Кот-д’Азюр» она всегда занимала один определенный диванчик в гостиной, находящийся между холлом и проходом в ресторан, и пила там кофе после ланча и обеда. Никто из приходящих и уходящих не мог ее миновать. Иногда она использовала меня в качестве приманки, чтобы залучить свою добычу, и посылала в противоположный конец гостиной с каким-нибудь устным посланием, книгой, газетой, адресом магазина или известием, что она вдруг вспомнила их общих друзей. Как я ненавидела эти поручения! Знаменитости были для миссис Ван-Хоппер хлебом насущным, как крепкий бульон для больного, и, хотя она предпочитала титулы, сходил любой, чье лицо она видела в иллюстрированной газете, чье имя упоминалось в светской хронике: писатели, художники, актеры и им подобные, даже самые посредственные, лишь бы она узнала о них из печати.
Я вижу ее в этот незабываемый день, словно это было вчера, – не важно, сколько лет прошло с тех пор, – вижу, как она сидит на своем любимом диванчике в гостиной, обдумывая способ нападения. По ее нетерпеливым жестам, по тому, как она постукивает лорнетом по зубам, я могла сказать, что она перебирает различные возможности. Когда миссис Ван-Хоппер отказалась от сладкого и почти не притронулась к десерту, я сразу поняла, что она хочет покончить с ланчем раньше вновь прибывшего гостя и расположиться там, где она сможет его перехватить. Внезапно она обернулась ко мне, глазки ее горели.
– Поднимитесь быстренько наверх и найдите письмо от моего племянника. Вы помните, то, которое он написал во время медового месяца, там еще вложены моментальные снимки. Принесите мне его сюда, да поскорей.
Я увидела, что план составлен, и племянник послужит поводом к знакомству. Как отвратительна мне была роль, которую я должна была исполнять не в первый раз. Словно ассистент фокусника, я приносила реквизит для очередного трюка, а затем молча следила, чтобы вовремя подыграть. Этот незнакомец вряд ли будет приветствовать ее посягательства, в этом я не сомневалась. Из того немногого, что я узнала о нем за ланчем от миссис Ван-Хоппер, – отдельные слухи, собранные по крупицам со страниц газет десять месяцев назад и отложенные про запас в ее памяти, – я, несмотря на молодость и незнание света, сделала вывод, что его возмутит ее неожиданное вторжение в его одиночество. Почему он решил поселиться в «Кот-д’Азюр» в Монте-Карло, нас не касалось, это его личное дело, любому, кроме миссис Ван-Хоппер, это было бы ясно. Но ей такт был незнаком так же, как и деликатность, и, поскольку пересуды были необходимы ей как воздух, этому незнакомцу предстояло попасть под нож ее любопытства. Я нашла письмо в одной из ячеек ее бюро и задержалась на миг, прежде чем спуститься в гостиную. Мне казалось, хотя это было глупо, что я даю ему этим несколько минут отсрочки.
Ах, если бы у меня хватило смелости спуститься, минуя гостиную, по черной лестнице в ресторан и предупредить его о засаде! Однако условности были сильнее меня, к тому же я не знала, как сформулировать свое предупреждение. Мне оставалось одно – сидеть на обычном месте рядом с миссис Ван-Хоппер, пока она, как огромный самодовольный паук, будет плести вокруг незнакомца свою паутину, обволакивая его скукой.
Я пробыла наверху дольше, чем мне казалось, и, спустившись в гостиную, увидела, что он уже вышел из ресторана и миссис Ван-Хоппер, боясь его упустить, рискнула не церемониться и, не дождавшись письма, представилась ему на свой страх и риск. Теперь он сидел рядом с ней на диване. Я подошла к ним и молча протянула письмо. Он тут же поднялся, а миссис Ван-Хоппер, воспламененная успехом, неопределенно махнула рукой в мою сторону и пробормотала мое имя.
– Мистер де Уинтер выпьет с нами кофе, пойдите попросите официанта принести еще одну чашку, – сказала она небрежно, чтобы он мог догадаться о моем скромном положении.
Тон миссис Ван-Хоппер означал, что я еще очень молода и ничего собой не представляю, нет никакой нужды включать меня в разговор. Она всегда говорила таким тоном, когда хотела произвести впечатление, к тому же это было своего рода самозащитой, так как однажды меня, к нашему обоюдному замешательству, приняли за ее дочь. Ее лаконичность показывала, что на меня спокойно можно не обращать внимания, после чего женщины коротко кивали мне, что можно было расценивать и как приветствие, и как отказ от моих услуг, а мужчины с облегчением вновь опускались в удобное кресло, не боясь погрешить против приличий.
Поэтому я удивилась, увидев, что наш новый знакомый продолжает стоять и, опередив меня, подзывает официанта.
– Простите, я вынужден вам возразить, – сказал он миссис Ван-Хоппер, – я прошу вас обеих выпить кофе со мной. – И прежде чем я успела понять, что произошло, он уже сидел на жестком стуле – моем обычном месте, а я – на диванчике, рядом с миссис Ван-Хоппер.
На ее лице мелькнуло раздражение – это не входило в ее планы, – но она сразу же взяла себя в руки и, оттеснив меня своей массивной фигурой в сторону, наклонилась к нему и, размахивая письмом, громко заговорила:
– Знаете, я узнала вас сразу, как вы вошли в ресторан, и тут же подумала: «Да это же мистер де Уинтер, друг Билли. Я обязательно должна показать ему снимки Билли и его молодой жены, которые они сделали во время медового месяца». Вот они. Это Дора. Не правда ли, душечка? Такая тонюсенькая талия и огромные глаза. Это они загорают в Палм-Бич. Билли безумно в нее влюблен, сами представляете. Они еще не были знакомы, конечно, когда он устраивал тот прием у Клариджа, где я вас впервые встретила. Но вы, верно, не помните такую старуху, как я?
Слова сопровождались блеском зубов и игривым взглядом.
– Напротив, – сказал он. – Я прекрасно вас помню. – И прежде чем она успела заманить его в ловушку воспоминаний о первой встрече, он предложил ей свой портсигар, и закуривание сигареты временно ее отвлекло.
– Я не очень-то люблю Палм-Бич, – сказал он, дунув на спичку, и я подумала, как нереально он выглядел бы на этом модном курорте Флориды. Его место было в окруженном стеной городке пятнадцатого века, городке с узкими, вымощенными булыжником улочками и готическими шпилями, жители которого носят остроносые башмаки и шерстяные чулки грубой ручной вязки. Его лицо, чуткое, нервное, необъяснимо средневековое, сразу приковывало взгляд, и мне пришел на память «Портрет неизвестного», виденный в какой-то, забыла какой, картинной галерее. Если бы можно было вместо костюма из твида надеть на него черный камзол с кружевными манжетами и воротником, он смотрел бы на нас, на наш современный мир из далекого прошлого, прошлого, где мужчины ходили ночью в плащах и прятались в тени старинных порталов, прошлого винтовых лестниц и мрачных подземелий, прошлого, где во мраке раздавался шепот, тускло мерцала сталь клинков, прошлого молчаливой изысканной галантности.
Ах, если бы вспомнить, кто из старых мастеров написал этот портрет! Он висел в углу галереи в темной раме, и его глаза повсюду следовали за мной…
Они все еще разговаривали, а я давно потеряла нить беседы.
– …Нет, даже двадцать лет назад, – проговорил он. – Такие вещи никогда меня не привлекали.
Миссис Ван-Хоппер издала жирный самодовольный смешок.
– Ну, если бы у Билли был такой дом, как Мэндерли, он бы тоже не променял его на Палм-Бич, – сказала она. – Говорят, это настоящая сказка, другого слова не подберешь.
Она приостановилась, ожидая, что он улыбнется, но он продолжал курить, и я заметила, что тонкая, как паутинка, морщина перерезала его лоб между бровей.
– Я, конечно, видела его на открытках, – продолжала миссис Ван-Хоппер, – он совершенно обворожителен. Помню, Билли мне говорил, что по красоте все большие загородные дома и в подметки ему не годятся. Удивляюсь, как вы вообще способны расстаться с ним.
Его молчание сделалось тягостным и было бы замечено любым другим, но миссис Ван-Хоппер, забравшись в чужие владения, куда вход посторонним был запрещен, неслась вперед, топча все копытами, как дурная коза. Я чувствовала, как краска заливает мне лицо, ведь заодно с собой она и меня поставила в унизительное положение.
– Конечно, вы, англичане, все одинаковы, когда речь идет о ваших поместьях, – продолжала миссис Ван-Хоппер все громче и громче. – Вы умаляете их достоинства, чтобы вас не обвинили в гордыне. Разве не в Мэндерли находятся эти знаменитые хоры для менестрелей? И очень ценные портреты? – Она повернулась ко мне. – Мистер де Уинтер так скромен, что сам не признается в этом, а его прелестный дом, если не ошибаюсь, является фамильным владением со времен Нормандского завоевания[4]. Говорят, хоры для менестрелей – настоящая жемчужина. Ваши предки, вероятно, часто принимали у себя членов королевской семьи, мистер де Уинтер?
Такого мне еще не приходилось слышать даже от нее, но его неожиданный ответ хлестнул, как плеть.
– После Этельреда[5] – не очень часто, – сказал он. – Того, которого прозвали Копушей. По правде говоря, он получил это прозвище, когда гостил у нас в доме. Он всегда опаздывал к обеду.
Спору нет, она это заслужила, и я ждала, что она переменится в лице, но, как ни трудно в это поверить, до нее просто не дошел смысл его слов, и мучилась не она, а я, как отшлепанный ребенок.
– Неужели? Как интересно! – воскликнула миссис Ван-Хоппер. – Я и понятия не имела. Я не сильна в истории, а английские короли всегда путались у меня в голове. Надо будет написать дочери, вот она у меня превзошла все науки.
Наступило молчание, и я почувствовала, как вновь неудержимо краснею. Слишком я была молода, вот в чем беда. Будь я постарше, я поймала бы его взгляд, улыбнулась, и невероятное поведение миссис Ван-Хоппер объединило бы нас, а я вместо этого сгорала от стыда, испытывала столь частые в юные годы муки.
Думаю, он догадался о моих страданиях, потому что он наклонился ко мне и мягко спросил, выпью ли я еще кофе, и, хотя я покачала отрицательно головой, его глаза, недоумевающие, задумчивые, еще на несколько секунд задержались на мне. Он пытался разгадать, что нас с ней связывает, спрашивал себя, такая же ли я пустая и поверхностная.
– Что вы думаете о Монте-Карло? Или вы вообще о нем не думаете? – спросил он.
Его попытка вовлечь в разговор зеленую девчонку, вчерашнюю школьницу с острыми локтями и прямыми волосами, застала меня врасплох; я показала себя в самом невыгодном свете, с запинкой пробормотав какую-то глупейшую банальную фразу о том, что здесь все кажется искусственным. Но не успела я закончить, как миссис Ван-Хоппер прервала меня:
– Она избалована, мистер де Уинтер, вот в чем несчастье. Миллион девушек отдали бы глаза за возможность увидеть Монте.
– Ну, тогда они вряд ли достигли бы своей цели, – сказал он, улыбаясь.
Миссис Ван-Хоппер пожала плечами и выпустила густой клуб дыма. Я думаю, она опять ничего не поняла.
– А я верна Монте, – сказала она. – Английская зима меня угнетает. Мой организм просто не переносит ее. А что сюда привело вас? Вы ведь не из здешних завсегдатаев. Собираетесь играть в «железку»[6] или привезли клюшки для гольфа?
– Я еще не решил, – сказал он. – Я уехал в довольно большой спешке.
Собственные слова, видимо, всколыхнули какое-то воспоминание, потому что лицо его снова омрачилось и он слегка нахмурился. Миссис Ван-Хоппер была по-прежнему слепа и глуха.
– Конечно, – продолжала она, – вы скучаете по туманам в Мэндерли. Это совсем другое дело; западные графства, должно быть, восхитительны весной.
Он протянул руку к пепельнице, чтобы затушить окурок, и я заметила почти неуловимую перемену в выражении его глаз; в них мелькнуло и тут же исчезло что-то, чего я не смогла бы определить словами, лишь почувствовала: это «что-то» касается его одного и не предназначено для чужого взора.
– Да, – коротко бросил он. – Мэндерли весной красив, как никогда.
На секунду или две наступило молчание; молчание, принесшее с собой ощущение тревоги, и, взглянув на него, я подумала, что сейчас он еще больше похож на моего «Незнакомца», который, закутавшись в плащ, идет ночью по темным переходам. Голос миссис Ван-Хоппер, пронзительный, как электрический звонок, развеял это видение.
– Вы, верно, знаете здесь кучу народа, хотя, должна признаться, в этом сезоне в Монте скучно. Видишь так мало знакомых лиц. Здесь герцог Мидлсекс на своей яхте, но я еще там не была. – (Она ни разу «там» не была, насколько мне известно.) – Вы, конечно, знакомы с Нелл Мидлсекс, – продолжала миссис Ван-Хоппер. – Она очаровательна. Говорят, будто второй ребенок не от него, но я не верю. Чего только не наговорят о хорошенькой женщине! А она так прелестна. Скажите, правда, что брак Кэкстон-Хайслопов оказался неудачным?…
Миссис Ван-Хоппер продолжала болтать, выкладывая обрывки сплетен, не видя и не понимая, что он никогда не слышал этих имен, они для него пустой звук, и чем дальше, тем он становится молчаливее и холоднее. Но он ни разу ее не прервал, ни разу не взглянул на часы. Казалось, после того первого прегрешения против хорошего тона, когда он выставил ее передо мной в смешном свете, он решил, как ему должно себя вести, и не отступал от этого ни на шаг. Спас его в конце концов рассыльный, который пришел передать миссис Ван-Хоппер, что в номере ее ждет портниха.
Мистер де Уинтер тут же поднялся и отодвинул стул.
– Не смею вас задерживать, – сказал он. – Моды в наши дни меняются так быстро, они могут перемениться, пока вы поднимаетесь к себе.
Миссис Ван-Хоппер не почувствовала насмешки, она восприняла его слова как шутку.
– Я счастлива, что случайно встретилась здесь с вами, мистер де Уинтер, – сказала она, когда мы шли к лифту. – Надеюсь, теперь, когда у меня хватило смелости сделать первый шаг, мы будем иногда видеться. Вы должны зайти как-нибудь ко мне выпить рюмочку аперитива. Завтра вечером у меня соберется кое-кто из друзей. Почему бы вам не присоединиться?
Я отвернулась, чтобы не видеть, как он подыскивает отговорку.
– Мне очень жаль, – сказал он, – но завтра я, возможно, поеду на машине в Соспел. И не знаю еще, когда вернусь.
Миссис Ван-Хоппер вынуждена была отступить, но все еще мешкала у входа в лифт.
– Я надеюсь, вам дали хороший номер? Половина отеля пуста, если вам там неудобно, обязательно поднимите шум. Ваш слуга, верно, уже распаковал вещи?
В своей фамильярности она хватила через край, это было чересчур даже для нее. Я мельком увидела выражение его лица.
– У меня нет слуги, – спокойно отвечал он. – Возможно, вы не откажетесь мне помочь?
На этот раз стрела попала в цель: миссис Ван-Хоппер покраснела и неловко рассмеялась.
– Ну, вряд ли… – начала она, затем внезапно – я не поверила своим ушам – она обернулась ко мне: – Может быть, вы услужите мистеру де Уинтеру, если ему что-нибудь понадобится? Вы ведь многое умеете, детка.
Мгновенная пауза; я, пригвожденная к полу, ждала, что он ответит. Он чуть насмешливо глядел на нас, забавляясь в душе; по губам скользнула легкая улыбка.
– Соблазнительное предложение, – сказал он, – но я останусь верным нашему семейному девизу: «Кто ездит один, тот приезжает первым». Вы, возможно, не слышали о нем?
И, не дожидаясь ответа, он повернулся и покинул нас.
– Ничего не понимаю, – сказала миссис Ван-Хоппер, когда мы поднимались в лифте. – Как вы думаете, почему он ушел так внезапно? Шутка? Мужчины очень странно себя ведут. Помню, я была однажды знакома с известным писателем, так он кидался к служебной лестнице, стоило ему меня увидеть. Я полагаю, он питал ко мне склонность, но был неуверен в себе. Ну, тогда я, правда, была моложе.
Лифт резко остановился. Мы прибыли на наш этаж. Рассыльный распахнул дверцы.
– Между прочим, милочка, – сказала миссис Ван-Хоппер, в то время как мы шли по коридору, – не подумайте, что я к вам придираюсь, но сегодня вы чуть-чуть, самую малость, слишком выскакивали вперед. Ваша попытка единолично завладеть разговором привела меня в полное замешательство. Я уверена, что и его тоже, – мужчины терпеть не могут таких вещей.
Я ничего не ответила. Что я могла ей сказать…
– Ну, полно дуться, – засмеялась она и пожала плечами. – В конце концов, я отвечаю здесь за ваше поведение, и вы, бесспорно, можете выслушать совет женщины, которая годится вам в матери. En bien, Blaise, je viens…[7] – И, напевая какую-то мелодию, она вошла в спальню, где ее ожидала портниха.
Я встала коленями на подоконник и выглянула наружу. Все еще ярко светило солнце, дул свежий радостный ветер. Через полчаса мы засядем за бридж, крепко-накрепко закрыв окна и пустив до отказа паровое отопление. Я подумала о пепельницах, которые мне предстоит опорожнять, где вымазанные губной помадой окурки будут лежать вперемешку с огрызками шоколадных конфет. Для того, кто привык к «подкидному дураку», не так-то просто выучиться бриджу. К тому же друзьям миссис Ван-Хоппер было скучно играть со мной.
Я чувствовала, что мое присутствие – присутствие такого юного существа – налагает узду на их беседу, что при мне, как и при горничной, прислуживающей за обедом, пока не подадут десерт, они не могут с привычной легкостью рыться в чужом грязном белье и перемывать косточки знакомым. Мужчины с наигранно сердечным видом задавали мне шутливые вопросы по истории и живописи, догадываясь, что я совсем недавно закончила школу и ни о чем другом говорить не смогу.
Я вздохнула и отвернулась от окна. Солнце так много сулило, по морю весело гуляли барашки. Я вспомнила тот уголок Монако, куда я забрела несколько дней назад, покосившийся домик на выложенной булыжником площади. В высокой полуразрушенной крыше было оконце, узкое, как щель. Здесь задержался дух Средневековья, и, взяв с бюро бумагу и карандаш, я набросала рассеянной рукой чей-то бледный профиль с орлиным носом. Суровый взгляд, высокая переносица, презрительно изогнутая верхняя губа. Я добавила остроконечную бородку и кружевной воротник, как в давние, в иные времена это сделал старый художник.
Раздался стук в дверь, и в комнату вошел мальчик-лифтер с конвертом в руке.
– Мадам в спальне, – сказала я, но он покачал головой и ответил, что письмо адресовано мне.
Я вскрыла конверт и вынула листок бумаги с несколькими словами, начертанными незнакомой рукой. «Простите меня. Я был очень груб сегодня». Только и всего. Ни подписи, ни обращения. Но на конверте стояло мое имя, к тому же, что не часто бывало, написанное без ошибки.
– Ответ будет? – спросил мальчик.
Я подняла голову от набросанных наспех слов.
– Нет, – сказала я. – Не будет.
Когда он ушел, я положила письмо в карман и снова взялась за рисунок, но он, не знаю почему, разонравился мне, лицо казалось застывшим, безжизненным, а бородка и кружевной воротник придавали ему маскарадный вид.
Глава IV
На следующее утро миссис Ван-Хоппер проснулась с температурой 38,8° и болью в горле. Я позвонила по телефону ее доктору, он тут же пришел и поставил обычный диагноз: инфлюэнца.
– Вы должны оставаться в постели, – сказал он, – пока я не разрешу вам встать; мне не нравятся тоны сердца. И они не станут лучше, если вы не будете соблюдать абсолютный покой. Я бы предпочел, – продолжал он, обращаясь на этот раз ко мне, – чтобы за миссис Ван-Хоппер ухаживала опытная сиделка. Вам ее будет не приподнять. Недельки примерно две, не больше.
Я считала, что это просто нелепо, и стала протестовать, но, к моему удивлению, миссис Ван-Хоппер с ним согласилась. Я думаю, она с удовольствием предвкушала возню, которую поднимут вокруг нее друзья, их сочувствие, записки и визиты, букеты цветов. Монте-Карло стал ей надоедать, и это легкое недомогание внесет разнообразие в ее жизнь. Сиделка будет делать ей инъекции и легкий массаж, она посидит на диете.
Когда после прихода сиделки я оставила миссис Ван-Хоппер полулежащей на подушках в лучшей ночной блузе на плечах и отделанном лентами чепце… с падающей температурой… она была абсолютно счастлива. Мучаясь угрызениями совести за то, что у меня так легко на душе, я обзвонила ее друзей, отложила чаепитие, которое должно было состояться в тот вечер, и отправилась в ресторан к ланчу по крайней мере минут на тридцать раньше, чем всегда. Я ожидала, что в зале будет пусто, обычно люди собирались к часу. Он и был пуст. За исключением соседнего столика. Это оказалось для меня полной неожиданностью. Я думала, мистер де Уинтер уехал в Соспел. Без сомнения, он спустился к ланчу так рано, чтобы избежать нас. Я уже пересекла половину зала и повернуть обратно не могла. Мы не виделись после того, как расстались вчера у лифта, он благоразумно не пришел в ресторан обедать, возможно, по той же причине, что так рано спустился сейчас.
Я была плохо подготовлена к подобным ситуациям. Я мучительно хотела быть старше, быть другой. Я подошла к столику, глядя прямо перед собой, и тут же была наказана, неловко опрокинув вазу чопорных анемон, в то время как разворачивала салфетку. Вода пропитала скатерть и полилась мне на колени. Официант был в другом конце зала и ничего не заметил. Но мой сосед в тот же миг оказался у столика с сухой салфеткой в руках.
– Вы не можете есть на сырой скатерти, – быстро сказал он, – у вас пропадет весь аппетит. Отодвиньтесь-ка. – И начал промокать скатерть салфеткой.
Увидев, что у нас какие-то неполадки, официант поспешил на помощь.
– Не важно, – сказала я. – Не имеет никакого значения. Я завтракаю одна.
Он ничего не ответил. Подоспевший официант забрал вазу и разбросанные цветы.
– Оставьте это, – внезапно сказал мистер де Уинтер, – и перенесите прибор на мой столик. Мадемуазель будет завтракать со мной.
Я в замешательстве взглянула на него.
– О нет, – сказала я. – Это невозможно.
– Почему? – спросил он.
Я постаралась найти отговорку. Я знала, что он вовсе не хочет со мной завтракать. Его приглашение было продиктовано галантностью. Я испорчу ему весь ланч. Я заставила себя собраться с духом и сказать то, что думаю.
– Пожалуйста, не надо быть таким вежливым, – умоляюще проговорила я. – Вы очень добры, но, право же, я прекрасно поем здесь, если официант вытрет скатерть.
– Дело вовсе не в вежливости, – не отступался он. – Мне будет приятно, если вы позавтракаете со мной. Даже если бы вы не опрокинули так изящно вазу, я бы все равно пригласил вас.
Видимо, на моем лице отразилось сомнение, потому что он улыбнулся.
– Вы мне не верите, – сказал он. – Не важно. Идите и садитесь, нас никто не заставляет разговаривать.
Мы сели, он передал мне меню и предоставил заняться выбором, а сам вернулся к закуске, словно ничего не произошло.
Он обладал особым, только ему присущим даром отрешенности, и я знала, что мы можем промолчать вот так весь ланч, и это будет не важно, не возникнет никакого напряжения. Он не станет задавать мне вопросов по истории.
– Что случилось с вашей приятельницей? – спросил он.
Я рассказала ему об инфлюэнце.
– Очень сожалею, – сказал он и после секундного молчания добавил: – Вы получили мою записку, полагаю. Мне было очень стыдно за себя. Я держался чудовищно. Мое единственное оправдание в том, что, живя в одиночестве, я разучился себя держать. Вот почему с вашей стороны так мило разделить со мной ланч.
– Вы не были грубы, – сказала я. – Во всяком случае, грубость такого рода до нее не доходит. Это все ее любопытство… она не хочет оскорбить, но так она делает со всеми. То есть со всеми важными людьми.
– Значит, я должен быть польщен, – сказал он. – Но почему миссис Ван-Хоппер причислила меня к ним?
Я ответила не сразу.
– Думаю, из-за Мэндерли, – сказала я.
Он не ответил, и меня вновь охватило то же неловкое и тревожное чувство, словно я вторглась в чужие владения. Почему упоминание о его доме, известном по слухам такому множеству людей, даже мне, удивленно подумала я, неизбежно заставляет его умолкнуть, воздвигает между ним и другими невидимый барьер.
Несколько минут мы ели в молчании. Я припомнила художественную открытку, которую купила однажды в загородной лавке, когда была как-то в детстве в одном из западных графств. На открытке был нарисован дом, грубо, неумело, кричащими красками, но даже эти недостатки не могли скрыть совершенство пропорций, красоту широких каменных ступеней, ведущих на террасу, и зеленых лужаек, уходящих к самому морю. Я заплатила два пенса за открытку – половину карманных денег, которые давались мне на неделю, – а затем спросила морщинистую хозяйку лавки, что это такое. Она удивилась моему вопросу.
– Это Мэндерли, – сказала она, и я помню, как вышла из лавки с ощущением неясной вины, по-прежнему теряясь в догадках.
Возможно, воспоминание об этой открытке, давно потерянной или забытой в книге, помогло мне понять его оборонительную позицию. Ему была противна миссис Ван-Хоппер и подобные ей и их бесцеремонные расспросы. Может быть, в Мэндерли было нечто целомудренное и строгое, обособлявшее его; его нельзя было обсуждать, не боясь осквернить. Я представляла, как, заплатив шесть пенсов за вход, миссис Ван-Хоппер бродит по комнатам Мэндерли, вспарывая тишину пронзительным отрывистым смехом. Наши мысли, видимо, текли по одному руслу, так как он принялся расспрашивать меня о ней.
– Эта ваша приятельница, – сказал он, – она вас намного старше. Кто она вам – родственница? Вы давно ее знаете?
Я видела, что он все еще недоумевает по поводу нас.
– Она не приятельница, – сказала я. – По-настоящему, я у нее в услужении. Она взяла меня на выучку в компаньонки и платит мне девяносто фунтов в год.
– Не знал, что можно купить себе компанию, – сказал он. – Довольно анахроническая идейка. Словно на невольничьем рынке.
– Я как-то раз посмотрела слово «компаньон» в словаре, – призналась я. – Там написано: «Компаньон – сердечный друг».
– У вас с ней мало общего, – сказал он и рассмеялся. Он был сейчас совсем другой, моложе как будто и менее замкнутый. – Зачем вы это делаете? – спросил он.
– Девяносто фунтов в год для меня большие деньги, – ответила я.
– Разве у вас нет родных?
– Нет… они умерли.
– У вас прелестное и необычное имя.
– Мой отец был прелестным и необычным человеком.
– Расскажите мне о нем, – попросил он.
Я взглянула на него поверх стакана с лимонадом. Объяснить, что представлял собой мой отец, было нелегко, и я никогда о нем не говорила. Он был моим личным достоянием. Принадлежал мне одной. Я оберегала воспоминание о нем от всех людей так же, как он оберегал Мэндерли. У меня не было желания ни с того ни с сего заводить о нем разговор за столиком ресторана в Монте-Карло.
В этом ланче было что-то нереальное, и в моих воспоминаниях он остался как какой-то странный волшебный сон. Вот я, недавняя школьница, которая только вчера сидела здесь с миссис Ван-Хоппер, покорная, молчаливая, чопорная, сегодня, через двадцать четыре часа, выкладываю свою семейную историю незнакомому человеку. Я просто не могла молчать, его глаза следили за мной с сочувствием, как глаза моего «Неизвестного».
Меня покинула застенчивость, развязался обычно скованный язык, и посыпались градом все мои маленькие секреты – радости и горести детства. Мне казалось, как ни бедно мое описание, он улавливает, хотя бы отчасти, каким полным жизни человеком был мой отец, как любила его мать любовью, исполненной божественного огня, любовью, которая была для нее стержнем, основой ее собственного существования, и когда он умер в ту ужасную зиму, пораженный пневмонией, она протянула после его смерти всего пять недель и ушла вслед за ним. Я помню, как я остановилась, – мне не хватало дыхания, немного кружилась голова. Ресторан был переполнен, на фоне музыки и стука тарелок раздавались смех и голоса. Взглянув на часы над дверью, я увидела, что было ровно два. Мы просидели здесь полтора часа, и все это время я говорила одна.
Сгорая от стыда, с горячими руками и пылающим лицом, я стремительно вернулась к действительности и стала бормотать извинения. Но он и слушать не пожелал.
– Я сказал вам в начале ланча, что у вас необычное и прелестное имя, – прервал он меня. – Если вы разрешите, я пойду еще дальше и добавлю, что оно подходит вам не меньше, чем вашему отцу. Такого удовольствия, какое я получил от этой нашей с вами беседы, я уже давно ни от чего не получал. Вы заставили меня забыть о самом себе и копании в своей душе, вывели из ипохондрии, которая терзает меня уже целый год.
Я взглянула на него и поверила, что он говорит правду: исчезли окружавшие его тени, он казался менее скованным, более современным, более похожим на остальных людей.
– Вы знаете, – сказал он, – у нас с вами есть общая черта. Мы оба одиноки. О, у меня есть сестра, хотя мы с ней редко видимся, и очень старая бабушка, которую я навещаю по праздникам три раза в год, но в друзья мне не годятся ни та ни другая. Я должен поздравить миссис Ван-Хоппер. Вы очень дешево ей достались. Какие-то девяносто фунтов в год.
– Вы забываете, – сказала я, – что у вас есть свой кров, а у меня нет.
Не успела я произнести эти слова, как пожалела о них, – взгляд его вновь стал затаенным, непроницаемым, а меня вновь охватило чувство мучительной неловкости, которую испытываешь, допустив бестактность. Он наклонил голову, закуривая сигарету, и ответил мне не сразу.
– В пустом доме может быть так же одиноко, как в переполненном отеле, – произнес он наконец. – Беда в том, что он менее безлик.
Он приостановился, и на миг мне показалось, что он заговорит о Мэндерли, но что-то удержало его, какой-то страх, который поднялся на поверхность из глубин подсознания и оказался сильнее его: вспышка огонька и вспышка доверия погасли одновременно.
– Значит, у сердечного друга отдых? – проговорил он снова спокойно, возвращаясь к прежнему легкому товарищескому тону. – На что ж он намерен его употребить?
Я подумала о мощенной булыжником крохотной площади в Монако и доме с узким окном. Часам к трем я смогу быть там с альбомом и карандашами, это я ему и сказала, немного конфузясь, как все бесталанные люди, приверженные своему увлечению.
– Я отвезу вас туда на машине, – сказал он и не стал слушать моих протестов.
Я вспомнила слова миссис Ван-Хоппер о том, что я слишком выставляюсь, и испугалась, как бы он не принял мои слова о Монако за хитрость, попытку добиться, чтобы он меня подвез. Сама бы она именно так и поступила, а я не хотела, чтобы он равнял меня по ней…
Наш совместный ланч уже поднял меня в глазах прислуги: когда мы вставали из-за стола, низенький метрдотель бросился отодвигать мне стул. Он поклонился с улыбкой – какая разница с его обычным равнодушным видом! – поднял мой упавший платок и выразил надежду, что «мадемуазель понравился ланч». Даже мальчик-слуга у двустворчатых дверей взглянул на меня с почтением. Мой спутник, естественно, принимал все как должное, он не знал о вчерашнем холодном языке. Эта перемена погрузила меня в уныние, заставила презирать самое себя. Я вспомнила отца, его насмешки над пустым снобизмом.
– О чем вы думаете? – Мы шли по коридору к гостиной, и, взглянув на него, я увидела, что его взгляд прикован ко мне с любопытством. – Вы чем-нибудь недовольны? – спросил он.
Знаки внимания, оказанные мне метрдотелем, направили мои мысли по новому руслу, и за кофе я рассказала ему о Блэз, француженке-портнихе. Она была очень рада, когда миссис Ван-Хоппер заказала ей три летних платья, и, провожая ее потом к лифту, я представляла, как она шьет их в своей крошечной мастерской позади душного магазинчика, а на диване лежит умирающий от чахотки сын. Я видела, как, щуря усталые глаза, она вдевает нитку в иголку, видела пол, усеянный обрезками ткани.
– Так что же? – спросил он, улыбаясь. – Ваша картина оказалась неверна?
– Не знаю, – ответила я. И рассказала, как, пока я вызывала лифт, она порылась в сумочке и вынула оттуда бумажку в сто франков. «Вот ваши комиссионные, – шепнула она фамильярным, неприятным тоном, – за то, что вы привели свою хозяйку ко мне в магазин». Когда я, сгорая со стыда, отказалась, портниха хмуро пожала плечами. «Как хотите, – сказала она, – но, уверяю вас, здесь так принято. Может быть, вы предпочтете получить платье? Зайдите как-нибудь ко мне без мадам, я подберу что-нибудь подходящее и не возьму с вас ни су». Не знаю почему, но меня при этом охватило то же тошнотворное гнетущее чувство, какое я испытывала в детстве, переворачивая страницы книги, которую мне было не велено трогать. Образ чахоточного сына портнихи потускнел, и вместо него я увидела, как я, будь я другая, с понимающей улыбкой прячу в карман грязную бумажку и, возможно, сегодня, в свои свободные часы, направляюсь украдкой в магазин Блэз, чтобы выйти оттуда с платьем, за которое я ничего не заплатила.
Я ждала, что он рассмеется, это была глупая история, сама не знаю, зачем я ее рассказала, но он задумчиво смотрел на меня, помешивая кофе.
– Мне кажется, вы совершили большую ошибку, – сказал он наконец.
– Не взяв сто франков? – возмущенно воскликнула я.
– Нет… Господи, за кого вы меня принимаете? Мне кажется, что вы совершили ошибку, приехав сюда, встав под знамена миссис Ван-Хоппер. Вы не годитесь для такой работы. Прежде всего, вы слишком молоды, слишком мягки. Блэз и ее комиссионные – это чепуха. Первый из многих подобных случаев с другими, подобными ей. Вам придется или уступить, стать похожей на Блэз, или остаться самой собой, и тогда вас сломают. Кто вам посоветовал этим заняться?
Казалось вполне естественным, что он спрашивает меня, а я отвечаю. У меня было чувство, будто мы знакомы много-много лет и сейчас встретились после долгой разлуки.
– Вы думали о будущем? – спросил он. – О том, что вас ждет? Предположим, миссис Ван-Хоппер надоест ее «сердечный друг», что тогда?
Я улыбнулась и сказала, что не очень расстроюсь. Найдутся другие миссис Ван-Хоппер, я молодая, крепкая, я ничего не боюсь. Но при его словах я сразу вспомнила объявления, которые часто встречала в дамских журналах, где то или иное благотворительное общество взывало о помощи молодым женщинам в стесненных денежных обстоятельствах. Я подумала о пансионах, отвечающих на такие объявления и предоставляющих временный кров, затем увидела себя с бесполезным альбомом для набросков в руках, без какой-либо определенной профессии, услышала, как я, запинаясь, отвечаю на вопросы суровых агентов по найму. Возможно, мне следовало взять десять процентов комиссионных у Блэз.
– Сколько вам лет? – спросил он и, когда я ответила, засмеялся и встал с кресла. – Я знаю этот возраст. Он самый упрямый, как вас ни пугай, вы не испугаетесь будущего. Жаль, что мы не можем поменяться местами. Идите наверх, наденьте шляпу, а я вызову автомобиль.
Когда он провожал меня к лифту, я думала о вчерашнем дне, неумолчной болтовне миссис Ван-Хоппер и его холодной учтивости. Как я ошиблась в своем мнении! Он не был ни резким, ни насмешливым, он был моим давнишним другом, братом, которого я вдруг нашла. Я до сих пор помню, как у меня было в тот день хорошо на душе. Вижу словно покрытое рябью небо с пушистыми облачками, белую кипень барашков на море, чувствую ветер у себя на лице, слышу собственный смех, которому вторил он. Такого Монте-Карло я не знала, а может быть, все дело в том, что я взглянула на него другими, праздничными глазами. В нем было очарование, которого я не видела раньше, и теперь он куда больше понравился мне. В гавани весело танцевали бумажные лодочки, моряки на набережной были славные, веселые, улыбающиеся парни. Мы прошли мимо яхты, столь милой сердцу миссис Ван-Хоппер из-за ее сиятельного владельца, посмотрели – что они нам? – на сверкающие медью украшения, взглянули друг на друга и снова рассмеялись. Я помню, словно лишь вчера перестала его носить, мой удобный, хоть и плохо сидящий костюм из легкой шерсти, юбка светлее жакета, так как я чаще ее надевала. Старую шляпку со слишком широкими полями и туфли с перепонкой, на низком каблуке. Перчатки с крагами, зажатые в выпачканной руке. Никогда я не выглядела так молодо, никогда не чувствовала себя такой зрелой. Миссис Ван-Хоппер и ее инфлюэнца для меня больше не существовали. Забыты были бридж и коктейли, а с ними и мое более чем скромное положение.
Я была важная персона. Я наконец повзрослела. Девочка, которая, терзаясь застенчивостью, комкая в ладонях платок, стояла за дверью в гостиную, откуда доносился разноголосый хор, наводящий на нее ужас – ведь она чувствовала себя незваной гостьей, – та девочка исчезла без следа. Жалкое создание, я и думать о ней забыла. Чего она заслуживает, кроме презрения?
Ветер был слишком свежий для рисования, он налетал шаловливыми порывами из-за угла площади, и мы вернулись к машине и поехали, не зная куда. Дорога взбиралась в горы, машина – вместе с ней, и мы кружили в высоте, точно птицы в поднебесье. Как не похожа была его машина на квадратный старомодный «даймлер», нанятый миссис Ван-Хоппер на весь сезон, который возил нас в Ментону тихими вечерами, и я, сидя на откидном сиденьице спиной к шоферу, должна была выворачивать себе шею, чтобы полюбоваться видом. У этого автомобиля крылья Меркурия, думала я, потому что мы поднимались все выше, все быстрее, это было опасно, но опасность мне нравилась, ведь она была для меня внове, ведь я была молода.
Я помню, как громко рассмеялась, как ветер сразу унес мой смех, и тут, взглянув на него, я вдруг осознала, что он больше не смеется, он опять молчалив и отчужден, как вчера, человек, ушедший в свой, недоступный мне мир.
Я осознала также, что подниматься нам больше некуда, мы добрались до самого верха, дорога, по которой мы сюда ехали, уходит вдаль, а под ногами у нас глубокие кручи. Когда он остановил машину, я увидела, что с одного края дороги гора отвесно падает в пустоту примерно на две тысячи футов. Мы вышли из машины и заглянули вниз. Это меня наконец отрезвило: нас отделяло от пропасти всего несколько футов – половина длины автомобиля. Море, как измятая карта, протянулось до самого горизонта и лизало резко очерченное побережье, дома казались белыми ракушками в круглом гроте, проколотыми там и сям копьями огромного оранжевого солнца. Здесь, на горе, солнечный свет был иным, безмолвие сделало его более суровым, более жестоким. Что-то неуловимо изменилось, исчезла свобода, исчезла легкость. Ветер затих, и внезапно похолодало.
Когда я заговорила, мой голос звучал слишком небрежно – глупый, нервозный голос человека, которому не по себе.
– Вы знаете это место? – спросила я. – Были здесь раньше?
Он взглянул на меня, не узнавая, и меня пронизал страх – я поняла, что он забыл обо мне, возможно, уже давно, что он затерялся в лабиринте своих тревожных мыслей, где я просто не существовала. У него было лицо человека, который ходит во сне, и на какой-то безумный миг мне пришло на ум, что, возможно, он не совсем нормален. Существуют люди, которые впадают в транс, мне доводилось о них слышать, они следуют своим, неведомым нам законам, подчиняются сумбурным велениям своего подсознания. Возможно, он – один из них и мы находимся в шести футах от смерти.
– Уже поздно. Нам не пора возвращаться? – сказала я; мой беззаботный тон и вымученная улыбка не обманули бы и ребенка.
Но я, конечно, ошиблась, с ним все было в порядке, потому что на этот раз, не успела я заговорить, как он очнулся и стал просить у меня прощения. Видимо, я сильно побледнела, и он это заметил.
– Моему поступку нет оправдания, – сказал он и, взяв меня за руку, подтолкнул обратно к машине; мы забрались внутрь, и он захлопнул дверцы. – Не бойтесь, поворот куда легче, чем кажется.
Очень медленно и осторожно он начал разворачивать машину, пока она не стала носом в обратную сторону. У меня кружилась голова, меня тошнило, и я изо всех сил вцепилась руками в сиденье.
Машина поползла вниз по извилистой узкой дороге, и постепенно напряжение ослабло.
– Значит, вы здесь уже были? – сказала я.
– Да, – ответил он и, помолчав, добавил: – Но очень давно. Я хотел посмотреть, изменилось ли это место.
– Ну и как? – спросила я.
– Нет, тут все осталось прежним.
Я не могла понять, что заставило его вернуться в прошлое вместе со мной – невольной свидетельницей его настроения. Сколько лет лежало между сегодня и тогда, какие поступки, какие мысли, как изменился он сам? Я не хотела этого знать. Лучше бы я с ним не ездила.
Все вниз и вниз по петляющей дороге, без остановки, без единого слова; над заходящим солнцем протянулась тяжелая гряда облаков, воздух был чист и прохладен. Внезапно он начал рассказывать мне о Мэндерли. Он ничего не говорил о своей жизни там, ни слова о себе, он рассказывал, какие там закаты весной, оставляющие розовый отсвет на мысу. Море, еще холодное после долгой зимы, похоже на сланец, и с террасы слышно, как, покрывая рябью бухточку, накатывает прилив. Под вечерним ветерком покачиваются цветущие нарциссы – золотые головки на стройных стеблях, – и сколько бы вы ни сорвали, ряды их не станут реже, они стоят плечом к плечу, настоящая цветочная армия. На берегу, за лужайками, посажены крокусы – желтые, розовые, розовато-лиловые, – их лучшая пора прошла, они уже отцветают, роняя лепестки, как бледные хлопья снега. Первоцвет, этот скромный милый цветок, растет повсюду, тянется из каждой щели, как сорняк. Для пролески еще слишком рано, она еще прячется в прошлогодних листьях, но когда расцветет, заглушив более мелкую и незаметную фиалку, она вытеснит в лесу даже папоротник и своим цветом бросит вызов небесной синеве.
Он не разрешал заносить ее в дом, сказал он. Поставленная в вазу, она становилась безжизненной и вялой; чтобы видеть ее во всей красе, нужно пройти утром в лес – незадолго до полудня, когда солнце стоит над самой головой. У нее чуть пахнущий дымом, горьковатый запах, словно по стеблям струится острый буйный сок. Те, кто рвет пролеску в лесу, вандалы, в Мэндерли он это запретил. Иногда, проезжая на машине, он встречал велосипедистов, у которых были привязаны к рулю целые охапки пролески, умирающие головки уже теряли свой аромат, голые, грязные стебли были перепутаны и сломлены.
Первоцвет примирялся с неволей легче; житель лесов, он не чуждался цивилизации и гордо красовался в банке из-под варенья на подоконнике жалких домишек неделю, а то и больше, лишь бы ему давали вдоволь воды. В Мэндерли диким цветам доступ в комнаты был закрыт. В цветнике за оградой выращивали специальные садовые сорта для дома. Роза, сказал он, один из немногих цветов, которые лучше выглядят в вазе, чем на кусте. В гостиной у них более сочный цвет, более глубокий запах, чем на открытом воздухе. В распустившейся розе есть что-то неряшливое, что-то грубое и вульгарное, как в толстой краснощекой бабе с растрепанными волосами. В доме они становятся таинственными и изысканными. В Мэндерли розы держались восемь месяцев в году. А жасмин я люблю? С краю лужайки был жасминовый куст, запах которого долетал до окна в его спальне. Его сестра, женщина серьезная и практичная, всегда жаловалась, что в Мэндерли слишком много всяких запахов, она пьянеет от них. Возможно, она была права. Ну и пусть. Это единственная форма опьянения, привлекавшая его. Его самое раннее воспоминание – огромные букеты сирени в белых кувшинах, наполнявшие дом томительным горьким ароматом.
Слева от тропинки, ведущей к морю, были посажены кусты азалии и рододендрона, и когда вы проходили по ней майским вечером, вам казалось, что кустарник покрыт душистой испариной. Стоило наклониться, поднять упавший лепесток, размять его в пальцах, и у вас на ладони оказывалась квинтэссенция тысячи запахов, сладких до одурения. И все это – от одного сморщенного лепестка. Вы выходили из лощины с кружащейся, словно от вина, головой и вдруг оказывались на твердой белой береговой гальке у неподвижных вод бухты. Странный и, пожалуй, чересчур внезапный контраст…
Пока он говорил, наша машина влилась в общий поток автомобилей, наступили сумерки, я даже не заметила когда, и мы снова были на шумных освещенных улицах Монте-Карло. Шум болезненно раздражал мне нервы, огни были очень уж яркие, очень уж желтые. Конец был нежданно-нежеланным, нежданно-быстрым – падение после взлета.
Скоро мы подъедем к отелю, и я стала нашаривать перчатки в «кармане» машины. Мои пальцы сомкнулись на книжке, судя по размеру, это были стихи. В то время как автомобиль замедлял ход, я заглянула в «карман», чтобы прочитать заглавие.
– Можете взять ее, если хотите, – сказал он; теперь, когда наша прогулка окончилась, мы вернулись в Монте, а Мэндерли отодвинулся на много сотен миль, голос его снова стал небрежным и безразличным.
Я обрадовалась и крепко зажала книгу вместе с перчатками. Мне так хотелось оставить себе хоть какую-то частицу его самого, раз уж наш совместный день был закончен.
– Выскакивайте, – сказал он. – Мне надо отвести машину на стоянку. Я не увижу вас сегодня вечером, я ужинаю в гостях. Спасибо за сегодняшний день.
Я одна поднялась по ступеням в отель, на душе у меня было уныло, как у ребенка, когда окончится праздник. Время, проведенное с ним, доставило мне такое удовольствие, что испортило оставшиеся часы, и я думала, как тоскливо они будут тянуться, пока не наступит пора идти спать, как пусто будет мне одной за ужином. Я со страхом думала о бодрых расспросах сиделки наверху, о миссис Ван-Хоппер, которая тоже может начать допытываться сиплым голосом, что я делала весь день, поэтому я села в углу гостиной за колонной и попросила принести мне чай.
Официант хмуро взглянул на меня; увидев, что я одна, он не спешил, к тому же было тридцать пять минут шестого – то затишье между часом, когда все нормальные люди уже кончили пить чай, и тем далеким еще временем, когда начнут пить коктейли.
Мне было грустно и одиноко; откинувшись в кресле, я взяла томик стихов. Он был потрепанный, с загнутыми углами, и сам собой раскрылся на той странице, которую, должно быть, читали чаще других.
- Я от Него бежал сквозь мрак ночей и дней,
- Я от Него бежал сквозь годы прожитые,
- Я от Него бежал сквозь лабиринт теней
- В сознании моем, и слезы лил я злые,
- Скрываясь, а потом смеялся над собой,
- И ввысь мечтой взмывал,
- И вновь летел в провал,
- И погружался в бездны страха роковые,
- И слышал топот, топот за спиной[8].
У меня возникло чувство, будто я подглядываю в замочную скважину запертой двери, и я украдкой отложила книжку. Какие угрызения совести погнали его сегодня на вершину горы? Я думала о машине, чуть-чуть не доехавшей до края пропасти в две тысячи футов, о его застывшем лице. Какие шаги звучали у него в душе? Какие шепоты, какие воспоминания? И почему из всех стихов на свете он держит эти в «кармане» автомобиля? Ах, если бы он был не таким отчужденным, а я была не такой, какая я есть, – девочка в поношенном костюме и широкополой детской шляпе…
Хмурый официант принес мне наконец чай, и, пока я жевала хлеб с маслом, безвкусный, как опилки, я думала о тропинке к морю, о лощине, которую он описывал мне сегодня, о запахе азалий и белой гальке на берегу. Если он все это так любит, что надо ему в ветреном и празднословном Монте-Карло? Он сказал миссис Ван-Хоппер, что не планировал заранее свой приезд, что уехал в спешке. И я представила, как он бежит по тропинке к морю, а гончие его совести – за ним по пятам.
Я снова взяла книжку. На этот раз она открылась на титульном листе, и я прочитала надпись: «Максу от Ребекки. 17 мая», написанную своеобразным косым почерком. На противоположной странице была небольшая клякса, словно тот, кто писал, в нетерпении стряхнул перо. Скопившись на острие пера, чернила полились слишком свободно, так что имя начерталось четко и жирно, буква «Р» – высокая, летящая, словно подминала под себя все остальные.
Я резко захлопнула книгу и отложила ее в сторону, под перчатки. Взяла старый экземпляр «Иллюстрасьон» и стала листать страницы. Там были превосходные фотографии замков Луары и статья о них. Я внимательно ее прочитала, рассматривая в отдельности каждый снимок, но, закончив, увидела, что не поняла ни слова. Со страниц журнала на меня глядел не Блуа[9] с остроконечными башенками и шпилями, а лицо миссис Ван-Хоппер, когда накануне в ресторане, не донеся вилку с пельменями до рта, кидая быстрые взгляды своих поросячьих глазок на соседний столик, она шептала:
– Потрясающая трагедия. В газетах ни о чем другом не писали. Я слышала, он никогда не говорит об этом, никогда не упоминает ее имени. Она утонула в бухте, возле самого Мэндерли…
Глава V
Я рада, что она не может повториться – лихорадка первой любви. Потому что это лихорадка и бремя, что бы там ни говорили поэты. Мы не отличаемся храбростью в двадцать лет. Наша жизнь тогда полна малодушных страхов, не имеющих под собой никакой почвы, нас так легко ушибить, так просто поранить, первое язвительное слово сражает нас наповал. Сейчас, укрывшись под броней самодовольства подступающей зрелости, почти не ощущаешь булавочных уколов, которые испытываешь день за днем и тут же о них забываешь, но тогда… как долго звучало в твоих ушах небрежное слово, выжигая в сердце клеймо, какой, казалось, вечный отпечаток оставлял косой взгляд, кинутый через плечо. Простое «нет» вызывало в памяти библейские предания о трижды прокричавшем петухе, неискренность ощущалась как поцелуй Иуды. Взрослый человек лжет без угрызений совести, не теряя спокойствия и веселости, но в юности даже пустяковый обман жжет язык, и ты пригвождаешь себя к позорному столбу.
– Что вы делали сегодня утром? – как сейчас слышу вопрос миссис Ван-Хоппер, полусидящей в кровати с подушками за спиной, раздраженной, как все больные, которые ничем не больны и слишком долго пролежали в постели; чувствую, как красные пятна выступают от стыда у меня на шее, в то время как я тянусь к тумбочке за колодой карт.
– Играла в теннис с тренершей, – говорю я, и тут – не успели слова слететь с языка – собственная ложь приводит меня в панический ужас: что будет, если тренерша сама придет сегодня в номер и пожалуется, что я пропускаю занятия уже много дней подряд?
– Беда в том, что, пока я лежу в постели, вам нечего делать, – продолжала миссис Ван-Хоппер, засовывая окурок в баночку с кремом, и, взяв карты, она перетасовала их привычной рукой заядлой картежницы, скидывая зараз по три карты и щелкая по «рубашкам».
– Не представляю, чем вы заняты целый день, – продолжала она, – вы не показали мне ни одного нового наброска, а когда я попросила сходить в магазин, вы забыли купить мне фруктовую соль. Надеюсь, хоть в теннис вы станете играть получше, это очень пригодится вам потом. Что может сильнее раздосадовать, чем слабый игрок? Вы все еще подаете из-за спины? – Она сбросила пиковую даму, и смуглая королева воззрилась на меня, как Иезавель.
– Да, – сказала я, вздрогнув, как от удара, и подумала, как справедливы и уместны ее слова.
Так именно я и действовала. У нее за спиной. Я вообще не играла в теннис. Ни разу с тех пор, как миссис Ван-Хоппер слегла в постель, значит, больше двух недель. Я сама не понимала, почему я скрытничаю, почему не расскажу ей откровенно, что каждое утро катаюсь с мистером де Уинтером в его машине, а затем завтракаю с ним вместе за его столиком в ресторане.
– Вы должны держаться ближе к сетке, иначе вы никогда не будете хорошо играть, – продолжала она, и я соглашалась с ней, терзаясь собственным лицемерием и покрывая королеву слабовольным валетом червей.
Я многое забыла о Монте-Карло, об этих утренних прогулках, местах, куда мы ездили, даже наши разговоры, но мне никогда не забыть, как у меня дрожали пальцы, когда я нахлобучивала шляпу, как я бежала по коридору и вниз по лестнице, не в силах – в своем нетерпении – дождаться жалобно скрипящего лифта, а затем на улицу, распахивая двустворчатые двери, прежде чем швейцар успевал мне помочь.
Он уже был в машине, на водительском месте, и читал пока газету; увидев меня, он улыбался, кидал ее на заднее сиденье и, открыв дверцу, спрашивал:
– Ну, как поживает сегодня «сердечный друг» и куда хочет ехать?
Куда? Какое это имело значение? Пусть бы он даже кружил на одном месте. Я была охвачена таким душевным трепетом – первая фаза любви, – когда просто забраться на сиденье рядом с ним и, обхватив колени, наклониться к ветровому стеклу – и то казалось слишком сильным переживанием. Я была похожа на жалкого маленького первоклассника, переполненного обожанием к префекту[10] старшего класса, только куда более доброму, чем любой префект, и куда более недосягаемому.
– Сегодня холодный ветер, накиньте мое пальто.
Это я помню, ведь я была так молода, что надеть его вещь доставляло мне радость, словно школьнику, который задыхается от гордости, накинув на плечи свитер своего героя и завязывая его вокруг горла; то, что он предложил мне свое пальто и я надела его, пусть всего на несколько минут, было само по себе торжество и озарило ярким светом все утро.
Нет, томность и изысканность, о которых я читала в книгах, были не для меня. Не для меня вызов и погоня. Пикировка, поощрительная улыбка, быстрый взгляд… Кокетство было неизвестно мне, и я сидела лицом к ветру, который развевал мои тусклые прямые волосы, с дорожной картой на коленях, счастливая даже его молчанием, однако мечтая, чтобы он заговорил. Говорил он или молчал – не меняло моего настроения. Единственным моим врагом были часы на приборной доске, стрелки которых безжалостно двигались к часу дня. Мы ездили на восток и на запад, между мириадами деревушек, прилепившихся к побережью Средиземного моря, и я не запомнила из них ни одной.
Все, что я помню, это кожаное сиденье автомобиля, карту на коленях, ее потрепанные края и бороздки по складкам и как в один из этих дней я посмотрела на часы и подумала про себя: «Этот миг, двадцать минут первого, я сохраню навсегда» – и зажмурила глаза, чтобы продлить мгновение. Когда я вновь их открыла, мы были у поворота дороги и крестьянская девушка в черной шали махала нам рукой; я как сейчас вижу ее, ее пыльную юбку, ослепительную дружескую улыбку, а через секунду мы свернули, и она скрылась из виду. Она уже отошла в прошлое, стала лишь воспоминанием.
Мне захотелось вернуться, поймать исчезнувший миг, но я тут же подумала, что, даже поверни мы обратно, он будет иным, даже солнце на небе не останется прежним, и тени будут другими, и девушка иначе будет идти вдоль дороги, не помашет нам, возможно, даже не заметит нас. В этой мысли было что-то грустное, по спине пробежал холодок, и, взглянув на часы, я увидела, что прошло еще пять минут. Скоро наше время истечет, и мы должны будем поворачивать обратно.
– Ах, если бы кто-нибудь придумал, – сказала я импульсивно, – как сохранить воспоминания, запереть их во флакон, как духи. Чтобы они никогда не выдохлись, никогда не потускнели. А когда тебе захочется, вынешь пробку – и заново переживешь тот миг.
Я подняла на него взгляд, чтобы увидеть, что он скажет. Но он не повернулся ко мне, продолжал глядеть перед собой на дорогу.
– И какие именно минуты вашей юной жизни вы хотели бы поместить в бутылку? – спросил он.
По голосу мне трудно было сказать, дразнит он меня или говорит серьезно.
– Не знаю точно… – начала я, а затем, запутавшись, уже не выбирая слов, выпалила, как дурочка: – Я бы хотела удержать навсегда эту вот минуту, никогда ее не забыть.
– Чему это комплимент – хорошей погоде или моему искусству водителя? – спросил он и засмеялся; так брат мог подшучивать над сестрой. А я вдруг затихла, захлестнутая сознанием того, какая между нами лежит пропасть, – его доброта лишь расширяла ее.
Вот тогда я поняла, что ни за что не расскажу миссис Ван-Хоппер о наших утренних прогулках; ее улыбка обидит меня так же, как сейчас обидел его смех. Она не рассердится, не возмутится, лишь чуть-чуть приподнимет брови, словно не совсем верит мне, затем, снисходительно пожав плечами, скажет: «Милое дитя, с его стороны чрезвычайно любезно катать тебя на машине, только ты не думаешь, что это ему до смерти скучно?» А затем, потрепав по плечу, пошлет меня в аптеку за английской солью. До чего унизительно быть молодой, подумала я и принялась с остервенением грызть ногти.
– Я бы хотела, – яростно сказала я, все еще слыша его смех и отбросив последнее благоразумие, – я бы хотела, чтобы мне было тридцать шесть лет и я носила черное атласное платье и жемчужное ожерелье.
– В таком случае вы не сидели бы со мной в этой машине, – сказал он. – И оставьте, пожалуйста, в покое ногти, они и так обкусаны до мяса.
– Вы, возможно, сочтете меня дерзкой и грубой, – продолжала я, – но мне бы хотелось понять, почему вы зовете меня кататься день за днем. Вы очень добры, это сразу видно, но почему вы избрали именно меня объектом своего милосердия?
Я сидела неестественно прямо, словно застыв на месте, жалко пыжась, как это бывает лишь в юности.
– Я приглашаю вас, – сказал он серьезно, – потому что вы не носите черного атласного платья и жемчужного ожерелья и вам нет тридцати шести лет.
Лицо его было непроницаемо, я не знала, смеется он про себя или нет.
– Все это прекрасно, – сказала я, – вам известно обо мне все, что может быть известно. Это не очень много, не спорю, потому что я не так долго живу на свете, и в моей жизни не было особых событий, только две смерти, но о вас… о вас я знаю сейчас не больше, чем знала в тот первый день, когда мы встретились.
– И что вы знали тогда? – спросил он.
– Ну, что вы живете в Мэндерли и… и что у вас умерла жена.
Ну вот, наконец я его произнесла, это слово, которое уже столько дней вертелось у меня на языке. «Жена». Оно выговорилось так легко, без всякого затруднения, словно ничего не могло быть естественнее, чем упомянуть о ней. «Жена». Слово задержалось, повисло в воздухе, заплясало передо мной, не успела я его произнести, и, так как он ничего не сказал, никак на него не отозвался, оно разрослось до чудовищных, отвратительных размеров, запретное слово, противоестественное на моих губах. И я не могу забрать его обратно, оно уже произнесено. Я опять увидела надпись на титульном листе книжечки стихов и это необычное косое «Р». Мне стало холодно и гадко на душе. Он меня не простит, нашей дружбе конец.
Я помню, как глядела прямо перед собой на ветровое стекло, не видя убегающей дороги, а в ушах все еще звучало сказанное мной слово. Молчание растянулось на минуты, минуты – на мили, и теперь все кончено, думала я, больше он никогда не позовет меня кататься. Завтра он уедет. Миссис Ван-Хоппер встанет с постели. Мы будем прогуливаться по террасе, как прежде. Швейцар снесет его чемоданы. Я замечу их случайно в грузовом лифте, увижу новые ярлыки. Суматоха и бесповоротность отъезда. Шум мотора, меняющего скорость на повороте, а затем и этот звук сольется с общим гулом уличного движения, утонет в нем и исчезнет навсегда.
Я была так поглощена этой картиной – я даже видела, как швейцар сует в карман чаевые и, проходя обратно в холл, говорит что-то через плечо посыльному, – что не заметила, как машина постепенно замедляет ход, и очнулась, только когда мы остановились у обочины дороги. Он сидел неподвижно; без шляпы, в белом шарфе вокруг шеи, он как никогда был похож на средневековый портрет. Здесь, на фоне этого яркого ландшафта, он выглядел неуместно, ему бы стоять на ступенях готического собора, откинув назад плащ, в то время как у его ног ползает нищий, подбирая с земли золотые монеты.
Друг исчез – где его добросердечие и товарищеская непринужденность? – исчез и брат, дразнивший меня за то, что я грызу ногти. Этот человек мне чужой. Почему, зачем я сижу рядом с ним в машине?
А затем он повернулся ко мне и заговорил.
– Вы говорили несколько минут назад, – начал он, – как было бы чудесно, если бы кто-нибудь придумал способ удержать навсегда воспоминание. Вам бы хотелось, сказали вы, вновь пережить тот или иной момент. Боюсь, что не могу тут с вами согласиться. Воспоминания горьки, и я предпочитаю их не удерживать. Год назад произошло нечто, полностью изменившее мое существование, и я хотел бы начисто забыть все, что было до того. С теми днями покончено. Они стерты из моей памяти. Я должен заново начинать жизнь. Когда мы впервые с вами встретились, эта ваша миссис Ван-Хоппер спросила, зачем я приехал в Монте-Карло. Монте положил конец воспоминаниям, которые вам хотелось бы воскресить, закупорил их в бутылке. Понятно, это не всегда срабатывает, иногда аромат прошлого оказывается слишком сильным для бутылки и вышибает пробку, вышибает и меня из колеи. Это произошло, когда мы в первый раз поехали с вами кататься. Когда поднялись в горы и заглянули в пропасть. Я был там несколько лет назад. С женой. Вы спросили меня, осталось ли там все прежним, изменилось ли что-нибудь. Да, все было как прежде, но… благодарение Господу… странно безличным. Никаких намеков на другие времена. Мы не оставили никаких следов. Возможно, это произошло благодаря вам, тому, что вы были со мной. Вы стерли прошлое куда лучше, чем все яркие огни Монте-Карло. Если бы не вы, я уже давно бы уехал, отправился в Италию и Грецию и – кто знает? – еще дальше. Вы избавили меня от этих бесцельных скитаний. К черту ваши чопорность и пуританство. К черту все эти высказывания о моей филантропии и доброте. Я зову вас кататься потому, что мне нужны вы и ваше общество, а если вы мне не верите, можете вылезать из машины и идти домой пешком. Ну же, открывайте дверцу и выбирайтесь.
Я сидела неподвижно, сложив руки на коленях, не зная, всерьез он говорит или нет.
– Ну, – продолжал он, – что же вы намерены делать?
Если бы я была на год или на два моложе, я, верно, просто разревелась бы. У детей слезы всегда наготове и льются в любой критический момент. Даже сейчас я чувствовала, что они щиплют мне глаза, чувствовала, как заливает мне краской лицо, и, поймав случайно свое отражение в зеркальце над ветровым стеклом, увидела, какое я представляю собой жалкое зрелище: встревоженный взгляд, пунцовые щеки, прямые волосы висят из-под широкополой фетровой шляпы.
– Я хочу обратно, – сказала я с предательской дрожью в голосе, и без единого слова он завел мотор, включил сцепление и повел машину назад по тому же пути.
Мы ехали быстро, слишком быстро, думала я, слишком легко, и луга по сторонам смотрели на нас с черствым равнодушием. Мы оказались у того поворота дороги, который я хотела навсегда запечатлеть в памяти, и он был ничем не лучше любого другого поворота на любой дороге, по которой проходят тысячи машин. Деревенская девушка исчезла, краски поблекли. Чары исчезли вместе с моим радостным настроением, и при мысли об этом мое застывшее лицо дрогнуло, «взрослая» гордость исчезла, и позорные слезы, празднуя победу, брызнули из глаз и потекли по щекам.
Я не могла их остановить, эти непрошеные слезы, ведь если бы я полезла в карман за платком, он бы сразу увидел. Они падали и падали, оставляя горько-соленый вкус на губах, погружая меня все глубже в пучину позора. Я не знаю, повернулся ли он, чтобы взглянуть на меня, потому что сама не отрывала затуманенных глаз от расплывающейся дороги, но внезапно он протянул руку, взял ею мою и поцеловал, все еще ничего не говоря, затем кинул носовой платок мне на колени, но мне было стыдно дотронуться до него.
Я думала обо всех этих бесчисленных героинях романов, которые хорошели от слез, и о том, как не похожа была на них я со своим распухшим, покрытым пятнами лицом и красными глазами. Какой печальный конец радостного утра, какой долгий день ждет меня впереди. Сиделка собиралась уйти, так что ланч мне предстоял в обществе миссис Ван-Хоппер у нее в номере, а после ланча, полная неутомимой энергии, как все выздоравливающие, она заставит меня играть с ней в безик. Я знала, что буду задыхаться у нее в комнате. Мне был противен вид скомканных простыней, свисающих до полу одеял и взбитых подушек и ночного столика, грязного, засыпанного пудрой, залитого духами и тающими румянами. Постель будет завалена отдельными листами ежедневных газет, сложенных как попало, и французскими романами с оторванными обложками и загнутыми краями вперемешку с американскими журналами. Повсюду – в баночках с кремом, в блюдах с виноградом и на полу под кроватью – будут валяться окурки сигарет. Посетители не скупились на цветы, и бок о бок стояли вазы с самыми разными цветами: оранжерейные экзотические растения – рядом с простой мимозой, и, возвышаясь над ними, их увенчивала украшенная лентами корзина, где ряд за рядом лежали засахаренные фрукты. Позже к ней зайдут друзья выпить коктейли, которые я должна буду смешивать, как мне это ни ненавистно, – неловкая, не знающая, куда девать глаза и руки, окруженная их бессмысленной болтовней. Я снова буду чувствовать себя мальчиком для битья и краснеть за миссис Ван-Хоппер, когда, придя в возбуждение от гостей, она станет слишком громко говорить, слишком долго смеяться и, поставив пластинку, примется, сидя в постели, подрагивать в такт музыке пышными плечами. Пусть уж лучше будет раздраженной и сварливой, с волосами, закрученными на папильотки, пусть ругает меня за то, что я забыла купить английскую соль. Все это ждало меня у нее в люксе, а он, расставшись со мной у дверей отеля, пойдет куда-нибудь один, быть может, к морю, навстречу ветру, вслед за солнцем, и – кто знает? – опять затеряется в воспоминаниях, о которых мне ничего не известно, которые я не могу с ним разделить, станет блуждать по давно ушедшим годам.
Пропасть, разделявшая нас, еще больше разверзлась, он стоял, повернувшись ко мне спиной, на другом краю. Я почувствовала себя такой юной, такой маленькой, такой одинокой, что, забыв про гордость, взяла его платок и высморкала нос. Меня больше не трогал мой вид. Какое это имело значение!
– К черту! – внезапно сказал он, словно ему все это надоело, словно он рассердился, и, притянув к себе, он обнял меня левой рукой за плечи, по-прежнему глядя прямо вперед, правая рука на руле. Я помню, что он вел машину еще быстрее, чем раньше. – Ты, верно, годишься мне в дочери по годам, и я не знаю, как себя с тобой вести.
Дорога сузилась у поворота, и ему пришлось сделать крутой вираж, чтобы не наехать на собаку. Я думала, он меня отпустит, но он продолжал прижимать меня к себе и, когда дорога выровнялась, так и не убрал руки.
– Забудь все, что я говорил сегодня, – сказал он. – Со всем этим покончено. Навсегда. Не будем больше об этом думать. Мои родные зовут меня Максим. Мне было бы приятно, если бы ты тоже так меня называла. Ты достаточно долго держалась со мной церемонно. – Он нащупал поля моей фетровой шляпы, снял ее, кинул через плечо на заднее сиденье, а потом наклонился и поцеловал меня в макушку. – И обещай, что никогда не будешь носить черных атласных платьев.
Тут уж я улыбнулась, он рассмеялся в ответ, и утро снова сделалось радостным и сияющим, снова излучало веселье. Что мне до миссис Ван-Хоппер?! О ней и думать не стоит. Несколько часов с ней пройдут так быстро, а впереди еще вечер и целый завтрашний день. Все во мне ликовало, я почувствовала такую уверенность в себе, я даже так осмелела в эту минуту, что чуть ли не считала себя с ним на равных. Я видела, как – не торопясь – захожу в спальню миссис Ван-Хоппер, уже опаздывая на безик, и в ответ на ее вопрос отвечаю с небрежным зевком: «Я забыла о времени. Я завтракала с Максимом».
Я была еще таким ребенком, что право звать человека по имени воспринималось мной как перо на шляпе, хотя сам-то он звал меня по имени с первого дня. Это утро, несмотря на все темные минуты, продвинуло меня на новую ступень дружбы, я не так уж далеко отстала от него, как мне казалось. И он поцеловал меня – вполне естественное дело, когда хочешь утешить и успокоить. Ничего драматического, как в романах. Ничего нескромного. Меня это ничуть не сконфузило. Казалось, его поцелуй сделал наши отношения непринужденнее, все стало проще. Через разделявшую нас пропасть был наконец перекинут мост. Я могла называть его Максим.
Играть с миссис Ван-Хоппер в безик оказалось менее тоскливо, чем я ожидала, хотя у меня и не хватило смелости рассказать ей, как я провела утро. Когда, кончив игру, собрав карты и протягивая руку к футляру, чтобы их спрятать, она небрежно спросила:
– Скажи, Макс де Уинтер все еще в отеле?
Я замешкалась на секунду, как пловец перед прыжком в воду, а затем, потеряв присутствие духа и с таким трудом давшееся самообладание, пролепетала:
– Да, кажется… я встречала его в ресторане…
Кто-то ей рассказал, подумала я, кто-то видел нас вместе, тренерша по теннису пожаловалась на меня, управляющий прислал записку. Я ждала нападения. Но она продолжала, позевывая, вкладывать карты в футляр, в то время как я поправляла развороченную постель. Я дала ей баночку с пудрой, сухие румяна и помаду, и, отложив карты, она взяла зеркало с ночного столика.
– Симпатичный мужчина, – сказала она, – но несколько странный, по-моему, его не поймешь. Я думала тогда, в гостиной, он хотя бы из вежливости пригласит меня в Мэндерли, но он держался так холодно.
Я ничего не сказала. Я смотрела, как она берет помаду и рисует сердечко на своих тонких губах.
– Я никогда ее не видела, – продолжала миссис Ван-Хоппер, отставляя зеркало подальше, чтобы полюбоваться результатом, – но, говорят, она была очень красива. Всегда изысканно одевалась, блестящая женщина во всех отношениях. Они устраивали в Мэндерли потрясающие приемы. Все это произошло так внезапно, так трагически. Говорят, он ее обожал. К этой яркой помаде, милочка, мне нужна пудра более темного оттенка. Достаньте мне ее, пожалуйста, а эту коробочку положите в ящик.
И мы занялись пудрой, духами и румянами, пока звонок не возвестил, что пришли гости. Я подавала коктейли, я меняла пластинки на граммофоне, выкидывала окурки сигарет, все это тупо, почти ничего не говоря.
– Рисовали что-нибудь, милочка, в последнее время?
Деланая сердечность старого банкира, его монокль, болтающийся на ленте, и моя фальшивая улыбка.
– Нет, в последнее время нет; не хотите ли сигарету?
Отвечала ему не я, меня вообще там не было. Я следила мысленным взором за призраком, туманные очертания которого наконец стали приобретать какую-то четкость. Черты его были расплывчаты, цвет лица смутен, разрез глаз и оттенок волос все еще неизвестен, их все еще надо было разглядеть.
Она обладала красотой, которая не умирает, и улыбкой, которую нельзя забыть. Где-то все еще звучал ее голос, в чьей-то памяти оставались ее слова. Существовали места, где она бывала, вещи, которых она касалась. Возможно, в шкафах все еще висели ее платья и витал запах ее духов. У меня в спальне под подушкой лежала книга, которую она держала в руках; я так и видела, как она раскрывает ее на первой чистой странице и, стряхнув перо, пишет с улыбкой: «Максу от Ребекки». Наверно, это был день его рождения, и она положила книгу утром среди прочих своих подарков на столике у кровати. Они смеялись вместе, когда он срывал бумагу и тесемку. Возможно, она перегнулась через его плечо, когда он читал надпись: «Максу…» Она называла его Макс. Имя звучало весело, интимно и легко слетало с языка. Родные могли называть его Максим, если хотели. Всякие там бабушки и тетки. И люди вроде меня, тихие, скучные и слишком молодые, которые не представляли для него интереса. Она выбрала другое – Макс, это имя принадлежало ей одной, достаточно взглянуть, как она написала его на титульном листе. Эта четкая, косая надпись, перо, чуть не прорвавшее бумагу, символ ее самой, такой твердой, такой уверенной в себе.
Сколько раз она, должно быть, писала ему, и всякий раз по-разному, в зависимости от настроения.
Записочки, нацарапанные на клочках бумаги, и письма, когда он уезжал далеко, страница за страницей, интимные, с новостями, касавшимися их одних. Ее голос, все еще звучавший в доме и в саду, небрежный и привычный, как надпись на книге…
А мне велено звать его Максим.
Глава VI
Укладывание вещей. Бесконечная предотъездная суета. Потерянные ключи, ненадписанные ярлыки, папиросная бумага на полу. Как я все это ненавижу. Даже сейчас, когда мне так часто приходится переезжать, когда я все время, как говорится, сижу на чемоданах. Даже теперь, когда задвигать ящики и распахивать дверцы платяных шкафов и комодов в отеле или меблированной вилле стало делом привычки, установленным порядком вещей, я не могу отделаться от грусти, от чувства утраты. Здесь, говорю я себе, мы жили, мы были счастливы. Это был наш дом, хоть и недолго. Пусть мы провели под этой крышей всего две ночи, мы оставляем позади частицу самих себя. Не что-то материальное – шпильку на туалетном столике, пустую коробочку от аспирина, платок под подушкой, – нет, то, что невозможно выразить в словах, миг нашей жизни, мысль, настроение.
Этот дом дал нам приют, мы разговаривали, мы любили в этих стенах. То было вчера. Сегодня мы двигаемся дальше, мы больше его не увидим, и сами мы стали другими, изменились, пусть самую малость. Мы не станем прежними. Даже когда мы останавливаемся позавтракать в придорожной гостинице и я иду в чужую темную комнату вымыть руки, все – и ручка впервые увиденной двери, и отстающие полосами обои, и смешное треснутое зеркальце над рукомойником, – все это на мгновение становится моим, принадлежит мне. Мы знаем друг друга. Здесь – настоящее. Нет ни прошлого, ни будущего. Вот я мою руки, и треснутое зеркальце отражает меня как бы застывшей во времени. Это я, этот момент – сейчас.
А затем я открываю дверь и иду в столовую, где он ждет меня, сидя за столиком, и думаю о том, как за этот миг я постарела, сделала еще один шаг к неизвестному концу, предначертанному мне.
Мы улыбаемся, выбираем блюда, болтаем о том о сем, но – говорю я себе – я не та, что оставила его пять минут назад. Я – другая женщина, старше, более зрелая…
Я прочитала на днях в газете, что отель «Кот-д’Азюр» в Монте-Карло перешел в другие руки и называется теперь по-иному. Комнаты обставили заново, изменили весь интерьер. Возможно, номера люкс миссис Ван-Хоппер на втором этаже больше не существует. Возможно, от спаленки, бывшей моею, не осталось и следа. В тот день, когда, стоя на коленях, я сражалась с тугой застежкой ее чемодана, я знала, что никогда не вернусь.
Замок защелкнулся, и это был конец. Я выглянула из окна, точно перевернула страницу альбома с фотографиями. Эти крыши и море больше мне не принадлежат. Они были частью вчерашнего дня, частью прошлого. На комнатах, откуда вынесли наши пожитки, уже лежала печать пустоты, у номера был какой-то голодный вид, словно он хотел, чтобы мы скорее уехали, хотел видеть вместо нас новых жильцов. Тяжелые чемоданы, запертые и затянутые ремнями, уже стояли в коридоре за дверью, мелочи еще предстояло уложить. Корзинки для мусора стонали под тяжестью целой кучи пузырьков от лекарств, баночек из-под крема, порванных счетов и писем. Зияли пустотой ящики столов, с бюро было снято все до последней вещи.
Вчера утром за завтраком, в то время как я разливала кофе, миссис Ван-Хоппер кинула мне письмо:
– Элен отплывает в Нью-Йорк в субботу. У крошки Нелли, возможно, аппендицит, и Элен вызвали телеграммой домой. Это решает вопрос. Мы тоже едем. Мне до смерти надоела Европа, а ранней осенью мы сможем вернуться сюда. Вы, верно, не прочь посмотреть Нью-Йорк?
Мысль об этом была для меня хуже смерти. Должно быть, я не сумела до конца скрыть своих чувств, потому что сперва у нее сделался удивленный, затем негодующий вид.
– Какая вы странная девушка, я никак не могу вас понять. Вам ничем не угодишь. В Америке девушки в вашем положении, девушки без денег, чудесно проводят время. Масса развлечений. Куча кавалеров. Одного с вами круга. Заведете свою небольшую компанию. Мне меньше понадобятся ваши услуги. Я думала, вам не нравится Монте.
– Я при… привыкла к нему, – сказала я, запинаясь, удрученно, с борьбой в душе.
– Ну, придется вам теперь привыкнуть к Нью-Йорку, вот и все. Мы должны попасть на тот же пароход, что и Элен, а это значит – надо немедленно заняться билетами. Спуститесь сейчас к портье и заставьте этого молодого человека проявить хоть какие-то признаки расторопности. Вы будете так заняты весь день, что у вас не хватит времени страдать из-за разлуки с Монте.
Она злорадно засмеялась и, потушив сигарету о масленку, взялась за телефонную трубку, чтобы обзвонить всех своих друзей.
Я просто не в силах была так сразу разговаривать с портье. Я пошла в ванную комнату, заперла дверь и села на пробковый мат, уронив голову на руки. Вот наконец он и грянул – наш отъезд. Все кончено. Завтра вечером я буду в поезде, в спальном вагоне, держа, как горничная, шкатулку с драгоценностями и плед, а напротив меня будет сидеть миссис Ван-Хоппер в этой ее чудовищной новой шляпе с пером, еще более приземистая и квадратная из-за меховой шубы. Мы будем умываться и чистить зубы в душном тесном туалете с дребезжащими дверьми, забрызганным умывальником, сырым полотенцем, мылом, к которому прилип волосок, полупустым графином и неизменной надписью на стене: «Sous le lavabo se trouve une vase»[11] – и перестук колес, каждый рывок и толчок гудящего поезда будет говорить мне о том, что все больше миль отделяют меня от него, а он сидит один в ресторане за нашим столиком, читает книгу и не вспоминает обо мне – ему все равно…
Я попрощаюсь с ним перед отъездом, скорее всего в гостиной. Наспех, украдкой, из-за миссис Ван-Хоппер. Пауза… улыбка… что-нибудь вроде: «Да, конечно, пожалуйста, пишите», – и: «Я так и не успела вас как следует поблагодарить за вашу доброту», – и: «Вы перешлете мне снимки?» – «По какому адресу?» – «Я вам сообщу…» И он небрежно закурит сигарету, попросив спичку у проходящего официанта, а я буду думать: «Еще четыре с половиной минуты, и больше я его никогда не увижу».
И потому что я уезжаю, потому что все кончилось, нам внезапно нечего будет сказать друг другу, мы станем незнакомцами, встретившимися в последний и единственный раз, а моя душа будет громко, мучительно кричать: «Я так вас люблю. Я ужасно несчастна. Со мной еще такого не было и никогда не будет». На лице у меня застынет натянутая, подобающая случаю улыбка, мой голос произнесет: «Посмотрите на этого забавного старичка вон там. Интересно, кто это, он, должно быть, недавно приехал». И мы потратим последние драгоценные мгновения, подсмеиваясь над чужаком, потому что сами станем чужими друг другу. «Надеюсь, снимки получатся хорошие», – повторяю я в отчаянии свои слова, а он: «Да, фотография площади должна быть удачной, было как раз подходящее освещение». Мы уже обсуждали это раньше и пришли к одному мнению, и даже если бы у него ничего не вышло, кроме туманных темных отпечатков, мне было бы все равно, потому что настала последняя секунда, мы подошли к завершающему «прощай».
«Что ж, – моя ужасная улыбка еще шире расплывается по лицу, – еще раз огромное вам спасибо. Все было потрясно…» – слово, которое я никогда раньше не употребляла. «Потрясно» – что это значит? Бог ведает, мне было все равно: слово, которое девочки в школе говорят, например, о хоккее, на редкость неподходящее слово для этих недель жгучей муки и жгучего восторга. А затем откроются дверцы лифта и выпустят миссис Ван-Хоппер, и я перейду гостиную, чтобы ее встретить, а он скроется в углу и возьмет газету.
Все это я представила в уме, сидя в нелепой позе на полу ванной комнаты, – и нашу поездку, и прибытие в Нью-Йорк. Пронзительный голос Элен, более тощий вариант матери, и ее ужасный ребенок Нелли. Юноши из колледжей, с которыми станет знакомить меня миссис Ван-Хоппер, молодые банковские служащие подходящего для меня «круга». «Встретимся в среду вечером, ладно?» – «Ты любишь джаз?» Курносые юнцы с лоснящимися лицами. Необходимость быть вежливой. И – одно желание: остаться наедине со своими мыслями, так, как сейчас, запершись в ванной…
Стук в дверь.
– Что вы там делаете?
– Все в порядке… простите. Я выхожу.
Я открыла и закрыла воду, потопталась по ванной, словно вешала на вешалку полотенце.
Она с любопытством взглянула на меня, когда я открыла дверь.
– Вы пробыли здесь целую вечность. Сегодня нет времени мечтать, это слишком большая роскошь, у нас полно дел.
Он, конечно, вернется в Мэндерли через несколько недель. Я в этом не сомневалась. В холле его будет ждать целая гора писем, среди них мое, нацарапанное на пароходе. Вымученное письмо, где я буду стараться его позабавить, описывая плывущих вместе со мной пассажиров. Оно заваляется среди промокательной бумаги, и он ответит на него много недель спустя, как-нибудь воскресным утром, наспех, перед ланчем, наткнувшись на него, когда будет просматривать неоплаченные счета. И на этом все. Вплоть до Рождества, когда – окончательное унижение – я получу поздравительную открытку. Возможно, с видом Мэндерли на заснеженном фоне. Печатный текст. «Счастливого Рождества и успехов в новом году. От Максимилиана де Уинтера». Золотыми буквами. Из любезности он перечеркнет напечатанное имя и напишет чернилами внизу: «От Максима», – бросит подачку, а если останется место, добавит: «Надеюсь, вам нравится Нью-Йорк». Заклеит конверт, прилепит марку и кинет письмо в общую груду из сотни других.
– Очень жаль, что вы завтра уезжаете, – сказал портье, не выпуская из рук телефонной трубки. – На следующей неделе начнутся гастроли балета. Миссис Ван-Хоппер об этом знает?
Я силком вернула себя от Рождества в Мэндерли к реальной жизни и билетам в спальный вагон.
Миссис Ван-Хоппер впервые завтракала в ресторане после инфлюэнцы, и, когда я следовала за ней в зал, у меня сосало под ложечкой. Он уехал на весь день в Канн, это я знала, он накануне меня об этом предупредил; но вдруг официант нечаянно спросит: «Мадемуазель будет сегодня обедать с месье, как всегда?» Всякий раз, как он приближался к столику, мне делалось дурно от страха, но он ничего не сказал.
Весь день я укладывала вещи, а вечером пришли ее друзья прощаться. Мы поужинали в номере, и миссис Ван-Хоппер тут же легла. Его я все еще не видела. Около половины десятого я спустилась в гостиную под предлогом, что мне нужны бирки для чемоданов, но его там не было. Мерзкий портье улыбнулся, увидев меня.
– Если вы ищете мистера де Уинтера, он звонил из Канна, что вернется не раньше полуночи.
– Мне нужен пакет багажных бирок, – сказала я, но по глазам портье увидела, что не обманула его. Значит, нашего последнего вечера тоже не будет. Часы, которых я так ждала весь день, придется провести одной, в моей собственной спальне, глядя на дешевый чемодан и туго набитый портплед. Возможно, это и к лучшему, я была бы плохой собеседницей, и он, возможно, все прочитал бы у меня на лице.
Я знаю, что плакала той ночью, плакала горькими слезами юности, которых сейчас у меня больше нет. После двадцати лет мы уже не плачем так, зарывшись лицом в подушку. Биение пульса в висках, распухшие глаза, судорожный комок в горле. Отчаянные попытки утром скрыть следы этих слез, губка с холодной водой, примочки, одеколон, вороватый мазок пуховкой, говорящий сам за себя. И панический страх, как бы опять не заплакать, когда набухают влагой глаза и неотвратимое дрожание век вот-вот приведет к катастрофе. Помню, как я распахнула окно и высунулась наружу, надеясь, что свежий утренний воздух смоет предательскую красноту под пудрой. Никогда еще солнце не светило так ярко, никогда день не обещал быть таким хорошим. Монте-Карло неожиданно преисполнился доброты и очарования, единственное место на свете, в котором была неподдельность. Я любила его. Меня захлестывала нежность. Я хотела бы жить здесь всю жизнь. А я сегодня уезжаю. В последний раз причесываюсь перед этим зеркалом, в последний раз чищу зубы над этим тазом. Никогда больше не буду я спать на этой кровати. Никогда не погашу здесь свет… Хорошенькая картинка – брожу в халате по комнате и распускаю нюни из-за самого обычного гостиничного номера.
– Вы, надеюсь, не простудились? – спросила миссис Ван-Хоппер за завтраком.
– Нет, – сказала я. – Не думаю, – хватаюсь за соломинку, ведь простуда сможет послужить объяснением, если у меня будут чересчур красные глаза.
– Терпеть не могу сидеть на месте, когда все уложено, – проворчала она. – Надо было нам взять билеты на более ранний поезд. Мы бы достали их, если бы постарались, и смогли бы дольше пробыть в Париже. Пошлите Элен телеграмму, чтобы она нас не встречала, устроила другую rendez-vous[12]. Интересно… – Она взглянула на часы. – Пожалуй, еще не поздно заменить билеты. Во всяком случае, стоит попытаться. Спуститесь-ка вниз, в контору, узнайте.
– Хорошо, – сказала я, марионетка в ее руках, и, пойдя к себе в комнату, скинула халат, застегнула неизменную юбку и натянула через голову вязаный джемпер. Мое равнодушие к миссис Ван-Хоппер перешло в ненависть. Значит, это конец, у меня отнято даже утро. Не будет последнего получаса на террасе, возможно, не будет даже десяти минут, чтобы попрощаться с ним. Потому что она закончила завтрак раньше, чем ожидала, потому что ей скучно. Что ж, раз так, я забуду о гордости, отброшу сдержанность и скромность. Со стуком захлопнув дверь, я кинулась по коридору. Я не стала ждать лифта и взбежала по лестнице на четвертый этаж, перескакивая через три ступеньки. Я знала номер его комнаты – 148 – и, запыхавшаяся, красная, принялась колотить в дверь.
– Войдите! – крикнул он, и вот я на пороге, уже раскаиваясь в своей дерзости; возможно, он только что проснулся, ведь он вчера вернулся поздно, и все еще в постели, растрепанный и сердитый.
Он брился у открытого окна: поверх пижамы на нем была куртка из верблюжьей шерсти; и я, в своем костюме и тяжелых туфлях, почувствовала себя неуклюжей и безвкусно одетой. Мне казалось, что происходит драма, а я просто была смешна.
– В чем дело? – спросил он. – Что-нибудь случилось?
– Я пришла попрощаться, – сказала я. – Мы сегодня уезжаем.
Он глядел на меня во все глаза, затем положил бритву на умывальник.
– Закрой дверь, – сказал он.
Я прикрыла ее за собой и стояла, опустив руки, чувствуя себя очень неловко.
– О чем, бога ради, ты толкуешь? – спросил он.
– Правда, мы сегодня уезжаем. Мы должны были ехать более поздним поездом, а теперь она хочет поспеть на ранний, и я испугалась, что больше вас не увижу. Я должна была увидеть вас перед отъездом и поблагодарить за все.
Они обгоняли друг друга, эти идиотские слова, в точности как я представляла. Я держалась неловко, неестественно, еще минута, и я скажу, что он вел себя «потрясно».
– Почему ты мне раньше не сказала? – спросил он.
– Она решила это только вчера. Все делалось в спешке. Ее дочь отплывает в субботу в Нью-Йорк, и мы вместе с ней. Мы присоединимся к ней в Париже и выедем втроем в Шербург.
– Она берет тебя с собой в Нью-Йорк?
– Да, а я не хочу туда ехать. Я его возненавижу. Я буду несчастна.
– Зачем же, ради всего святого, ты тогда едешь?
– У меня нет выбора, вы это знаете. Я работаю за жалованье. Я не могу позволить себе ее оставить.
Он снова взял бритву и снял мыльную пену с лица.
– Сядь, – сказал он. – Я скоро. Оденусь в ванной комнате, буду готов через пять минут.
Он подхватил одежду, лежавшую на кресле, и бросил ее на пол ванной комнаты, затем вошел туда, захлопнув дверь. Я села на постель и принялась грызть ногти. Все это казалось нереальным, я чувствовала себя персонажем фантастического спектакля. О чем он думает? Что он намерен предпринять? Я обвела взглядом комнату, она ничем не отличалась от комнаты любого другого мужчины, неаккуратная, безликая. Куча обуви, больше, чем может быть надо, и несколько рядов галстуков. На туалетном столике ничего, кроме большого флакона с шампунем и двух щеток для волос из слоновой кости. Никаких художественных фотографий, никаких моментальных снимков. Ничего в этом роде. Я, сама того не замечая, искала их, думая, что уж одна-то фотокарточка будет стоять на столике у кровати или на каминной полке. Большая, в кожаной рамке. Однако там лежали лишь книги и пачка сигарет.
Он был готов, как и обещал, через пять минут.
– Посиди со мной на террасе, пока я буду завтракать, – сказал он.
Я взглянула на часы.
– У меня уже не осталось времени. В эту самую минуту мне следует быть в конторе, менять забронированные места.
– Забудь об этом, – сказал он. – Нам надо поговорить.
Мы прошли по коридору, и он вызвал лифт. Он не понимает, думала я, что ранний поезд отправляется через полтора часа. Через минуту миссис Ван-Хоппер позвонит в контору и спросит, там ли я. Мы спустились в лифте, по-прежнему молча, так же молча вышли на террасу, где были накрыты к завтраку столики.
– Что ты будешь есть? – спросил он.
– Я уже завтракала, – ответила я, – да у меня и осталось всего три минуты.
– Принесите мне кофе, крутое яйцо, тост, апельсиновый джем и мандарин, – сказал он официанту.
Он вынул пилочку из кармана и стал подтачивать ногти.
– Значит, миссис Ван-Хоппер надоел Монте-Карло, – сказал он, – и она хочет вернуться домой. Я тоже. Она – в Нью-Йорк, я – в Мэндерли. Какое из этих мест предпочитаешь ты? Выбирай.
– Не шутите такими вещами, это нечестно, – сказала я. – И вообще, мне надо попрощаться с вами и пойти заняться билетами.
– Если ты думаешь, что я один из тех людей, которые любят острить за завтраком, ты ошибаешься, – сказал он. – У меня по утрам всегда плохое настроение. Повторяю, выбор за тобой, или ты едешь в Америку с миссис Ван-Хоппер, или домой, в Мэндерли, со мной.
– Вы хотите сказать, вам нужна секретарша или что-нибудь в этом роде?
– Нет, я предлагаю тебе выйти за меня замуж, дурочка.
Подошел официант с завтраком, и я сидела, сложив руки на коленях, пока он ставил на стол кофейник и кувшинчик с молоком.
– Вы не понимаете, – сказала я, когда он ушел, – я не из тех девушек, на которых женятся.
– Какого черта! Что ты имеешь в виду? – спросил он, положив ложку, и уставился на меня.
Я смотрела, как на джем садится муха, и он нетерпеливо сгоняет ее.
– Не знаю, – медленно проговорила я, – я не уверена, что смогу это объяснить. Прежде всего, я не принадлежу к вашему кругу.
– А какой это «мой круг»?
– Ну… Мэндерли. Вы знаете, о чем я говорю.
Он снова взял ложку и положил себе джема.
– Ты почти так же невежественна, как миссис Ван-Хоппер, и в точности так же глупа. Что ты знаешь о Мэндерли? Мне, и только мне судить о том, подойдешь ты к нему или нет. Ты думаешь, я сделал тебе предложение под влиянием минуты, да? Потому что тебе не хочется ехать в Нью-Йорк? Ты думаешь, я прошу тебя выйти за меня замуж по той же причине, по которой, как ты полагаешь, катал тебя в машине да и пригласил на обед в тот – первый – вечер? Из доброты. Так?
– Да, – сказала я.
– Когда-нибудь, – сказал он, толстым слоем намазывая джем на тост, – ты поймешь, что человеколюбие не входит в число моих добродетелей. Сейчас, я думаю, ты вообще ничего не понимаешь. Ты не ответила на мой вопрос. Ты выйдешь за меня замуж?
Вряд ли мысль о такой возможности посещала меня даже в самых безудержных мечтах. Однажды, когда мы ехали с ним миля за милей, не обмениваясь ни словом, я стала сочинять про себя бессвязную историю о том, как он очень серьезно заболел, кажется горячкой, и послал за мной, и я за ним ухаживала. Я только дошла до того места в этой истории, когда смачивала ему виски одеколоном, как мы вернулись в отель и на этом все кончилось. А еще как-то раз я вообразила, будто живу в сторожке у ворот Мэндерли и он иногда заходит ко мне в гости и сидит перед очагом. Этот неожиданный разговор о браке озадачил меня, даже несколько, я думаю, напугал. Словно тебе сделал предложение король. В этом было что-то неестественное. А он продолжал есть джем, словно все так и должно быть. В книгах мужчины становились при этом перед женщинами на колени, и в окно светила луна. Не за завтраком. Не так.
– Похоже, что мое предложение не очень пришлось тебе по вкусу, – сказал он. – Сожалею. Мне казалось, ты любишь меня. Хороший щелчок по моему тщеславию.
– Я правда люблю вас. Я люблю вас ужасно. Вы сделали меня очень несчастной, и я проплакала всю ночь, потому что думала, я больше вас никогда не увижу.
Помню, когда я сказала это, он рассмеялся и протянул ко мне руку через стол.
– Благослови тебя Боже за твои слова, – сказал он. – Когда-нибудь, когда ты достигнешь тридцати шести лет – величественного возраста, который, как ты сказала, является пределом твоих мечтаний, – я напомню тебе об этой минуте. И ты мне не поверишь. Как жаль, что ты не можешь не взрослеть.
Мне уже было стыдно, и я сердилась на него за его смех. Значит, женщины не признаются мужчинам в таких вещах. Мне надо было еще многому учиться.
– Выходит, решено, да? – сказал он, продолжая расправляться с тостом и джемом. – Вместо того чтобы быть компаньонкой миссис Ван-Хоппер, будешь компаньонкой мне, и обязанности твои останутся почти что те же. Я тоже люблю новые книги из библиотеки и цветы в гостиной… и безик после обеда. Разница лишь в том, что я употребляю не английскую соль, а крушину, и тебе придется следить, чтобы у меня всегда был хороший запас моей любимой зубной пасты.
Я барабанила пальцами по столу, я ничего не понимала, ни его, ни себя. Он все еще смеется надо мной? Это шутка? Он поднял глаза и увидел тревогу у меня на лице.
– Я безобразно себя веду, да? – сказал он. – Разве так делают предложения?! Мы должны были бы сидеть в оранжерее, ты – в белом платье и с розой в руке, а издалека доносились бы звуки вальса. На скрипке. И я должен был бы страстно объясняться тебе в любви позади пальмы. Ты так все это себе представляешь? Тогда бы ты чувствовала, что получила все сполна. Бедная девочка. Просто стыд и срам. Ну, не важно, я увезу тебя на медовый месяц в Венецию, и мы будем держаться за руки в гондоле. Но мы не останемся там надолго, потому что я хочу показать тебе Мэндерли.
Он хочет показать мне Мэндерли… И внезапно я осознала, что это действительно произойдет, я стану его женой, мы будем гулять вместе в саду, пройдем по тропинке к морю, к усеянному галькой берегу. Я уже видела, как стою после завтрака на ступенях, глядя, какая погода, кидая крошки птицам, а позднее, в шляпе с большими полями, с длинными ножницами в руках выхожу в сад и срезаю цветы для дома. Теперь я знала, почему купила в детстве ту открытку. Это было предчувствие, неведомый мне самой шаг в будущее.
Он хочет показать мне Мэндерли… Воображение мое разыгралось, передо мной одна за другой замелькали картины, возникли какие-то фигуры… и все это время он ел мандарин, не спуская с меня глаз и подкладывая мне время от времени дольку. Вот мы в толпе людей, и он произносит: «Вы, кажется, еще не знакомы с моей женой». Миссис де Уинтер. Я буду миссис де Уинтер. Я подумала, как это будет звучать, как будет выглядеть подпись на чеках торговцам и на письмах с приглашением к обеду. Я слышала, как говорю по телефону: «Почему бы вам не приехать в Мэндерли в конце следующей недели?» Люди, всегда масса людей. «О, она просто обворожительна. Вы должны с ней познакомиться…» Это обо мне – шепоток, пробегающий в толпе, и я отворачиваюсь, делая вид, что ничего не слышала.
Прогулка в домик привратника, в руке корзинка с виноградом и персиками для его прихворнувшей престарелой матушки. Ее руки, протянутые ко мне: «Благослови вас Господь, мадам, вы так добры», – и я в ответ: «Присылайте к нам за всем, что вам может понадобиться». Миссис де Уинтер. Я видела полированный стол в столовой и высокие свечи. Максим во главе стола. Прием на двадцать четыре персоны. У меня в волосах роза. Все глядят на меня, подняв бокалы. «За здоровье новобрачной». А потом, после их отъезда, Максим: «Я еще никогда не видел тебя такой прелестной». Большие прохладные комнаты полны цветов. Моя спальня зимой, с горящим камином. Стук в дверь. Входит незнакомая женщина, она улыбается, это сестра Максима. «Просто удивительно, каким счастливым вы его сделали, все в таком восторге, вы имеете огромный успех!» – говорит она. Миссис де Уинтер. Я буду миссис де Уинтер…
– Эти дольки кислые, я бы не стал их есть, – сказал он, я уставилась на него – до меня с трудом дошел смысл его слов, – затем посмотрела на четвертушку мандарина, лежащую передо мной на тарелке. Она была жесткой и светлой. Он прав. Мандарин был очень кислый. Во рту у меня щипало и горчило, а я только сейчас это заметила.
– Кто сообщит миссис Ван-Хоппер, я или ты? – спросил он.
Он складывал салфетку, отодвигал тарелки, и я поразилась, как он может говорить так небрежно, словно все это не имеет особого значения, просто небольшое изменение планов. Когда для меня это было бомбой, разорвавшейся на тысячи осколков.
– Скажите лучше вы, – попросила я. – Она будет так сердиться.
Мы встали из-за стола, я – красная, возбужденная, дрожа от предвкушения. Может быть, он расскажет официанту, возьмет, улыбаясь, мою руку и проговорит: «Вы должны нас поздравить. Мы с мадемуазель собираемся вступить в брак». Все остальные официанты тоже это услышат, станут кланяться нам и улыбаться. Мы пройдем в гостиную, а за нами покатится волной взволнованный говорок, трепет ожидания… Но он ничего не сказал. Он ушел с террасы без единого слова, и я пошла следом за ним к лифту. Мы миновали конторку портье, и на нас никто не взглянул. Дежурный возился с какими-то бумагами и разговаривал через плечо с помощником. Он не знает, подумала я, что я буду миссис де Уинтер. Я буду жить в Мэндерли. Мэндерли будет мой. Мы поднялись в лифте на второй этаж и пошли по коридору. Он взял меня за руку и стал раскачивать ее взад-вперед.
– Сорок два звучит для тебя очень страшно? – спросил он.
– Вовсе нет, – сказала я быстро, пожалуй, даже слишком быстро и горячо. – Я не люблю молодых людей.
– Ты не была знакома ни с одним из них.
Мы подошли к дверям номера.
– Пожалуй, я лучше справлюсь с этим один, – сказал он. – Скажи мне кое-что: ты не возражаешь, если мы поженимся через несколько дней? Тебе ведь не нужно приданое и все эти глупости? Потому что все можно устроить очень быстро. Получить разрешение, расписаться в мэрии и отправиться на машине в Венецию или куда тебе будет угодно.
– Не в церкви? – спросила я. – Не в белом платье, без подружек, колокольного звона и хора? А что скажут ваши родственники и друзья?
– Ты забыла, – сказал он. – Я уже один раз венчался в церкви.
Мы продолжали стоять перед дверью в номер, и я заметила, что газета все еще торчит в почтовом ящике. Нам было некогда за завтраком читать ее.
– Ну так как? – спросил он.
– Конечно, – ответила я. – Я просто думала, мы поженимся дома. Естественно, я и не жду венчания и гостей и всего такого.
И я улыбнулась ему. Сделала бодрое лицо.
– Вот весело будет, да? – сказала я.
Но он уже отвернулся от меня, открыл дверь, и мы очутились в номере, в небольшой прихожей.
– Это вы? – позвала миссис Ван-Хоппер из гостиной. – Куда, черт возьми, вы запропастились? Я три раза звонила в контору, и они сказали, что не видели вас.
Меня внезапно охватило желание рассмеяться, заплакать, сделать и то и другое одновременно, и вместе с тем засосало под ложечкой. Мне захотелось на один безумный миг, чтобы ничего этого не происходило, чтобы я оказалась где-нибудь одна, гуляла бы и насвистывала…
– Боюсь, во всем виноват один я, – сказал Максим, входя в гостиную и закрывая за собой дверь, и я услышала ее удивленный возглас.
А я пошла к себе в спальню и села у раскрытого окна. Я чувствовала себя так, словно жду в приемной врача. Мне бы сейчас листать страницы журнала, рассматривать фотографии, которые мне неинтересны, и читать статьи, которые я тут же забуду, пока не выйдет сестра, бодрая и расторопная, все человеческое смыто за годы службы дезинфицирующими средствами. «Все в порядке, операция прошла вполне успешно. Нет никаких оснований волноваться. Я бы на вашем месте пошла домой и поспала».
Стены в номере были толстые, я не слышала их голосов. Интересно, что он ей говорит, какими именно словами. Может быть, он сказал: «Знаете, я влюбился в нее в самый первый день». И миссис Ван-Хоппер в ответ: «Ах, мистер де Уинтер, в жизни еще не слыхала такой романтичной истории». «Романтично» – вот оно, то слово, которое я старалась вспомнить, когда мы поднимались в лифте. Да, конечно. «Романтично». Это самое люди и станут говорить. Все произошло так внезапно, так романтично. Они внезапно решили пожениться… и вот… Настоящее приключение.
Я сидела на подоконнике, обняв колени, и улыбалась про себя, думая, как все замечательно, какой я буду счастливой. Я выйду замуж за человека, которого люблю. Я стану миссис де Уинтер. Просто глупо, что у меня не перестает сосать под ложечкой, когда меня ждет такое счастье. Нервы, конечно. Ждать вот так, словно в приемной врача. Пожалуй, было бы куда лучше, более естественно, если бы мы зашли в гостиную вместе, рука об руку, весело улыбаясь друг другу, и он бы сказал: «Мы собираемся пожениться, мы очень любим друг друга».
Любим. Но он даже не упомянул о любви. Возможно, ему было некогда. Мы разговаривали за завтраком в такой спешке. Джем и кофе, и этот мандарин. Некогда. Мандарин был такой горький. Нет… он не упоминал, не говорил о любви. Только – что мы поженимся. Коротко и определенно, очень оригинально. Оригинальное предложение куда интереснее. Более искреннее. Не так, как у других людей. Не так, как у мальчишек, которые болтают чепуху, половине которой они, возможно, сами не верят. Не так бессвязно, не так страстно, как молодые, без клятв в том, что невозможно. Не так, как он объяснялся в первый раз, объяснялся Ребекке… Я не должна об этом думать. Отогнать это прочь. Запретная мысль, мне подсказали ее демоны. Отойди от меня, сатана. Я не должна об этом думать, не должна, не должна, не должна… Он меня любит, он хочет показать мне Мэндерли. Кончат они когда-нибудь разговаривать? Позовут меня наконец в комнату?
Книга стихов лежала возле кровати. Он забыл, что дал мне ее почитать. Значит, она не так уж ему дорога. «Ну же, – шепнул демон, – открой ее на титульном листе, ведь тебе именно этого хочется. Открой». Глупости, сказала я, я просто хочу положить книгу вместе с остальными вещами. Я зевнула, словно нехотя подошла к ночному столику. Взяла книгу… Я запуталась ногой в шнуре от настольной лампы, споткнулась, и книга полетела на пол. Открылась на титульном листе. «Максу от Ребекки». Она умерла, нельзя плохо думать о мертвых. Они мирно спят в своих могилах, ветер колышет над ними траву. Но какой живой была надпись, сколько в ней силы! Эти странные косые буквы. Чернильная клякса. Сделанная вчера. Казалось, книга надписана только вчера. Я вынула из несессера ножнички для ногтей и, поглядывая через плечо, как преступница, отрезала титульный лист.
Я отрезала его целиком. Не осталось никаких краев, и теперь, без этой страницы, книга выглядела белой и чистой. Новая книга, которой не касалась ничья рука. Я разорвала страницу на мелкие кусочки и выбросила их в мусорную корзинку. Затем снова села на подоконник. Но я продолжала думать об этих клочках бумаги и через минуту не выдержала, встала и заглянула в корзинку опять. Даже сейчас чернила четко выделялись на обрывках, буквы были целы. Я взяла спички и подожгла бумагу. Как красиво было пламя, обрывки потемнели, закрутились по краям – косой почерк больше было не разобрать – и развеялись серым пеплом. Последним исчезло заглавное «Р», оно корчилось в огне, на какой-то миг выгнулось наружу, сделавшись еще больше, чем прежде, затем тоже сморщилось, пламя уничтожило его. Даже пепла не осталось, просто перистая пыль… Я пошла к тазу, вымыла руки. Мне было лучше, гораздо лучше. У меня было такое же ощущение чистоты и свежести, какое бывает, когда в самом начале нового года вешаешь на стену календарь. Первое января. Я чувствовала ту же бодрость, ту же радостную уверенность в себе. Дверь открылась, Максим вошел в комнату.
– Все в порядке, – сказал он. – Сперва она онемела от изумления, но теперь начинает приходить в себя. Я спущусь в контору, позабочусь, чтобы она обязательно попала на ранний поезд. На какой-то миг она заколебалась, я думаю, она надеялась выступить свидетельницей при бракосочетании, но я был тверд. Пойди поговори с ней.
Он ничего не сказал о том, как он рад, как он счастлив. Он не взял меня за руку и не ввел в гостиную. Он улыбнулся, кивнул и пошел по коридору один. Я направилась к миссис Ван-Хоппер; я чувствовала себя неловко, неуверенно, как горничная, которая предупредила об уходе с места через подругу.
Миссис Ван-Хоппер стояла у окна и курила сигарету, нелепая кубышка, которую я никогда больше не увижу, шуба туго натянута на огромной груди. На самой макушке несуразная шляпа с пером, надетая набок.
– Ну, – сказала она сухо, совсем не тем тоном, каким, наверно, говорила с ним. – Надо отдать должное вашему умению работать на двоих. В тихом омуте черти водятся, в вашем случае это, безусловно, так. Как же вам удалось?
Я не знала, что ей отвечать. Мне не нравилась ее улыбка.
– Вам повезло, что я заболела, – сказала она. – Теперь я понимаю, как вы проводили день и почему вы все забывали. Уроки тенниса, как бы не так! Могли бы и не скрывать от меня.
– Простите, – сказала я.
Она с любопытством глядела на меня, обшаривала взглядом всю фигуру.
– Он говорил, что хочет жениться на вас как можно скорее. Вам везет, что у вас нет родных – некому задавать вопросы. Ну, меня вся эта история не касается, я умываю руки. Не представляю, правда, что подумают его друзья, но это уж его забота. Вы понимаете, что он вам в отцы годится?
– Ему только сорок два, а я выгляжу взрослее своего возраста.
Она засмеялась и скинула пепел на пол.
– Бесспорно, – сказала миссис Ван-Хоппер.
Она продолжала смотреть на меня так, как никогда не смотрела прежде. Оценивала взглядом с ног до головы, перебирала все стати, как судья на выставке племенного скота. В ее глазах было что-то неприятное, пытливое, словно она раздевала меня донага.
– Скажите мне, – спросила она фамильярно, как подруга подругу, – вы не делали ничего такого, чего не следует делать?
Она напомнила мне Блэз, портниху, которая предложила мне десять процентов комиссионных.
– Я не понимаю, о чем вы, – сказала я.
Она засмеялась, пожала плечами.
– Ну что ж… не важно. Я всегда говорила, что английские девушки – темные лошадки при всех своих спортивных замашках. Значит, мне теперь ехать в Париж одной, а вы останетесь здесь и будете ждать, пока ваш кавалер не получит разрешения на брак? Я заметила, что он не пригласил меня на бракосочетание.
– Я не думаю, чтобы он вообще кого-нибудь звал, да ведь вас все равно к тому времени не будет, – сказала я.
– Хм… хм… – хмыкнула она и, взяв сумочку, принялась пудрить нос. – Что ж, вы, верно, твердо знаете, чего хотите, – продолжала она. – В конце концов, все это произошло уж очень быстро. В какие-то две-три недели. Вряд ли у него легкий характер, вам придется приспосабливаться к нему. До сих пор вы вели жизнь без тревог и забот, ведь вы не можете сказать, что сбивались из-за меня с ног. Как у хозяйки Мэндерли хлопот у вас будет по горло. Откровенно говоря, душечка, просто не представляю, как вы со всем этим справитесь. – Ее слова звучали эхом моих собственных мыслей. – У вас нет опыта, вы не знакомы с его средой. Вам было трудно связать два слова, когда ко мне приходили играть в бридж, как вы будете разговаривать с его друзьями? При ее жизни приемы в Мэндерли были знамениты. Он, конечно, рассказывал вам о них?
Я начала было что-то бормотать, но, к счастью, миссис Ван-Хоппер и не ждала ответа.
– Естественно, хочется, чтобы вы были счастливы, и он очень привлекательный человек, но… но, как мне ни жаль, я думаю, что вы совершаете большую ошибку, о которой будете впоследствии горько сожалеть.
Она поставила коробку с пудрой и поглядела на меня через плечо. Возможно, она наконец говорила искренне, но мне не нужно было прямодушие такого рода. Я ничего не сказала. Наверно, у меня был хмурый вид, потому что она пожала плечами и, подойдя к зеркалу, принялась поправлять свою похожую на гриб шляпку. Я была рада, что она уезжает, рада, что больше не увижу ее. Мне было до смерти жаль тех месяцев, что я провела у нее в услужении, брала у нее деньги, следовала за ней по пятам, как тень, бесцветная и немая. Конечно, я неопытна, конечно, я глупа, застенчива и молода. Я знала все это, ей незачем было мне говорить. Верно, она держалась так со мной сознательно, по какой-то непонятной мне причине ее как женщину возмущал этот брак, наносил удар по ее шкале ценностей.
Ну и пусть, не стану огорчаться, забуду о ней и ее злых словах. Когда я сожгла эту страницу и развеяла пепел, во мне родилась уверенность в себе. Прошлое больше не существует для нас, мы начинаем заново, и он, и я. Прошлое улетучилось, как дым из мусорной корзинки. Я буду миссис де Уинтер. Я буду жить в Мэндерли.
Скоро миссис Ван-Хоппер уедет, исчезнет под перестук колес в спальном вагоне, а мы с ним будем вместе в ресторане отеля сидеть за нашим всегдашним столиком и строить планы на будущее. Начало огромного приключения. Возможно, когда она уедет, он наконец поговорит со мной, скажет, как он меня любит, как он счастлив. До сих пор на это не было времени, такие вещи нельзя просто так взять и сказать, нужен подходящий момент. Я подняла глаза и увидела ее отражение в зеркале. Она наблюдала за мной, на ее губах была снисходительная улыбка. Я подумала, что она решила все же быть великодушной, что она протянет мне руку и пожелает удачи, подбодрит меня и скажет, что все будет хорошо. Но она продолжала улыбаться, заправляя под шляпку выбившуюся прядь волос.
– Вы, конечно, понимаете, почему он на вас женится, не так ли? Вы не тешите себя мыслью, что он в вас влюблен? Дело тут простое: этот пустой дом так стал действовать ему на нервы, что он едва не свихнулся. Он чуть не прямо мне об этом сказал. Перед тем как вы вошли. Он просто не может больше жить там один…
Глава VII
Мы приехали в Мэндерли в начале мая, следом за первыми ласточками и пролеской. Здесь это лучшая пора, сказал Максим, лето еще не вошло в полный разгар, в долине зацветают кроваво-красные рододендроны и дурманяще пахнут азалии. Мы ехали на машине, покинув Лондон утром под проливным дождем, и прибыли в Мэндерли около пяти, как раз к чаю. Как сейчас вижу себя, одетую, по обыкновению, самым неподходящим образом, хотя я вот уже семь недель как была замужем, – коричневое трикотажное платье, на шее маленькая горжетка из куницы, а поверх всего – огромный бесформенный макинтош – уступка моде, – доходящий до самых лодыжек, от чего я казалась на несколько дюймов выше. В руках я сжимала перчатки с крагами и большую кожаную сумку.
– Дождь только здесь, в Лондоне, – сказал Максим, когда мы выезжали. – Подожди, пока приедем в Мэндерли. Там тебя встретит солнце.
Он был прав, тучи остались за Экзетером, они укатились назад, оставив огромный синий купол над головой и белую дорогу впереди.
Я была рада солнцу; я суеверно считала дождь дурной приметой, и свинцовое лондонское небо отбило у меня охоту разговаривать.
– Как ты, получше? – спросил Максим, и я улыбнулась ему и взяла за руку, думая, как все это для него легко – приехать в свой собственный дом, войти в холл, захватить письма, позвонить, чтобы подавали чай; я спрашивала себя, догадывается ли он, как я нервничаю, и показывает ли его «Ну как ты, получше?», что он все понимает.
– Ничего, мы уже скоро приедем. Тебе невредно будет выпить чаю, – сказал он и выпустил мою ладонь – мы подъехали к повороту, и ему надо было снизить скорость.
И я поняла, что он приписал мою молчаливость простой усталости, ему и в голову не пришло, что я столь же сильно страшусь приезда в Мэндерли, сколь стремлюсь к нему в теории. Теперь, когда этот момент настал, я жаждала его задержать. Я хотела бы остановиться в какой-нибудь придорожной гостинице, посидеть в столовой у общего камина. Я хотела быть безымянной путницей, молодой женой, влюбленной в мужа, а не женой Максима де Уинтера, впервые приезжающей в Мэндерли. Мы миновали не одну деревушку, где окна домиков глядели на нас благожелательно и тепло. С порога одного из них мне улыбнулась женщина с младенцем на руках; ее муж, гремя ведрами, шел через дорогу к колодцу.
Ах, если бы мы были такими же, как они, возможно их соседями, и Максим стоял бы вечерами, облокотившись о ворота, с трубкой в зубах, гордый тем, какую высокую штокрозу ему удалось вырастить собственными руками, а я возилась бы на кухне, чистой, как стеклышко, накрывая на стол к ужину. На шкафчике для посуды громко тикал бы будильник, стояли бы рядком начищенные до блеска оловянные тарелки. После ужина, положив ноги на каминную решетку, Максим читал бы газету, а я вытаскивала бы из ящика гору белья, которое надо починить. Несомненно, такая жизнь была бы куда более тихой и безмятежной и к тому же более легкой, не требующей выполнения незыблемых правил.
– Осталось всего две мили, – сказал Максим, – видишь ту широкую полосу деревьев на гребне холма, что спускается в долину, и море за ней? Там и есть Мэндерли, это наш лес.
Я выдавила из себя улыбку, но ничего не ответила, меня вдруг охватила паника, тревожная тошнота, с которой я не могла совладать. Исчезло радостное возбуждение, пропала счастливая гордость. Я чувствовала себя ребенком, которого впервые ведут в школу, маленькой неопытной служанкой, которая никогда раньше не уезжала из дома, а сейчас пришла наниматься к чужим людям. Все самообладание, которое я приобрела за короткие семь недель замужества, превратилось в лоскут, трепещущий на ветру; мне казалось, что я совсем не умею себя вести, не знаю даже простейших вещей, не отличу правой руки от левой, не буду знать, стоять мне или сидеть, какими ложками и вилками пользоваться за обедом.
– Я бы скинул макинтош, – сказал он, глядя на меня, – здесь и в помине не было дождя, и поправь эту свою смешную горжетку. Бедняжка, я привез тебя сюда в такой спешке, нам, верно, следовало накупить тебе в Лондоне кучу нарядов.
– Не важно, если тебе это безразлично, – сказала я.
– Большинство женщин ни о чем, кроме нарядов, не думают, – отсутствующе произнес он, и, завернув за угол, мы оказались у перекрестка, где начиналась высокая стена. – Вот мы и дома, – сказал Максим с непривычным волнением в голосе, и я вцепилась обеими руками в кожаное сиденье машины.
Дорога забрала влево, и перед нами оказались широко распахнутые железные ворота возле сторожки, а за ними – длинная подъездная аллея. Когда мы въезжали в высокие ворота, я заметила лица за темными окошечками сторожки, а из задней двери выбежал ребенок и с любопытством уставился на меня. Я отпрянула на сиденье, сердце судорожно билось у меня в груди; я знала, почему в окошках были эти лица, почему с таким любопытством смотрел мальчик.
Они хотели знать, какая я. Я представляла, как они громко судачат сейчас, как смеются, собравшись на кухоньке. «Только и увидел что макушку шляпы, – говорит кто-нибудь. – Она спрятала лицо. Ну ничего, до завтра мы все узнаем, придет весточка из барского дома». Возможно, Максим наконец догадался хоть немного о моих муках, потому что, взяв мою руку, поцеловал ее и сказал, хотя и с улыбкой:
– Не обращай внимания на их любопытство, всем, естественно, хочется на тебя взглянуть. Последние недели они, вероятно, ни о чем другом не говорили. Будь сама собой, и они станут тебя обожать. И не беспокойся о том, как вести дом, миссис Дэнверс делает абсолютно все. Предоставь это ей. Вероятно, сперва она будет держаться с тобой холодно, это весьма своеобразная личность, но ты не тревожься, такая у нее манера. Видишь эти кусты? Это гортензии. Когда они цветут, здесь стоит сплошная голубая стена.
Я не ответила, я думала о той девочке, моем далеком «я», которая давным-давно купила цветную открытку в деревенской лавке и вышла оттуда на яркий солнечный свет, сжимая ее в руке, в восторге от своей покупки. «Она так хорошо подойдет для альбома, – думала девочка, – Мэндерли, какое красивое имя». А теперь я буду здесь жить. Мэндерли – мой дом. Я стану писать отсюда друзьям и знакомым: «Мы проведем в Мэндерли все лето. Вы обязательно должны приехать у нас погостить», я буду ходить по этой аллее, сейчас такой чужой и незнакомой, зная весь путь наизусть, каждый его изгиб и поворот, замечая с одобрением все уголки, где потрудились садовники – здесь подстригли кустарник, там подрезали ветку, – буду запросто заходить в сторожку привратника у железных ворот. «Ну, как ваша нога сегодня?» – спрошу я его матушку, и старушка, давно утеряв былое любопытство, пригласит меня в кухню. Я завидовала Максиму, он держался непринужденно, беззаботно, легкая улыбка на губах говорила, что он счастлив вернуться домой.
Каким невероятно, немыслимо далеким казалось мне то время, когда я тоже буду улыбаться и чувствовать себя свободно; как мне хотелось, чтобы оно скорей наступило, пусть даже, прожив здесь много-много лет, я состарюсь, поседею и буду еле двигать ногами, – все лучше, чем быть робкой, глупой девчонкой.
Ворота с громким стуком закрылись позади нас, пыльное шоссе скрылось из вида, и я вдруг увидела, что подъездная аллея ни капельки не похожа на ту широкую гравийную дорогу, окаймленную ухоженным газоном, которую я создала в своем воображении, которой пристало быть в Мэндерли.
Эта аллея извивалась и петляла, как змея, временами она была не шире тропинки, с обеих сторон возвышалась колоннада деревьев, ветви которых качались и переплетались друг с другом, образуя над нами свод, похожий на церковную аркаду. Даже прямое полуденное солнце не могло проникнуть сквозь густолиственный зеленый полог, лишь кое-где мерцающие звездочки теплого света испещряли золотом землю. Все было тихо и неподвижно. На шоссе в лицо нам дул веселый западный ветер, под которым дружно кланялась трава, но здесь ветра не было. Даже мотор машины стал звучать по-иному, тише, спокойнее, чем раньше. По мере того как дорога спускалась в долину, нас все теснее обступали деревья, огромные буки с прелестными гладкими белыми стволами, простирающие друг к другу мириады ветвей, и другие деревья, названий которых я не знала, подходящие к дороге так близко, что я могла бы дотронуться до них рукой. Все дальше и дальше – вот мелькнул мостик, перекинутый через ручей, – и по-прежнему эта подъездная аллея, не похожая сама на себя, извивалась и петляла, как волшебная лента, меж темных безмолвных деревьев, все глубже проникая в самое сердце леса, и по-прежнему не видно было расчищенного участка, свободного пространства, где мог бы находиться дом.
Дорога начала действовать мне на нервы. Должно быть, за этим поворотом, думала я, или за тем, подальше, но сколько я ни наклонялась на сиденье вперед, меня ждало разочарование: ни дома, ни полей, ни широко раскинувшегося фруктового сада – ничего, кроме тишины и глухого леса. Ворота у сторожки превратились в воспоминание, а шоссе – в нечто существовавшее в иные времена в ином мире.
Внезапно впереди показался просвет, затем клочок неба, и через минуту темные деревья отодвинулись, поредели, безымянные кусты исчезли, и по обе стороны поднялась высокая багрово-красная стена. Нас окружали рододендроны. Их появление было так внезапно, что поразило, даже испугало меня. Кто мог ожидать их в лесу? Я не была готова к встрече с ними. Они вселили в меня трепет своими пурпурными лицами, в несметном количестве громоздившимися одно над другим; не было видно ни веточки, ни листика, ничего, кроме кровавого багрянца. Эта фантастическая буйная поросль не была похожа ни на какие рододендроны из тех, что я видела раньше.
Я взглянула на Максима. Он улыбался.
– Нравится? – спросил он.
Я сказала ему «да» чуть не шепотом, я не была уверена в том, правду ли я ему говорю; для меня рододендрон всегда был скромным домашним цветком сиреневого или розового цвета, который растет на аккуратных круглых клумбах почти в каждом саду. А эти чудовища, вздымавшиеся к небу, сплотившие свои ряды, как батальон, слишком прекрасны, думала я, слишком могучи, они вообще не цветы.
Мы были уже недалеко от дома, дорога изогнулась, стала той широкой подъездной аллеей, которую я надеялась увидеть с самого начала, и, все еще огражденные с обеих сторон кроваво-красными стенами, мы завернули за последний поворот и очутились перед Мэндерли. Да, это был он, тот самый дом, который я ожидала, Мэндерли с цветной открытки, купленной много лет назад. Воплощение изящества и красоты, изысканно-безупречный, прекраснее, чем я могла представить это в мечтах, он стоял в небольшой лощине, покрытой бархатистыми лужайками, полянами с шелковистой травой, зеленые террасы полого спускались к садам, сады – к морю. Когда мы подъехали к широкому каменному крыльцу и остановились перед открытой дверью, я увидела через высокие узкие трехстворчатые окна, что в холле полно людей.
– Черт побери эту женщину, ведь она прекрасно знает, что я этого не хотел, – проговорил вполголоса Максим и рывком затормозил машину.
– В чем дело? – спросила я. – Кто все эти люди?
– Боюсь, теперь тебе этого не избежать, – раздраженно ответил он. – Миссис Дэнверс собрала весь штат прислуги и всех, кто работает в поместье, чтобы приветствовать нас. Не волнуйся, тебе не придется ничего говорить, я возьму это на себя.
Я стала нащупывать ручку дверцы, меня немного подташнивало и знобило от долгого пути, и пока я возилась с замком, по ступеням спустился дворецкий в сопровождении ливрейного лакея и открыл передо мной дверцу.
Он был стар, у него было доброе лицо, и я улыбнулась ему и протянула руку, но он, видно, не заметил ее, потому что, вместо того чтобы ее пожать, взял мой плед и маленький дорожный несессер и обернулся к Максиму, в то же время помогая мне выйти из машины.
– Ну, вот мы и дома, Фрис, – сказал Максим, снимая перчатки. – Когда мы выезжали из Лондона, шел дождь. Похоже, что здесь дождя не было. Все здоровы?
– Да, сэр, благодарю вас, сэр. Нет, в этом месяце было мало дождей. Рад видеть вас в Мэндерли, надеюсь, вы в добром здравии? И мадам тоже?
– Да, мы оба чувствуем себя превосходно, спасибо, Фрис. Только сильно устали с дороги и хотим чаю. Я не ожидал всего этого. – Он дернул головой по направлению к холлу.
– Приказание миссис Дэнверс, сэр, – сказал дворецкий с непроницаемым выражением лица.
– Нетрудно догадаться, – коротко бросил Максим. – Пошли, – обернулся он ко мне, – это не займет много времени, выпьем чай потом.
Мы поднялись вместе по широкой лестнице, Фрис и лакей следом за нами, с пледом и моим макинтошем, и я почувствовала, как у меня засосало под ложечкой и сдавило судорогой горло.
Я закрываю глаза и как сейчас вижу себя такой, какая я была тогда – худенькая неловкая девушка в трикотажном платье, перчатки с крагами крепко зажаты во вспотевших ладонях, – когда стояла на пороге своего будущего дома. Я вижу огромный каменный холл, широко распахнутые двери в библиотеку, картины Питера Лели и Ван Дейка на стенах, изящную лестницу на галерею менестрелей, а в холле – ряд за рядом, вплоть до каменных переходов в глубине и до столовой – лица, море лиц, глядящих на меня с жадным любопытством, словно они – толпа зевак, собравшихся у лобного места, а я – жертва, со связанными за спиной руками, приведенная на плаху. От моря лиц отделилась какая-то фигура, высокая и костлявая, одетая в глубокий траур; выступающие скулы и большие ввалившиеся глаза придавали ее бледному пергаментному лицу сходство с черепом, венчающим костяк.
Она вышла мне навстречу, и я протянула ей руку, завидуя ее достоинству и самообладанию, но когда ее рука прикоснулась к моей, я почувствовала, что она влажная и тяжелая; холодная, как у трупа, она безжизненно лежала в моей.
– Это миссис Дэнверс, – сказал Максим, и она начала говорить, все еще не вынимая из моей руки эту свою мертвую руку и ни на секунду не сводя с меня ввалившихся глаз, так что я не выдержала и отвела в сторону свои, чтобы не встречаться с ней взглядом, и тогда ее рука дрогнула в моей, к ней вернулась жизнь, а я ощутила неловкость и стыд.
Я сейчас не могу вспомнить ее слов, знаю только, что она приветствовала меня в Мэндерли от своего имени и имени всего персонала, – церемонная речь, приличествующая случаю, произнесенная таким же холодным и безжизненным голосом, как и ее рука. Окончив, она продолжала стоять, словно ждала ответа, и я помню, как, покраснев до корней волос, я пробормотала с запинкой, что очень ей благодарна, и от смущения уронила перчатки. Она наклонилась, чтобы их поднять, и, когда передавала их мне, я увидела на ее губах презрительную улыбку и догадалась, что она считает меня плохо воспитанной. Что-то в выражении ее лица внушило мне тревогу, и даже тогда, когда она отошла назад, заняла свое место среди остальных, ее черная фигура выделялась меж всех прочих, она была сама по себе, особняком от других, и я знала, что и теперь глаза ее не отрываются от меня. Максим взял меня за руку и произнес короткую благодарственную речь так непринужденно, без малейшей неловкости, словно это не составляло для него никакого труда, а затем увел меня в библиотеку выпить чая, закрыл за нами дверь, и мы опять остались одни.
От камина к нам направились два кокер-спаниеля. Они трогали Максима лапами – длинные уши подрагивают от любви, носы шарят у него в ладонях, – затем, оставив Максима, подошли ко мне и подозрительно, неуверенно принялись обнюхивать. Одной из собак – матери, слепой на один глаз – я скоро прискучила, и она с тихим рычанием вновь легла у камина, но Джеспер, более молодой, положил морду мне на колени и сунул нос в руку, глядя говорящими глазами и постукивая хвостом, в то время как я гладила его шелковистые уши.
Мне стало легче, когда я сняла шляпу и несчастную горжетку и кинула их вместе с перчатками на подоконник.
Это была большая уютная комната с книжными полками до потолка, такая комната, из которой одинокий мужчина никогда никуда не уйдет; массивные кресла у большого открытого окна, корзинки для спаниелей, в которых, я была уверена, они никогда не сидят, о чем красноречиво свидетельствовали вмятины на сиденьях кресел. Высокие окна выходили на лужайки, за которыми вдали поблескивало море.
В комнате был свой, застарелый, спокойный запах, словно воздух в ней почти не менялся, несмотря на аромат сирени и роз, которые ставили здесь каждое утро. Откуда бы ни прилетал сюда ветерок, из сада или с моря, он терял здесь свою свежесть, поглощался этой не подверженной изменениям комнатой с покрытыми плесенью книгами, которые никто не читал, украшенным завитками потолком, темной деревянной обшивкой и тяжелыми портьерами.
Это был древний мшистый запах, запах безмолвной церкви, где редко бывает служба, где на камне растет ржавый лишайник и усики плюща доползают до самых витражей. Комната для покоя, комната для размышлений.
Но вот нам принесли чай – внушительный обряд, разыгранный Фрисом и младшим лакеем, в котором я не участвовала, пока они не ушли. Максим просматривал письма, которых накопилась целая куча, а я ела сочащиеся маслом сдобные лепешки и крошащийся в пальцах кекс и глотала горячий чай, обжигающий горло.
Время от времени он поднимал глаза и улыбался мне, затем вновь принимался за письма, полученные, видимо, за последний месяц, и я подумала, как мало знаю о его здешней жизни, о том, как она идет изо дня в день, о людях, с которыми он знаком, о его друзьях, мужчинах и женщинах, о том, какие он оплачивает счета, какие распоряжения по хозяйству он отдает. Последние недели промчались так быстро; проезжая Францию и Италию, я, сидя в машине рядом с Максимом, думала только о своей любви к нему, глядела на Венецию его глазами, вторила его словам, не спрашивала ни о прошлом, ни о будущем, довольствуясь блаженными мгновениями настоящего.
Потому что он был веселей, чем я ожидала, нежнее, чем я могла мечтать, юношески пылкий – я видела это в тысяче милых мелочей, – совсем не похожий на того Максима, каким он был в первые дни, незнакомца, сидящего в одиночестве за ресторанным столиком, погруженного в свой внутренний, неведомый мне мир. Мой Максим смеялся и пел, кидал в воду камешки, держал меня за руку, не хмурился, не сгибался под бременем невидимой ноши. Он был любовником, он был другом, и за эти недели я забыла, что обычно он живет совсем другой, организованной, налаженной жизнью – жизнью, к которой он должен вернуться, и когда он вернется в Мэндерли, все опять войдет в привычную колею, и последние недели канут в прошлое, как короткий праздник.
Я наблюдала, как он читает письма: одно – с улыбкой, другое – нахмурясь, третье – с равнодушным выражением лица, и думала, что, не вмешайся Провидение, мое письмо, присланное из Нью-Йорка, лежало бы в общей груде и он читал бы его так же безразлично; сперва с недоумением взглянул бы на подпись, затем, зевнув, кинул бы вслед за другими в мусорную корзинку и протянул руку к чашке с чаем. От этой мысли мне сделалось зябко. Какой тончайший волосок отделял от меня то, что могло бы быть, ведь он все равно сидел бы здесь за чаем, продолжал бы привычную жизнь, возможно, он и не вспомнил бы обо мне вовсе, а уж если и вспомнил, то без сожаления, а я играла бы в Нью-Йорке в бридж с миссис Ван-Хоппер и день за днем ждала бы письма, которое никогда не придет.
Я откинулась в кресле и стала осматривать комнату, пытаясь внушить себе хоть немного уверенности, осознать по-настоящему, что я действительно здесь, в Мэндерли, доме с цветной открытки, в том самом Мэндерли, знаменитом Мэндерли; я должна была приучить себя к мысли, что все это не только его, а и мое – и глубокое кресло, в котором я сижу, и тысячи книг, поднимающихся рядами до потолка, и картины на стенах, и сады, и леса, весь Мэндерли, о котором я раньше только читала, все это – мое, потому что я вышла замуж за Максима.
Мы состаримся здесь вместе, мы будем пить здесь чай старичками, Максим и я, с нами будут другие собаки, потомки этих, и в библиотеке по-прежнему будет тот же, что и сейчас, немного затхлый запах. Ей предстоит славная пора беспорядка, когда мальчики – наши мальчики – будут еще маленькими; я видела, как они валяются на диване, не сняв грязных ботинок, и тащат в комнату удочки, крикетные биты, перочинные ножи и луки со стрелами.
На столе, сейчас сверкающем полировкой, будет стоять безобразная коробка с бабочками и стрекозами и еще одна – с обернутыми ватой птичьими яйцами. «Здесь не место всему этому, – скажу я, – заберите все это в детскую, милые», – и они выбегут, громко перекликаясь друг с другом, лишь самый младший, более тихий, чем остальные, отстанет от них и притаится один в уголке…
Мое видение рассеялось – в библиотеку вошли Фрис и лакей, чтобы убрать со стола.
– Миссис Дэнверс спрашивает, не хотите ли вы посмотреть свою комнату, мадам, – сказал Фрис, когда все было унесено.
Максим оторвал взгляд от писем.
– Как получилось восточное крыло? – спросил он.
– По-моему, очень хорошо, сэр; конечно, пока шла работа, там развели страшную грязь, и миссис Дэнверс даже боялась, что они не успеют окончить к вашему приезду, но к прошлому понедельнику все привели в порядок. Я думаю, вам будет там удобно, сэр, и, конечно, та сторона дома куда светлее.
– Ты приказал что-нибудь перестроить? – спросила я.
– О, почти ничего, – коротко ответил Максим, – всего лишь отделать заново апартаменты в восточном крыле, где, я решил, мы будем жить. Как сказал Фрис, та сторона дома куда веселее, оттуда открывается прелестный вид на розарий. При жизни матушки там были комнаты для гостей. Я только закончу читать письма и присоединюсь к тебе. Ну, беги же и постарайся подружиться с миссис Дэнверс. Это как раз подходящий случай.
Я медленно поднялась и пошла в холл; меня вновь охватила робость. Ах, если бы я могла подождать Максима и затем, взяв его под руку, посмотреть комнаты вместе с ним. Я не хотела идти одна с миссис Дэнверс. Каким огромным выглядел пустой теперь холл! Шаги звонко отдавались на вымощенном плитняком полу и эхом отражались от потолка, мне было стыдно, точно я шумела в церкви, меня сковывала неловкость. Каблуки мои нелепо постукивали, и я подумала, какой, верно, дурацкий у меня вид, на взгляд Фриса, бесшумно ступающего на войлочных подошвах.
– Ну и огромный он, да? – сказала я неестественно бодро и весело, голосом вчерашней школьницы, но он ответил мне со всей серьезностью:
– Да, мадам, Мэндерли – большой дом. Не такой, как некоторые другие, но достаточно большой. В старые времена здесь был банкетный зал. Его до сих пор используют в особо торжественных случаях, когда устраивается званый обед или бал. И раз в неделю сюда пускают посетителей.
– Я знаю, – сказала я, по-прежнему слыша свои громкие шаги, чувствуя, что он смотрит на меня, как на одну из посетительниц, да я так себя и вела: вежливо глядела направо и налево, рассматривала оружие и картины на стенах, трогала руками резные перила лестницы.
На верхней площадке стояла, поджидая меня, черная фигура, с бледного лица-черепа за мной пристально следили ввалившиеся глаза. Я оглянулась в поисках бесстрастного Фриса, но он уже прошел вглубь холла и скрылся в одном из каменных коридоров.
Я осталась наедине с миссис Дэнверс. Я поднималась навстречу ей по огромной лестнице, а она ждала, неподвижная, руки сложены на груди, взгляд прикован к моему лицу. Я призвала на помощь улыбку, на которую она не ответила, и я ее не виню, для улыбки не было никаких оснований, это была глупая улыбка, слишком сияющая и искусственная.
– Надеюсь, я вас не задержала?
– Вы хозяйка своего времени, мадам, – ответила она, – мое дело исполнять ваши приказания.
Пройдя под сводом галереи, она двинулась по широкому, покрытому ковром коридору. В его конце мы повернули налево, опустились на один марш по узкой лестнице, вновь поднялись по такой же точно лестнице к дубовой двери. Миссис Дэнверс распахнула эту дверь и, отступя в сторону, пропустила меня вперед. Я очутилась в небольшой приемной или будуаре, где стояли диван, кресла и письменный стол, следом шла просторная спальня с двумя кроватями и широкими окнами, а за ней – ванная комната. Я сразу же подошла к окну и выглянула наружу. Внизу простирался розарий, а за розарием до самого леса поднимался крутой травянистый склон.
– Значит, отсюда не видно море, – сказала я, оборачиваясь к миссис Дэнверс.
– Из этого крыла не видно, – ответила она, – и не слышно. Даже не догадаешься, что море так близко… в этом крыле.
Было что-то странное в том, как она это сказала, точно за ее словами что-то крылось, она так подчеркивала «это крыло, в этом крыле», будто хотела намекнуть, что покои, где мы находились, чем-то уступают всем прочим.
– Жалко, – сказала я, – я люблю море.
Она ничего не ответила, лишь продолжала пристально смотреть на меня, сложив руки на груди.
– Как бы то ни было, это прелестная комната, я уверена, мне здесь будет удобно. Я поняла, что ее специально отремонтировали к нашему приезду.
– Да, – сказала она.
– А какая она была раньше? – спросила я.
– Здесь были сиреневые обои и другие портьеры; мистер де Уинтер считал, что она немного мрачная. Ею редко пользовались, разве что помещали время от времени гостей. Но мистер де Уинтер специально распорядился в письме, чтобы для вас приготовили эту комнату.
– Значит, раньше она не была спальней мистера де Уинтера? – сказала я.
– Нет, мадам, он никогда не пользовался комнатами в этом крыле.
– О, – сказала я, – он мне этого не говорил. – И, подойдя к туалетному столику, я принялась расчесывать волосы.
Мои вещи уже были распакованы, и гребень и щетки лежали на подносе. Я была рада, что Максим подарил мне набор щеток, и они теперь разложены на туалетном столике. Они были новые, дорогие, я могла не испытывать за них стыд перед миссис Дэнверс.
– Элис распаковала ваши чемоданы и будет вам прислуживать до приезда вашей горничной, – сказала миссис Дэнверс.
Я снова улыбнулась ей и положила щетку на столик.
– У меня нет горничной, – запинаясь, сказала я. – Я уверена, что Элис вполне мне подойдет.
У нее появилось то же выражение, что во время нашей первой встречи, когда я так неловко уронила перчатки на пол.
– Боюсь, это вас не устроит, разве временно, – сказала она, – принято, чтобы дама, занимающая ваше положение, имела личную горничную.
Я покраснела и снова потянулась за щеткой. Я прекрасно поняла ядовитый намек, крывшийся в ее словах.
– Если вы считаете это необходимым, может быть, вы возьмете на себя, – сказала я, избегая ее взгляда, – найти какую-нибудь молоденькую девушку, которая хочет пройти обучение.
– Как вам будет угодно, – сказала она, – мое дело – исполнять.
Наступило молчание. Я хотела бы, чтобы она ушла. Я не понимала, почему она продолжает стоять, сложа руки на черном платье и не сводя с меня глаз.
– Вы, верно, живете в Мэндерли уже много лет, – сказала я, делая еще одну попытку, – дольше, чем все остальные.
– Меньше, чем Фрис, – сказала она; и я подумала: какой у нее безжизненный голос и какой холодный, как рука, когда я держала ее утром в своей. – Фрис был здесь еще при жизни старого господина, когда мистер де Уинтер был ребенком.
– Понятно, – сказала я, – а вы появились позже.
– Да, позже.
Я опять взглянула на нее и опять встретила ее глаза, темные, мрачные на мертвенно-бледном лице, рождающие во мне, непонятно почему, странную тревогу, предчувствие чего-то дурного. Я попыталась улыбнуться и не смогла, меня приковывали эти потухшие глаза, в которых не было даже искорки симпатии ко мне.
– Я приехала сюда вместе с первой миссис де Уинтер, – сказала она, и голос ее, до сих пор глухой и монотонный, вдруг оживился, стал выразительным и звучным, на обтянутых скулах загорелись два красных пятна.
Перемена была так внезапна, что поразила и даже слегка испугала меня. Я не знала, что сказать, что сделать. Казалось, она произнесла запретные слова, слова, которые долго скрывала в своей груди, и вот они вырвались помимо ее воли. Однако взгляд ее по-прежнему был прикован к моему лицу, в нем странным образом сочетались жалость и презрение, и под ее взглядом я почувствовала себя еще моложе и неопытнее, чем считала раньше.
Я понимала, что она презирает меня и, со всем присущим ее сословию снобизмом, видит, что я – не важная дама, что я робка, застенчива и неуверенна в себе. Однако в ее глазах было что-то еще, помимо презрения, что-то похожее на неприкрытую неприязнь, на настоящую ненависть.
Надо было что-то сказать, не могла же я до бесконечности сидеть так и играть щеткой, не в силах скрыть, как я не доверяю ей, как ее боюсь.
– Миссис Дэнверс, – услышала я собственный голос, – я надеюсь, мы с вами станем друзьями и научимся понимать друг друга. Вам придется быть со мной терпеливой, этот образ жизни для меня нов, я жила совсем иначе. И мне очень хочется добиться успеха, а главное – сделать мистера де Уинтера счастливым. Я знаю, что во всех хозяйственных делах я могу на вас положиться, мистер де Уинтер сказал мне об этом, и я прошу вас вести хозяйство так же точно, как раньше, я не стану вносить никаких изменений.
Я остановилась, чуть запыхавшись, по-прежнему неуверенная в себе – то ли я говорю? И когда я снова подняла глаза, я увидела, что она сошла с прежнего места и стояла, держась за ручку двери.
– Очень хорошо, – сказала она, – надеюсь, вы будете мной довольны. Дом находился под моим присмотром более года, и мистер де Уинтер не имел ко мне никаких претензий. Конечно, при жизни покойной миссис де Уинтер все было иначе, часто устраивались приемы, бывало много гостей, и, хотя хозяйство вела я, все делалось по ее указаниям.
И снова у меня возникло впечатление, что миссис Дэнверс тщательно подбирает слова, так сказать, прощупывает меня, старается прочитать по глазам, какой это производит эффект.
– Я бы охотнее оставила все это на вас, – повторила я, – гораздо охотнее.
И на ее лице вновь появилось выражение, которое я заметила впервые, когда здоровалась с ней в холле, – глубокое, нескрываемое презрение. Она знала, что я никогда не смогу дать ей отпор, мало того – боюсь ее.
– Я вам еще нужна? – спросила она, и я сделала вид, будто оглядываю комнату.
– Нет, – сказала я, – нет, здесь есть все, что мне может понадобиться. Мне будет здесь очень удобно, вы все так прелестно устроили, – последняя попытка умаслить ее, заслужить лестью ее одобрение.
Она пожала плечами, по-прежнему без улыбки.
– Я только следовала указаниям мистера де Уинтера, – сказала она.
Она все еще медлила на пороге, держась за ручку двери. Казалось, она хочет что-то сказать, но не может подобрать слова и ждет, что я предоставлю ей подходящую возможность.
Скорей бы уж она ушла! Она стояла, как призрак, оценивающе следя за мной своими впалыми глазами на обтянутом кожей лице мертвеца.
– Если вам что-нибудь здесь не понравится, сразу же поставьте меня в известность, – попросила она.
– Конечно, конечно, миссис Дэнверс. – Но я знала, что она не это хотела сказать, и между нами вновь повисло молчание.
– Если мистер де Уинтер спросит, где его большой платяной шкаф, – вдруг произнесла она, – скажите ему, что его невозможно было сюда переставить. Мы пытались, но не смогли пронести его, двери слишком узки. Эти комнаты меньше, чем в западном крыле. Если ему не понравится, как я устроила все в этих апартаментах, пусть мне скажет. Трудно было угадать, как меблировать эти комнаты.
– Пожалуйста, не волнуйтесь, миссис Дэнверс. Я уверена, он всем будет доволен. Мне очень неприятно, что на вас свалилось столько хлопот. Я и понятия не имела, что он приказал заново оклеить и обставить эти комнаты; совсем ни к чему было все это беспокойство. Мне было бы не менее удобно и хорошо в западном крыле.
Она с любопытством посмотрела на меня и принялась крутить ручку двери.
– Мистер де Уинтер сказал, что вы предпочтете жить с этой стороны, – сказала она, – западное крыло очень старое. Спальня в парадных апартаментах вдвое больше этой. Это изумительно красивая комната с деревянным резным потолком. Там очень ценные штофные кресла и резная облицовка камина. Самая красивая комната в доме. А окна выходят на лужайки, в сторону моря.
Мне было неловко, не по себе. Я не понимала, почему она говорит со мной так, с плохо скрытой злобой, всячески намекая на то, что приготовленные для меня комнаты ниже обычного уровня для Мэндерли, второстепенные комнаты для второстепенной личности.
– Вероятно, мистер де Уинтер не занимает самую красивую комнату, чтобы можно было показать ее посетителям, – предположила я.
Она продолжала крутить ручку двери, затем вновь взглянула на меня, прямо в глаза, немного помедлив, прежде чем ответить, и когда она заговорила, голос ее был еще спокойнее и монотоннее, чем раньше.
– Посетителям никогда не показывают спален, – сказала она. – Только холл, галереи и нижние комнаты. – Она приостановилась на миг, вновь прощупывая меня взглядом. – Раньше мистер и миссис де Уинтер занимали западное крыло, жили там и пользовались всеми комнатами. Когда миссис де Уинтер была жива, большая комната, о которой я вам рассказывала, та, что выходит окнами на море, была ее спальней.
Тут я увидела, как по ее лицу мелькнула тень, и она отступила к стене, растворилась в полумраке; в коридоре снаружи раздались шаги, и в спальню вошел Максим.
– Ну как? – спросил он. – Все в порядке? Тебе нравится?
Он восхищенно поглядел вокруг, довольный, как мальчишка.
– Мне всегда была по вкусу эта комната, – сказал он. – Все эти годы она пропадала зря, здесь помещали гостей, но я не сомневался, что в ней заложены большие возможности. Вы прекрасно все здесь устроили, миссис Дэнверс, ставлю вам высший балл.
– Благодарю вас, сэр, – сказала она без всякого выражения и вышла, бесшумно прикрыв дверь.
Максим подошел к окну и перевесился через подоконник.
– Я люблю розарий, – сказал он, – одно из моих первых воспоминаний, как я ковыляю за мамой на нетвердых ногах, а она срезает засохшие розы. В этой комнате есть что-то мирное и веселое, и спокойное тоже. Здесь и не догадаешься, что море всего в пяти минутах ходьбы от дома.
– Это самое сказала и миссис Дэнверс.
Он отошел от окна и принялся бесцельно бродить по комнате, трогал то одно, то другое, рассматривал картины, открывал шкафы, перебирал мои распакованные вещи.
– Ну как, поладила с мамашей Дэнверс? – внезапно спросил он.
Я отвернулась и снова принялась расчесывать волосы перед трельяжем.
– Она кажется чуть суховатой, – сказала я не сразу, – возможно, она думает, что я стану вмешиваться в то, как она ведет хозяйство.
– Не думаю, чтобы она против этого возражала.
Я подняла глаза и увидела, что он внимательно глядит на мое отражение, затем он отвернулся, снова подошел к окну и принялся тихо насвистывать, покачиваясь с носка на пятку.
– Не обращай на нее внимания, – сказал он, – она своеобразная личность во многих отношениях, и другой женщине с ней, вероятно, трудно ладить. Ты не тревожься. Если она станет слишком тебе досаждать, мы от нее избавимся. Но она прекрасно знает свое дело и снимет с твоих плеч все заботы по дому. Полагаю, что прислугу она держит в ежовых рукавицах. Ну, со мной-то она знает свое место. Я бы выгнал ее в три шеи, попробуй только она что-нибудь мне сказать.
– Я надеюсь, мы с ней поладим, когда она получше меня узнает, – быстро проговорила я. – В конце концов, только естественно, что поначалу она настроена против меня.
– Настроена против тебя? С чего ты это взяла? Что, черт подери, ты имеешь в виду?
Он обернулся ко мне, нахмурился, на его лице было странное полусердитое выражение. Я не понимала, почему его так задели мои слова, и пожалела о них.
– Я имею в виду, что экономке куда проще вести хозяйство холостого мужчины, – сказала я. – Она, верно, привыкла делать все по-своему, возможно, боится, что я стану здесь командовать.
– Командовать, о боже… – начал он, – если ты думаешь… – Тут он замолчал, подошел ко мне и поцеловал в макушку. – Давай забудем о миссис Дэнверс, – сказал он, – боюсь, она не очень меня интересует. Пошли, я хоть немного покажу тебе Мэндерли.
В тот день я больше не видела миссис Дэнверс, и мы не говорили о ней. Я чувствовала себя счастливее, выкинув ее из своих мыслей, когда мы бродили по нижним комнатам и рассматривали картины – рука Максима у меня на плечах, – я уже не казалась сама себе самозванкой. Я больше ощущала себя такой, какой хотела стать, такой, какой рисовала себя в мечтах, – законной обитательницей Мэндерли.
Мои шаги больше не звучали так глупо на каменных плитах холла, потому что подбитые гвоздями ботинки Максима производили гораздо больше шума, а мягкий топот четырех пар собачьих лап звучал музыкой в моих ушах.
Я обрадовалась, когда Максим, взглянув на настенные часы, сказал, что поздно переодеваться к обеду, – это был наш первый вечер в Мэндерли, мы только приехали и задержались, рассматривая картины, – это избавляло меня от Элис, ее вопросов, что я надену, и помощи при одевании, от чего я уже загодя чувствовала себя неловко, избавляло от долгого пути по парадной лестнице в холл, озябшей, с голыми плечами, в платье, которое мне отдала миссис Ван-Хоппер, потому что оно не налезало на ее дочь. Я страшилась церемонного обеда и строгой столовой, а теперь, благодаря тому что мы не переодевались – казалось бы, мелочь! – все было в порядке, мне было легко и свободно, так же, как в ресторанах, где мы обедали раньше. Я чувствовала себя уютно в трикотажном платье. Я смеялась и болтала о вещах, которые мы видели во Франции и в Италии, мы даже разложили на столе снимки, а Фрис и лакей были безлики – официанты в ресторанах, – они не сверлили меня взглядами, как миссис Дэнверс.
После обеда мы перешли в библиотеку, и вскоре там спустили шторы и подкинули в камин дрова. Было холодно для мая, и я с благодарностью ощущала ровное тепло, идущее от пылающих поленьев.
Для нас было внове сидеть вот так, вдвоем, после обеда; в Италии мы отправлялись бродить или ехали куда-нибудь на машине, заходили в маленькие кафе, стояли на мостах. Максим, не задумываясь, подошел к креслу, стоявшему слева от камина, и протянул руку за газетой. Подложил под голову одну из диванных подушек и закурил сигарету. «Такой здесь заведен порядок, – подумала я, – он всегда так делает, уже много лет подряд».
Он не глядел на меня, он продолжал читать газету, довольный, спокойный хозяин, вернувшийся домой к привычному образу жизни. Я сидела, грустно задумавшись, подперев одной рукой подбородок, другой гладя шелковистые уши спаниеля; мне вдруг пришло в голову, что я не первая отдыхаю в этом кресле, кто-то сидел здесь до меня, оставляя отпечаток своего тела на этих подушках и на подлокотнике, о который опиралась моя рука. Кто-то другой наливал кофе из этого серебряного кофейника, подносил чашку ко рту, наклонялся к собаке, как это сейчас делаю я.
Меня пронзила невольная дрожь, условно у меня за спиной открыли дверь и впустили струю холодного воздуха. Я сидела в кресле Ребекки, я откинулась на ее подушку, и пес подошел ко мне и положил голову мне на колени, потому что это вошло у него в обычай и он помнил, что когда-то, в прошлом, она давала ему кусок сахару.
Глава VIII
Я, конечно, даже отдаленно не представляла себе, до чего упорядочена и распланирована жизнь в Мэндерли. Я вспоминаю сейчас, оглядываясь назад, что в то первое утро Максим встал задолго до завтрака и уже успел написать письма, и, когда я спустилась вниз, значительно позже девяти, подгоняемая громкими ударами гонга, оказалось, что он почти закончил, – он чистил себе апельсин.
Максим взглянул на меня с улыбкой.
– Не расстраивайся, – сказал он, – тебе придется к этому привыкнуть. Мне некогда гонять лодыря по утрам. Быть хозяином Мэндерли – дело нелегкое, это требует массы времени. Кофе и горячие блюда на буфете. Завтракаем мы всегда без слуг.
Я пробормотала, что у меня отстают часы, что я слишком долго пробыла в ванне, но он не слушал, он читал письмо и чему-то хмурился.
До сих пор помню, как меня поразило, мало того, вселило благоговейный страх великолепие поданного нам завтрака. Там стоял большой серебряный электрический самовар и кофейник, блюда с яичницей, ветчиной и рыбой на электрической плите. Были там и вареные яйца в своем особом горячем гнездышке, и овсянка в серебряной миске. На другом буфете лежал окорок и большой кусок копченой грудинки. Посреди стола стояли блюда с ячменными и пшеничными лепешками и тостами и горшочки самых разных размеров с вареньем, повидлом и медом, а на обоих концах возвышались блюда с фруктами на десерт. Мне казалось странным, что Максим, который во Франции и Италии довольствовался рогаликом и апельсином и выпивал одну чашечку кофе, садится дома за этот завтрак на десятерых, день за днем, возможно, год за годом, не видя, как это нелепо, какое это расточительство.
Я заметила, что он съел кусочек рыбы. Я взяла крутое яйцо. Интересно, куда девается остальное, все эти яичницы, поджаристый бекон, каша, рыба. Может быть, сейчас за задней дверью в кухню стоят слуги, которых я никогда не увижу, ожидая завтрака с барского стола? А может быть, все это просто выкидывается на помойку? Конечно, я никогда этого не узнаю, я не отважусь спросить.
– Слава богу, тебе не угрожает знакомство с толпой моих родственников, – сказал Максим. – У меня есть только сестра, которую я редко вижу, и полуслепая бабка. Между прочим, Беатрис напросилась к ланчу. Я так и думал. Ей, вероятно, не терпится на тебя посмотреть.
– На сегодня? – спросила я, и мое настроение упало до нуля.
– Да, судя по письму, полученному утром. Она не пробудет здесь долго. Я думаю, она тебе понравится. Она очень прямая, что у нее на уме, то и на языке. В ней нет никакого притворства. Если ты придешься ей не по вкусу, она скажет тебе это в лицо.
Меня это не очень успокоило, и я спросила себя, нет ли своих положительных сторон в лицемерии. Максим встал из-за стола и закурил сигарету.
– Мне надо сделать кучу вещей. Как ты думаешь, ты сможешь чем-нибудь заняться? – сказал он. – Я был бы рад показать тебе сад, но мне надо повидаться с Кроли, моим управляющим. Я слишком надолго все здесь бросил. Кстати, он тоже придет к ланчу. Ты не возражаешь, да? Это тебя не обременит?
– Нет, конечно, – сказала я. – Буду очень рада.
Максим взял письма и вышел из комнаты, а я подумала, что вовсе не так представляла себе наше первое утро в Мэндерли; я видела в воображении, как мы идем вместе, рука в руке, на море, возвращаемся поздно, усталые и счастливые, к холодному ланчу, а затем сидим вдвоем под каштаном, который виден из окон библиотеки.
Я долго задержалась за завтраком, чтобы быстрее прошло время, и, лишь увидев выглядывавшего из-за дверей Фриса, осознала, что уже одиннадцатый час. Я тут же вскочила на ноги, готовая провалиться сквозь землю, и стала просить прощения за то, что так замешкалась; он молча поклонился, очень вежливо, очень корректно, но я уловила в его глазах мелькнувшее удивление. Неужели я сказала что-то не то? Может быть, не надо было извиняться? Может быть, я упала теперь в его глазах? Ах, если бы я знала, что надо говорить, что надо делать! Может быть, он догадывается, как догадалась миссис Дэнверс, что умение себя держать, светскость и уверенность в себе не являются для меня врожденными качествами, что мне еще предстоит их приобрести – мучительный, возможно, и медленный процесс, и результат будет стоить мне не одной горькой минуты. А пока что, выходя из комнаты, я не поглядела, куда иду, и споткнулась на пороге; Фрис подскочил мне на помощь, подняв по дороге мой платок, а Роберт, младший лакей, стоявший за ширмой, отвернулся, чтобы скрыть улыбку.
Я слышала их голоса, когда пересекала холл. Один из них засмеялся, вероятно Роберт. Возможно, они смеялись надо мной. Я снова направилась наверх, чтобы укрыться у себя в спальне, но, отворив дверь, увидела двух горничных, убиравших комнату: одна подметала пол, другая вытирала пыль с туалетного столика. Они удивленно взглянули на меня. Я быстро повернулась и вышла. Значит, в такое время дня мне не положено сюда заходить. Меня здесь не ждут. Это нарушает привычный для них распорядок. Я опять спустилась крадучись вниз, радуясь, что на мне домашние туфли, ступавшие бесшумно по каменным плитам пола, и пошла в библиотеку; там было холодно и сыро, окна широко распахнуты, камин не зажжен, хотя в нем уже лежали поленья.
Я закрыла окна и оглянулась в поисках спичек. Их нигде не было видно. Как мне быть, подумала я. Звонить мне не хотелось. Но библиотека, где было так уютно и тепло от пылающих поленьев вчера вечером, сейчас напоминала ледник. Наверху, в спальне, у меня были спички, но я не хотела идти туда, чтобы снова не помешать горничным. Я не могла вынести их изумленных взглядов. Я решила, что возьму спички с буфета, когда Фрис и Роберт уйдут из столовой. Я вошла на цыпочках в холл и прислушалась. Они все еще убирали со стола, мне были слышны их голоса и позвякивание посуды. Но вот все стихло, – видимо, они ушли через черную дверь в служебные помещения, и я направилась через холл к столовой. Да, на буфете, как я и ожидала, лежали спички. Я пересекла комнату и взяла коробок, и в этот момент в столовую вошел Фрис. Я попыталась было сунуть коробок украдкой в карман, но увидела, что он удивленно глядит на мою руку.
– Вам что-нибудь нужно, мадам? – спросил он.
– О Фрис, – сконфуженно сказала я, – я не могла найти спички.
Он тут же протянул мне другой коробок и одновременно сигарету. Это привело меня в еще большее замешательство, так как я не курю.
– Спасибо, но дело в том, что я немного озябла в библиотеке. Мне, вероятно, кажется холодно после теплых стран, вот я и решила разжечь камин.
– В библиотеке камин разжигают обычно только во второй половине дня, мадам, – сказал он. – Миссис де Уинтер всегда шла утром в кабинет. Там в камине уже давно горит огонь. Конечно, если вы хотите, чтобы в библиотеке тоже зажгли камин, я сейчас же распоряжусь.
– О нет, у меня и в мыслях этого нет. Я пойду в кабинет. Спасибо, Фрис.
– Вы найдете там почтовую бумагу, и перья, и чернила, мадам, – сказал он. – Миссис де Уинтер всегда после завтрака писала письма и звонила по телефону в своем кабинете. Внутренний телефон тоже там, если вам понадобится поговорить с миссис Дэнверс.
– Спасибо, Фрис, – повторила я.
Я снова направилась в холл, напевая вполголоса, чтобы придать себе уверенный вид. Не могла же я сказать ему, что я понятия не имею, где находится кабинет, что Максим не показал мне его накануне вечером. Я знала, что Фрис стоит на пороге столовой, глядя мне вслед, и что я должна создать видимость, будто мне известно, куда идти. Я заметила дверь слева от парадной лестницы и опрометчиво направилась к ней, моля в душе, чтобы она привела меня к цели, но, открыв дверь, обнаружила, что это чулан для садового хлама; там стоял стол, где составляли букеты, у стены были навалены грудой плетеные кресла, на крючке несколько макинтошей.
Я вышла, вызывающе задрав голову, но, взглянув на дверь в столовую, увидела Фриса. Я и на миг не сумела его обмануть.
– В кабинет надо идти через гостиную, мадам, – сказал он, – вон та дверь, справа от вас, с этой стороны лестницы. Прямо через гостиную, а потом налево.
– Спасибо, Фрис, – смиренно сказала я, отбросив притворство.
Я вошла в гостиную, как он мне указал, красивую длинную комнату прекрасных пропорций, выходившую окнами на лужайки, спускавшиеся к морю. Эту комнату, вероятно, показывают публике, и, если водит посетителей Фрис, он, конечно, знает и историю картин на стенах, и эпоху, к которой относится мебель. Да, конечно, она прекрасна, я это понимала, и эти столы и стулья, возможно, не имеют цены, но при всем том у меня не было желания там задерживаться, я не представляла, что смогу когда-нибудь сидеть в этих креслах, стоять перед резным камином, кидать книги на стол. Она выглядела нежилой, как зал в музее, где отдельные части отгорожены шнуром, где у дверей сидят служители в плаще и шляпе, как гиды во французских замках. Я быстро прошла ее и, повернув налево, попала в комнату, которую не видела раньше, – кабинет.
Я обрадовалась, найдя там спаниелей, сидевших перед горящим камином; Джеспер, младший, сразу же подошел ко мне, виляя хвостом, и сунул мне нос в руку. Старая собака при моем приближении подняла морду и перевела на меня незрячие глаза, но, принюхавшись и обнаружив, что я не тот, кого она ждет, с тихим рычанием отвернулась и снова уставилась в огонь. Затем и Джеспер отошел от меня и улегся рядом с матерью, а та принялась вылизывать ему бок. Приходить сюда поутру вошло у них в привычку. Они знали не хуже Фриса, что в библиотеке камин разожгут лишь во второй половине дня. Почему-то, еще не успев подойти к окну, я догадалась, что кабинет выходит на кусты рододендрона. Да, так оно и было: кроваво-красные, сочные, они росли сплошной стеной перед открытым окном, вторгаясь даже на подъездную аллею. Среди зарослей виднелась прогалинка вроде миниатюрной лужайки, покрытая бархатистым мхом, и в ее центре – небольшая статуя нагого фавна, держащего у губ свирель.
Пунцовые рододендроны служили ему великолепным фоном, а лужайка казалась крошечной сценой, где он разыгрывает свою роль. В кабинете не было затхлого запаха, как в библиотеке, здесь не было старых кресел с потертой кожей, не было столов, заваленных журналами и газетами, которые никто не читал, но которые регулярно туда клались, потому что так было издавна заведено по желанию отца Максима, а может быть, и его деда.
Это была женская комната, изящная и хрупкая комната, хозяйка которой тщательно отобрала каждый предмет обстановки, чтобы любой стул, любая ваза, любая мелочь гармонировали друг с другом и с ней самой. Казалось, та, которая все здесь устроила, сказала: «Я возьму это, и вот это, и это», высматривая среди сокровищ Мэндерли то, что ей больше всего нравилось, отбрасывая второстепенное и посредственное, с безошибочным инстинктом завладевая лишь самым лучшим. Здесь не было смешения стилей и разноречия эпох, и результатом этого явилось совершенство, но не холодное формальное совершенство гостиной, которую показывают посетителям; в этой комнате странным, поразительным образом пульсировала жизнь, словно на нее падал жаркий, ослепительный отсвет от сплошной стены рододендронов за окном. И я заметила, что, не удовлетворившись театром на крошечной лужайке, они проникли и в кабинет. Их большие жаркие лица глядели на меня с каминной полки, они плавали в вазе на столике возле дивана, стояли, стройные и грациозные, на письменном столе возле золотых подсвечников.
Комната была полна ими, даже стены приобрели густой теплый цвет, зарделись под утренним солнцем их багрянцем. Других цветов в комнате не было, и я спросила себя, уж не преследует ли это определенную цель, может быть, здесь с самого начала стремились создать именно такой эффект, ведь больше нигде в доме рододендронов не было. Цветы стояли и в библиотеке, и в столовой, но это были благонравные, аккуратные цветы где-то на заднем плане, не так, как здесь, не в переизбытке. Я села за бюро и подумала: как странно, что эта комната, такая нарядная, с такими сочными красками, в то же время так соответствует своему деловому назначению. Мне почему-то казалось, что комната, обставленная и украшенная с таким безукоризненным вкусом, не считая излишка цветов, должна сама по себе служить лишь навевающим негу украшением для ее хозяйки.
Но это бюро – при всей его красоте – отнюдь не было хорошенькой безделушкой, где женщина царапает записочки, покусывая перо, и небрежно бросает его на открытый бювар. На отделениях для бумаг были наклеены ярлыки: «неотвеченные письма», «письма для хранения», «дом», «поместье», «меню», «разное», «адреса», – каждый ярлык написан стремительным острым почерком, который был мне уже знаком. Встреча с ним поразила, даже напугала меня, ведь я не видела его с тех пор, как уничтожила титульный лист в книжке стихов, и не думала, что снова его увижу.
Я выдвинула наугад один из ящиков, передо мной снова была знакомая рука – на этот раз в книге с кожаным переплетом под заглавием «Гости в Мэндерли»; разделенная на недели и месяцы, она показывала, какие гости бывали в доме, когда они приезжали и уезжали, в каких комнатах жили, чем их угощали. Я переворачивала страницу за страницей и видела, что книга является подробной летописью за год, и хозяйка, найдя нужную страницу, может сказать с точностью до одного дня, какой гость тогда-то и тогда-то провел ночь под ее кровом, где спал и что ел. В ящике лежала также почтовая бумага; толстые белые листы для черновиков и специальная бумага с гербом и адресом, и в коробочках – белые, как слоновая кость, визитные карточки.
Я вынула одну, развернула папиросную бумагу, в которую она была завернута. «Миссис М. де Уинтер» – было написано на ней, и в уголке: «Мэндерли». Я снова положила ее в коробку и задвинула ящик. Мне внезапно сделалось стыдно, словно я гощу в чужом доме, и хозяйка сказала мне: «Ради бога, воспользуйтесь моим столом, если вам надо кому-нибудь написать», а я украдкой заглянула в ее письма – непростительный грех. В любой момент она может вернуться и увидит, что я сижу перед раскрытым ящиком, трогать который я не имела права.
И когда внезапно, словно сигнал тревоги, на бюро передо мной зазвонил телефон, сердце у меня подскочило, и я вздрогнула в ужасе, что мое преступление раскрыто. Я сняла трубку дрожащей рукой. «Кто это? – сказала я. – Кого вам надо?» На другом конце линии послышалось странное жужжание, затем раздался голос, низкий и скрипучий, непонятно, мужской или женский: «Миссис де Уинтер?» – произнес он. Миссис де Уинтер? «Боюсь, вы ошиблись, – сказала я. – Миссис де Уинтер умерла более года назад». Я сидела в ожидании ответа, глупо уставясь на аппарат, и лишь когда имя повторили еще раз – теперь в голосе звучало изумление, – я осознала, залившись краской, что совершила непоправимую ошибку и не могу взять назад своих слов.
– Это миссис Дэнверс, мадам, – сказал голос. – Я говорю с вами по внутреннему телефону.
Мой faux pas[13] был настолько очевиден, настолько глуп и непростителен, что притворяться, будто ничего не произошло, значило бы ставить себя в еще более дурацкое положение.
– Простите, миссис Дэнверс, – заикаясь, сказала я; слова обгоняли одно другое. – Меня напугал телефон, я не сознавала, что говорю, я не поняла, что вызывают меня, я не заметила, что разговариваю по внутреннему телефону.
– Сожалею, что обеспокоила вас, мадам, – сказала она, и я подумала: она все знает, она догадывается, что я лазала в стол. – Я только хотела узнать, не нужна ли я вам и довольны ли вы сегодняшним меню.
– О, – сказала я, – конечно да, то есть я, конечно, буду им довольна, заказывайте все, что считаете нужным, миссис Дэнверс, не берите на себя труд спрашивать меня.
– Я думаю, будет лучше, если вы просмотрите список блюд, – продолжал голос, – вы найдете его на бюваре перед вами.
Я принялась лихорадочно шарить на столе и наконец нашла листок бумаги, который не заметила раньше. Я поспешно проглядела его: креветки под карри, жареная телятина, спаржа, шоколадный мусс… что это – ланч или обед? Ланч, наверно.
– Да, миссис Дэнверс, – сказала я, – вполне подходит, все прекрасно.
– Если вы хотите что-нибудь заменить, пожалуйста, скажите об этом, – ответила она, – и я сразу же распоряжусь. Вы заметили – рядом с соусом я оставила пустое место, чтобы вы написали, что вам больше по вкусу. Я не знаю, под каким соусом вы привыкли есть жареную телятину. Миссис де Уинтер придавала большое значение соусам, и я не решала самовольно этот вопрос.
– О, – сказала я, – о, ну… право, я не знаю, миссис Дэнверс, я думаю, лучше заказать такой соус, как и всегда, такой, какой заказала бы миссис де Уинтер.
– Вам все равно, мадам?
– Да, абсолютно, миссис Дэнверс.
– Я думаю, миссис де Уинтер, скорее всего, заказала бы винный соус.
– Тогда, конечно, и мы закажем то же, – сказала я.
– Простите, что побеспокоила вас, когда вы писали письма, мадам.
– Вы вовсе не обеспокоили меня, пожалуйста, не извиняйтесь.
– Почта уходит в полдень. Роберт зайдет за вашими письмами и сам проштемпелюет их, – сказала она, – если вам надо отправить что-нибудь срочно, позвоните ему по внутреннему телефону, и он прикажет немедленно отнести ваши письма на почту.
– Спасибо, миссис Дэнверс.
Я продолжала слушать, но она ничего больше не сказала, раздался лишь тихий щелчок, когда она положила трубку. Я сделала то же. Затем снова посмотрела на бюро, на почтовую бумагу в бюваре, готовую к употреблению. Передо мной зияли пустые ячейки, и надписи на ярлыках: «неотвеченные письма», «поместье», «разное» – словно упрекали меня за безделье. Та, которая сидела здесь до меня, не тратила впустую время. Она протягивала руку к внутреннему телефону и быстро, энергично отдавала приказания на день, она зачеркивала то блюдо в меню, которое ей не нравилось. Она не говорила: «Да, миссис Дэнверс» и «Конечно, миссис Дэнверс», как это делала я. А затем, покончив с хозяйственными делами, она принималась за письма – пять, шесть, возможно, семь уже ждали ее ответа, и она писала их так хорошо знакомым мне необычным косым почерком. Она, не жалея, отрывала листок за листком эту белую гладкую бумагу, ведь слово разлеталось у нее на строчку, а в конце каждого личного письма ставила свою подпись: «Ребекка», где по контрасту с высоким наклонным «Р» все остальные буквы казались крошечными.
Я побарабанила по столу пальцами. В отделениях для бумаг было теперь пусто. Никаких «неотвеченных писем», на которые надо было бы отвечать, никаких счетов, которые следовало оплатить. Если мне понадобится срочно отправить письмо, сказала миссис Дэнверс, стоит позвонить Роберту, и он велит сразу же отнести его на почту. Интересно, сколько срочных писем писала Ребекка и кому. Портнихе, возможно… «Белое атласное должно быть готово к среде. Непременно», или в парикмахерский салон… «Я буду в городе в следующую пятницу, запишите меня на три часа к месье Антуану. Мытье головы, массаж, маникюр». Нет, подобные письма были бы напрасной тратой времени. Она просто велела бы соединить Мэндерли с Лондоном по телефону. Фрис сделал бы все, что надо, Фрис сказал бы: «Я говорю по поручению миссис де Уинтер». Я продолжала барабанить пальцами по столу. Мне некому было писать. Только миссис Ван-Хоппер. Было что-то нелепое, даже ироническое в том, что я сидела за своим столом в своем доме и мне некому было написать, кроме миссис Ван-Хоппер, женщины, которую я не любила, которую никогда больше не увижу. Я пододвинула к себе лист бумаги. Взяла узкое тонкое перо с блестящим острым кончиком. «Дорогая миссис Ван-Хоппер», – начала я. Я писала вымученные, корявые фразы, выражая надежду, что плавание прошло хорошо и дочь ее поправилась, а погода в Нью-Йорке хорошая, и тут, остановившись в поисках слов, впервые заметила, какой у меня неразборчивый и несформировавшийся почерк, без индивидуальности, без своего стиля, даже малокультурный, почерк посредственной ученицы, закончившей второсортную школу.
Глава IX
На подъездной аллее раздался шорох шин, я вскочила в панике и кинула взгляд на часы – ну конечно, это приехали Беатрис с мужем. Было начало первого, они появились раньше, чем я ждала. А Максим еще не вернулся. Может быть, мне удастся спрятаться, выйти через окно в сад, а когда Фрис приведет их в кабинет, он скажет: «Мадам, должно быть, вышла» – и никто этому не удивится, все сочтут это в порядке вещей. Собаки вопросительно подняли на меня глаза, когда я подбежала к окну. Джеспер, виляя хвостом, потрусил следом.
Окно открывалось на террасу, за которой была травянистая лужайка, но только я собралась проскользнуть мимо рододендронов, как совсем рядом раздались голоса, и я вернулась обратно. Они шли в дом через сад, – вероятно, Фрис сказал им, что я в кабинете. Я быстро вышла в большую гостиную и кинулась к ближайшей двери слева. Она вела в длинный каменный коридор, и я пустилась бежать по нему, прекрасно сознавая, что это глупо, презирая себя за этот внезапный нервный приступ, но я знала, что не могу без страха встретиться с этими людьми, во всяком случае сейчас. Коридор, по-видимому, шел в заднюю часть дома, и когда я завернула за угол и вышла к другой лестнице, я встретила служанку, которую не видела раньше – возможно, это была посудомойка, – с ведром и тряпкой в руках. Она вытаращила на меня глаза, как на призрак, появление которого здесь никак не предполагалось. «Доброе утро», – сказала я смущенно, направляясь к лестнице. «Доброе утро, мадам», – ответила она, а ее круглые глаза с любопытством следили за тем, как я поднимаюсь по ступеням.
Я полагала, что лестница приведет меня к спальням в восточном крыле и я найду свою комнату и посижу там немного, пока не подойдет время ланча, когда мне волей-неволей придется спуститься вниз.
Я, должно быть, заблудилась, так как, войдя в дверь на верхней площадке лестницы, я попала в незнакомый мне коридор, чем-то похожий на коридор в западном крыле, но шире и темнее – из-за темных панелей на стенах.
Я приостановилась, затем свернула налево и вышла к просторной площадке другой лестницы. Кругом было темно и тихо. Вокруг ни души. Если утром здесь и были горничные, они давно закончили свою работу и спустились вниз. Здесь не осталось никаких следов их присутствия, не пахло пылью от подметания ковров, и, стоя там в раздумье, в какую сторону мне повернуть, я подумала, что в безмолвии этом есть что-то не совсем обычное, что-то гнетущее, как в пустом доме, покинутом хозяевами навсегда.
Я наугад открыла одну из дверей и оказалась в кромешной тьме, через закрытые ставни не проникал ни один луч света, лишь в центре комнаты смутно виднелись очертания мебели, закутанной в белые чехлы. Воздух был спертый и затхлый, как бывает в нежилых помещениях, где все украшения собраны в кучу на кровати и прикрыты простыней. Вполне возможно, что здесь не раздвигали занавесей с прошлого лета, и, если подойти к окну и, отодвинув их в стороны, открыть скрипучие ставни, оттуда упадет мертвая бабочка, томившаяся здесь в заточении многие месяцы, и ляжет рядом с потерянной булавкой и сухим листком, который был занесен ветром еще до того, как закрыли окна. Я тихонько вышла из комнаты и пошла неуверенно по коридору, по обеим сторонам которого темнели закрытые двери, пока наконец не подошла к небольшой нише в наружной стене с широким окном, откуда падал свет. Я поглядела наружу. Подо мной простирались уходящие к морю травянистые лужайки, а за ними само море, ярко-зеленое, с белыми гребешками, взбитыми западным ветром, стремительно и плавно несущимися вдаль.