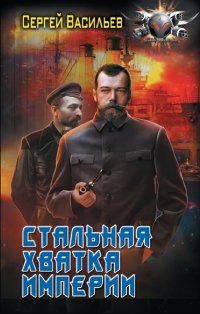Читать онлайн Император из стали. Стальная империя бесплатно
- Все книги автора: Сергей Александрович Васильев
© Сергей Васильев, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
* * *
Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих… Россия вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия – одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется perpetuum mobile или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже Луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия… Но всевозможные усилия вывесть из материалов, цифр, фактов что-нибудь основательное, путное, дельное собственно о русском человеке, что-нибудь синтетически верное – все эти усилия всегда разбивались о какую-то роковую, как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и сосчитали столько звезд на небе, что даже уверились наконец, что могут их и хватать с неба.
Ф. М. Достоевский
Предисловие
Фёдор Михайлович при всей его гениальности просто не мог поверить в тот ад, который существует в европейских головах, в бесовские пляски, начинающиеся при одном упоминании о России. Не мог осознать великий писатель и философ, что широкую русскую душу Запад считает не загадкой, а виной, ненавистной помехой на пути к огромным просторам и несметным природным богатствам, вызывающим дикую «зависть наших западных партнёров», нежно выпестованную в папских монастырях, поднятую на щит тевтонскими конкистадорами, огранённую шляхетским гонором и чувством собственного величия франков, германцев и прочих англосаксов. Зависть, переродившуюся в стойкую генетическую русофобию из-за множества неудачных попыток переделить все «по-честному».
«Цивилизованное западное общество» без права обжалования причисляло к звероподобным дикарям монархистов и республиканцев, западников и славянофилов, большевиков и белогвардейцев, тёмных крестьян и образованных дворян, для которых родным языком был даже не русский, а французский или немецкий.
Грубой силой и сладкой лестью европейские миссионеры убеждали русских, что они – тупик цивилизации. Просвещённая Европа во все времена считала нелегитимной вообще любую власть Москвы и Петербурга. Одинаково неприемлемы были для неё и последние Рюриковичи, и первые – вторые – третьи Романовы. Царя Ивана Грозного по-английски называли «Ivan Terrible» – «Иван Кошмарный», а Николая Второго, плюшевого мягкого Никки, умудрялись изображать то медведем с окровавленными зубами, то земноводным спрутом.
Больше ста лет назад закончились на Руси цари, а отношение Запада к русским не изменилось ни на йоту. Он одинаково яростно шипел и на русских коммунистов двадцатого века, и на отечественных капиталистов двадцать первого. За всё время существования России от Запада поступило всего одно цивилизационное предложение: «Сдохнуть!» И если бы дело ограничивалось только риторикой!
У Фрауштадта 13 февраля 1706 года состоялась битва. Шведские войска разбили Августа II, захватив в плен 4000 русских гренадеров, воевавших вместе с французами и швейцарцами на его стороне.
«Швейцарцев и французов, – пишет современный шведский историк Питер Эслунд, – тотчас поставили на довольствие, велено было накормить и саксонских солдат, предложив им выбирать, расходиться ли по домам или записаться в шведскую армию, но русским не приходилось ждать никакой милости».
В соответствии с приказом графа солдаты генерала Карла Густава Рооса, назначенного ответственным за экзекуцию, окружили пленных. Затем, согласно воспоминаниям очевидца, «около 500 варваров тут же без всякой пощады были в этом кругу застрелены и заколоты, так что они падали друг на друга, как овцы на бойне, так что трупы лежали в три слоя».
После прибытия на место самого Рёншильда акция стала более упорядоченной: солдаты Рооса уже не стреляли и не кололи наобум, а укладывали обреченных на землю «сэндвичем» и прокалывали штыками по трое зараз. Только небольшая часть «объятых ужасом русских, укрывшись среди саксонцев, попытались избежать такой судьбы, выворачивая мундиры наизнанку, красной подкладкой наружу». Но их хитрость была разгадана, и, как рассказывает еще один очевидец, «генерал велел вывести их перед строем и каждому прострелить голову; воистину жалостное зрелище!».
Вместе с солдатами были убиты и офицеры, в том числе несколько немцев, в ответ на предложение Рёншильда отойти в сторону и перекусить ответивших по-немецки: «Нет, среди нас нет немцев, мы все – русские». Точное количество перебитых пленных неведомо, оценки исследователей колеблются на уровне 4000 плюс-минус, но известно, что шведские офицеры, съехавшиеся поглазеть, оживленно комментировали происходящее, аплодируя особо удачным ударам[1].
Живодёр Карл Густав Роос позже был взят русскими в плен под Полтавой, где с него не содрали его шелудивую шкуру и не закололи, как свинью, а посадили за один стол с императором Петром Первым, объявили гостем и отпустили с денежным содержанием домой, где он написал книгу «Воспоминания доброго и честного шведского солдата о храбрых сражениях, горестном пленении и ужасных муках, испытанных им, а также его друзьями, в стране жестоких диких варваров».
«Я освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унизительных истязаний химеры, именуемой совестью и моралью, и от претензий на свободу и личную независимость, до которых дорастают лишь немногие», – объявил рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер в первой половине ХХ века. Карл Густав Роос, а также легионы других европейцев освободились от всего вышеупомянутого гораздо раньше разрешения, полученного от фюрера.
Коллективный Запад уже давно выработал универсальные правила ведения войны с «русскими варварами», первое из которых – не стеснять себя вообще никакими правилами. Мифическая «русская угроза» как оправдание собственного бандитизма – это вовсе не изобретение XXI века. Первый раз англосаксы сослались на неё, организуя и финансируя убийство Павла Первого. Дальше пошло по накатанной.
Ранним утром 11 февраля 1829 года огромная толпа численностью до ста тысяч персов, вооруженных ножами, камнями и палками, атаковала российское посольство в Тегеране, охранявшееся лишь 35 казаками. Персы буквально разорвали русских, включая и посла, великого поэта Александра Грибоедова. Единственный выживший в тегеранской резне секретарь Иван Мальцов писал министру иностранных дел Карлу Нессельроде: «Теперь англичане восторжествовали, уверяют персиян, что мы, находясь в непримиримой войне с Турциею, им ничего сделать не можем, говорят, что Англия скоро объявит войну России, советуют Аббас Мирзе учинить нападение в наши пограничные области». Россия и Британия вели тогда «большую игру» за доминирование в Центральной Азии, и новая русско-персидская война была англичанам весьма на руку.
Распробовав изюминку государственного терроризма, коллективный Запад вдохновился и уже не смог остановиться перед соблазном регулярно бить «русских варваров» чужими руками. И вот с середины XIX века он начинает использовать в качестве своего оружия тех, кому вдруг стало неимоверно стыдно, что они по месту рождения, по религии или крови как-то связаны с Россией. Пятая колонна «как бы русских» – гениальное изобретение «наших западных партнёров». Им удалось то, что не смогли сделать ни иностранные армии, ни заграничные фюреры – наследники дела Курбского дважды за ХХ век разваливали империю и приносили её тушку к ногам англосаксов. Они – составная и неотъемлемая часть западной цивилизации, спецназ русофобов, поэтому о них – поподробнее.
Новая пехота Запада в войне против России – поколение «идейных террористов», современников Достоевского – это «маленькие люди», которые перестали довольствоваться участью Акакия Акакиевича и пошли путем Раскольникова. Для них терроризм – явление политическое лишь во вторую очередь. На первом месте – реализация собственного «Я». Читая их письма и мемуары, постоянно чувствуешь жуткий духовный вакуум, оторванность от всех устоев… Эсерка Мария Школьник после совершенного ею теракта признавалась: «Мир не существовал для меня вообще». Главное событие в её жизни – бомба, брошенная в 1906 году в черниговского губернатора Хвостова. После совершенного теракта она, сбежав из тюрьмы, вполне комфортно жила в Швейцарии, Франции, США. В Россию вернулась в 1918 году. Заведовала «показательными» учреждениями дошкольного воспитания в Москве.
Видно, много накопилось у женщины того, что хотелось передать дошколятам.
«И у Маши Школьник, и у других дореволюционных террористов одна на всех незатейливая история, ведущая человека к поступку, если убийство вообще позволительно так называть. Конфликт с родителями, со средой, манящие ”огни большого города”… Увлечение символистами, оккультные общества, игры с Востоком… Душа, отвергшая вместе с предками их веру в Бога, требует своего. Но все эти желтые занавески и вертящиеся тарелочки быстро приедаются, а девочки-мальчики успели начитаться Маркса с Бакуниным, и тяга к чему-то свеженькому и остренькому прямиком ведет их в революцию. Ужас в том, что в этой среде вскоре обнаруживается та же пресность и скука. Идти на фабрику листовки работницам раздавать? Это действительно неинтересно. Совсем иное дело – выйти на площадь и швырнуть пудовую ”адскую машину”, чтобы назавтра про тебя во всех газетах написали.
Пресловутая классовая борьба – звук пустой, а вот какая-нибудь Брешко-Брешковская, бросившая ”ради дела” месячного сына, – это уже по существу. Или другая мамаша, обмотавшая своего младенца динамитом, перевозя его по железной дороге: ребеночка жандармы обыскивать не станут. Массовый приход в революцию женщин, столь трогательно воспетый Максимом Горьким, – тот же религиозный выверт, духовная подмена. Перед глазами террористок стояли образы святых мучениц из книжек, читанных в детстве бабушкой на сон грядущий. Отказываясь от роли матери, жены и домохозяйки, они будто уходили из мира, совершали своего рода постриг. Срезали косы, одевались нарочито небрежно, отказывали себе в ”дамских слабостях”… Мужчины обращались к ним, как к равным себе, – ”товарищ” и поручали самые рискованные акции: баба, если что, погибнет, но не подведет»[2].
Самым кровавым террористическим актом «Народной воли» стал взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. Андрей Желябов настаивал на том, чтобы ограничить количество используемой взрывчатки: его ужасало предполагаемое число жертв. Исполнитель теракта Степан Халтурин, работавший в Зимнем дворце столяром-краснодеревщиком, не соглашался: «Число жертв все равно будет огромно. Полсотни человек будут непременно перебиты. Так лучше уж не жалеть динамита, чтобы по крайней мере посторонние люди не погибли бесплодно». В том, что немало посторонних погибнет, никто не сомневался.
Общее число пострадавших – прислуги и чинов лейб-гвардии Финляндского полка, несших в тот день караульную службу во дворце, – составило 11 убитых и 56 раненых. Жертвами покушения стали недавние крестьяне, во благо которых был организован теракт. Исполнительный комитет «Народной воли» в прокламации по поводу покушения «объяснился»: «Пока армия будет оплотом царского произвола, пока она не поймет, что в интересах родины ее священный долг стать за народ против царя, такие трагические столкновения неизбежны».
1 марта 1881 года взмах платочка Софьи Перовской означал не только смертный приговор императору Александру II. В результате двух взрывов ручных бомб было ранено девять человек из свиты и конвоя, а также одиннадцать полицейских и прохожих. Смертельными оказались ранения казака Александра Малеичева и крестьянина Николая Захарова, четырнадцатилетнего мальчика из мясной лавки.
И казалось бы, причем тут Запад?
Всплеск терроризма в стране пришелся на русско-турецкую войну 1877–1878 годов, когда Санкт-Петербург решал, брать Стамбул сейчас или повременить. У «профессиональных» народовольцев, как по мановению волшебной палочки, появилась динамитная мастерская, потом – самые совершенные бомбы, промышленно произведённые не в России, мощная взрывчатка, конспиративные квартиры, своя типография, огромные денежные средства. При подготовке терактов денег они не считали.
Небывалый рост финансовой состоятельности народовольцев совпал с принятием политической программы организации. Ее 4-й пункт провозглашал: «В состав теперешней Российской Империи входят такие местности и даже национальности, которые при первой возможности готовы отделиться, каковы, например: Малороссия, Польша, Кавказ и проч. Следовательно, наша обязанность – содействовать разделению теперешней Российской Империи на части соответственно местным желаниям».
Ничего не скажешь! Британские спецслужбы всегда умели прикрывать свои вожделения «местными желаниями».
Кураторы и спонсоры наивных и глубоко провинциальных народовольцев, совершенно не ведавших, что творят, убили царя в день, когда он направлялся на подписание первой в России Конституции. Но главная вина монарха состояла в том, что «варвар» посягнул на интересы Британии в Турции и в… США, куда ушли две русские эскадры контрадмиралов Лесовского и Попова – Атлантическая и Тихоокеанская.
Американские газеты тогда писали: «Русский крест сплетает свои складки со звёздами и полосами». Англичане, скрипнув зубами, отказались от вмешательства в гражданскую войну между Севером и Югом и бросили на произвол судьбы в России уже подбитых ими на восстание поляков. За эту блестящую геополитическую операцию заплатили своими жизнями и русский царь, и американский президент. Это была британская месть в упаковке, не имеющей, на первый взгляд, к этим событиям никакого отношения.
Следующий ураган террора Россия пережила во время русско-японской войны. В эти годы, несмотря на все усилия агентов британского влияния в русских штабах, судьба японской армии, а значит, и британских инвестиций, висела на волоске, и нужна была соломинка, способная сломать хребет верблюду. Таковых было две: революционная коса смерти (с 1904 по 1917 год в России было совершено свыше 22 тысяч терактов) и поздравительные телеграммы в адрес Микадо от «прогрессивной русской интеллигенции». Впервые за всю отечественную историю целая каста людей, кормящихся за казённый счёт, поздравляла чужую армию с победами над Россией.
Ленин, написавший в 1915 году, что «революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству», не изобретал ничего нового, а просто озвучил настроения, которые уже десять лет пышно цвели в среде отечественной интеллигенции. Пройдёт еще двадцать лет, вырастут и встанут «на крыло» дети высокообразованных нигилистов, и в сороковые годы ХХ века «цветочки» превратятся в «ягодку» власовской армии, воюющую с оружием в руках против собственного народа.
До сих пор мучает вопрос: могло ли быть по-другому в стране, окружённой внешними врагами, где опора государственности – привилегированное дворянство – уже полторы сотни лет паразитировало на собственном Отечестве, стремительно вырождаясь и превращаясь из носителя патриотизма в гнездо всевозможных пороков? Был ли вариант сменить печальное сползание в болото исторического забвения на стремительный взлёт без революционной разрухи, миллионов эмигрировавших и погибших в Гражданской войне, разуверившихся и скончавшихся от болезней и голода? Насколько оправданным средством дератизации являлся поджог всего здания? Так ли необходимо было «сносить всё до основания»? Ведь затем пришлось по крупицам воссоздавать разрушенное – техническую и научную элиту, заводы и фабрики, памятники Нахимову и Суворову, офицерское достоинство, возвращать золотые погоны и звания, учреждать ордена императорских полководцев, восстанавливать патриаршество. И делать это не из любви к архаике. Просто в какой-то момент стало ясно: страна, лишённая корней, не опирающаяся на вековую историю, не уважающая героев прошлого, в противостоянии с Западом будет гарантированно раздавлена. Поворот лицом к дореволюционной истории породил ещё одну трагедию – те революционеры, кто осознал эту необходимость, вынуждены были физически уничтожать тех, кто сопротивлялся.
И революционер Джугашвили превратился в красного императора, карающего хулителей России, по крупицам воссоздающего и преумножающего величие и славу Советской империи, гимн которой начинался словами «сплотила навеки Великая Русь». Иосиф Виссарионович Сталин – ужас для отечественных русофобов и непреходящий ночной кошмар для «наших западных партнеров»!
На его плечи лёг не только груз восстановления народного хозяйства после Гражданской войны, но и необходимость демонтажа революционных новоделов, несовместимых с исторической памятью и нравственными нормами русского народа. Набедокурено было много. Начиная с уродливого института «лишенцев» – лиц «неправильного происхождения», лишённых гражданских прав, и заканчивая «Двенадцатью половыми заповедями революционного пролетариата» – популярной работой советского психиатра Арона Залкинда, вышедшей в 1924 году и посвящённой вопросам упорядочения личной жизни мужчин и женщин в СССР на основе классовой, пролетарской этики. Но самый мощный удар был нанесен по совместному проекту отечественных нигилистов и западных пропагандистов, поющих дружным хором песни о прирожденном невежестве русских и вековой дикости России.
В самом начале тридцатых была разгромлена обласканная Лениным историческая школа академика Покровского, заявлявшего под гром аплодисментов «наших западных партнёров»: «Мы, русские, величайшие грабители, каких только можно себе представить». Вслед за ней отправлен на свалку революционный поэт Демьян Бедный, с завидной регулярностью сочинявший пасквили на «мракобесную Русь»:
- Спала Россия, деревянная дура,
- Тысячу лет! Тысячу лет!
- Старая наша «культура»!
- Ничего-то в ней ценного нет…
Не помогла даже ссылка на высший авторитет: «Моею басенной пристрелкой руководил сам Ленин!»
Вместо него с легкой руки Сталина страну в середине тридцатых буквально захлестывает культ Пушкина, следом реабилитируется Достоевский. В 1935 году произведения писателя включают в школьную программу… И это уже совсем в пику Ильичу, называвшему Фёдора Михайловича архивредным писателем. Именно Достоевского вождь всех времен и народов привел своей дочери как пример глубокого психолога.
Может быть, все дело в том, что в Сталине никогда не умирал не только романтик-революционер Коба, но и семинарист с библейским именем Иосиф, мечтавший совершить особый этико-исторический подвиг и искавший для этого подходящий образец? «Только сознав свою вину как сын Христова общества, то есть церкви, он сознает и вину свою перед самим обществом, то есть перед церковью», – эти слова Достоевского подчёркнуты рукой Сталина.
«По иным теориям, слишком выяснившимся в наш девятнадцатый век, церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации… – писал в «Братьях Карамазовых» Достоевский. – По русскому же пониманию и упованию надо, чтоб не церковь перерождалась в государство как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы способиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более».
Слева рукой Сталина приписано красным карандашом: «Ф. Д.» – так выглядел его знак согласия с автором.
Вся жизнь Сталина – это борьба за выживание в войне с коллективным Западом. Апофеоз – разгром фашизма и отчаянная послевоенная попытка избежать ядерной войны с англосаксами. Этого хватило бы для самоуспокоения самому придирчивому перфекционисту, но он и не думал о покое, видел вырождение партийных вельмож, чувствовал номенклатурную угрозу, пожирающую изнутри страну-победителя, пытался предотвратить надвигающуюся с тыла катастрофу. В конце жизни метался между забронзовевшими соратниками, увещевал, угрожал, сетовал: «Мало у нас в руководстве беспокойных… Есть такие люди: если им хорошо, то они думают, что и всем хорошо…»
«Положение сейчас таково, – говорил в приватной беседе Шелепину, – либо мы подготовим наши кадры, наших людей, наших хозяйственников, руководителей экономики на основе науки, либо мы погибли! Так поставлен вопрос историей».
Вера в силу науки у Сталина была почти религиозная, чего не скажешь о вере в учёных. Вот его слова: «В науке единицы являются новаторами. Такими были Павлов, Тимирязев. А остальные – целое море служителей науки, людей консервативных, книжных, рутинеров, которые достигли известного положения и не хотят больше себя беспокоить. Они уперлись в книги, в старые теории, думают, что все знают, и с подозрением относятся ко всему новому».
В который раз вождь пытался найти опору в прошлом. В связи с юбилеем Академии наук СССР предложил учредить в стране новые награды. Орден Ломоносова – за заслуги в разработке общих проблем естествознания, орден Менделеева – за заслуги в области химии, орден Павлова – за достижения в сфере биологических наук. Всемогущий партаппарат пропустил это предложение мимо ушей.
Перед самой смертью звонил члену вновь избранного Президиума ЦК Д. И. Чеснокову: «…Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть, смерть!»
Государство-воин, победившее нашествие объединенного Запада, пережило своего Верховного Главнокомандующего всего на 38 лет – мизерный по историческим меркам срок. Державу – священный храм Сталин построить не успел. Надо предоставить шанс попробовать сделать это хотя бы на страницах книги. Вся серия «Император и Сталин» и четвертый том – «Стальная империя» – именно об этом.
31 декабря 1901 года, Москва
Яков Рощепей, самый молодой конструктор в ведомстве полковника Филатова, в Первопрестольной, да и вообще в большом городе, оказался впервые. Родился и вырос в крохотном селе Осовец на Черниговщине, в многодетной крестьянской семье, где самой большой удачей считалось дважды в год съездить в уездный центр, отличающийся от родного села только количеством дворов, парой каменных двухэтажных казённых зданий да кабаком – главным культурно-развлекательным центром всей округи.
В 1898 году, двадцати лет от роду, Якова призвали в армию и отправили в крепость Зегрж в Привислинском крае кузнецом при полковой мастерской. Охочий до разных поделок, Рощепей в свободное от работы время буквально на коленке сваял приспособление для автоматической стрельбы – к винтовке Мондрагона приделал поворотный затвор Манлихера с зацепом непосредственно за ствол… Это творение увидел комендант, долго крутил в руках, цокал языком, потом написал письмо полковнику Филатову, знавшему его по академии.
А еще через месяц Яков сидел в мастерской Ружейного полигона офицерской стрелковой школы вместе с Владимиром Федоровым и сопел, выводя непривычными к рисованию пальцами эскизы нового оружия – автоматически стреляющей винтовки, или, как тут ее называли, ручного пулемета. В те времена поворотный затвор стандартно цеплялся за вырезы в ствольной коробке, а вырезы на самом стволе, сделанные Яковом, позволяли облегчить всю конструкцию, что уже было серьёзным достижением. Покрутив изделие, Федоров добавил к ней продольный газовый поршень собственного изобретения. И система заработала! Правда, не с 7-миллиметровым патроном Мандрагона и уж тем более не с отечественным мосинским 7,62-миллиметровым из-за их избыточной мощности. А японские патроны 6,5 мм механизм автоматического перезаряжания уже воспринимал лояльно и не пытался прикинуться мёртвым после первой очереди.
И вот всё их конструкторское бюро в полном составе приглашено в Москву, где накануне Нового года состоится награждение и торжественный ужин в честь орденских кавалеров, а значит, и в честь него, Якова Рощепея, крестьянского сына.
Москва встретила молодого человека морозными узорами на окнах, хрустящим снежком под ногами, ароматами глинтвейна и имбирных пряников, рождественскими ярмарками и катками под открытым небом.
Якова, зачарованно бродящего по нарядным праздничным бульварам, озирающегося на каменные рукава улиц с текущими по ним реками людей, запрокидывающего голову на золотые маковки церквей, коих в Москве было больше, чем он до этого видел за всю жизнь, где-то на Чистых прудах выловил хорунжий Токарев, засунул в возок и доставил в гостиницу. Сюда привезли новые мундиры, пошитые, или, как тогда говорили, «построенные» специально для этого торжественного случая – двубортные кители цвета морской волны на сплошной шелковой подкладке, с шестью большими золочеными гербовыми пуговицами, с жестким стоячим воротником со слегка скошенными концами, обшитым цветным сукном с двойным золотым кантом, и петличными эмблемами инженерного корпуса, выполненными серебряным шитьем.
Вместо балахонистых шаровар, введенных Александром III, китель дополняли только что вошедшие в моду галифе и кортик, воспринятый инженерами особо благосклонно, ибо сабля в качестве церемониального аксессуара надоела всем хуже горькой редьки – громоздкая, цепляющаяся за все выступающие предметы и бестолково занимающая руки.
– Эх, жаль, прохожие этой красоты не увидят, – пробормотал Яков, накидывая сверху свою старую шинель.
До Кремля добирались долго. Три кольца оцепления, около каждого – проверка документов. На третьем, уже внутри Большого Кремлевского дворца, – сверка приглашенных с их фотографическим изображением. Фотокаталогом ловко орудовали и сверяли его с оригиналом две строгие девчушки в сочетающихся с прямой юбкой мундирах лейб-жандармерии и очаровательно-кокетливых шотландских гленгарри в тон остальной униформе[3].
Женщин во дворце оказалось непривычно много. Это была не прислуга и не фрейлины, а именно служащие в мундирах с гражданскими, жандармскими и даже военными знаками отличия, удивительно сочетающимися со строгими форменными юбками. Одни деловито спешили куда-то с папками, связками ключей, другие вели за собой делегации или, как эти две синеглазки, придирчиво осматривали его, Якова, на предмет сходства с фотографией.
– Яков Устинович, проходите, пожалуйста, – строго, как классная дама, отчеканила лейб-фея, протягивая оружейнику пригласительный конверт с императорским вензелем и его фамилией, выписанной аккуратным каллиграфическим почерком.
Рощепей торопливо подхватил пакет, коснувшись кончиков пальцев красавицы, облаченных в тончайшие перчатки, взглянул ещё раз в её глаза и почувствовал, как прямо в темечко что-то мягко, но оглушительно тюкнуло, сделав ноги ватными, а руки – непослушными.
– Яков Устиныч, – Токарев смешливо подтолкнул конструктора в бок, – что застыл соляным столпом? Не задерживайся, проходи, уважаемые люди ждут-с.
Молодой человек очнулся, оглянулся на собравшуюся сзади очередь, виновато улыбнулся, пробормотал «звиняйте» и мышью проскользнул вслед за начальством, скрывшимся в бесконечных коридорах Большого Кремлевского дворца.
* * *
Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца никогда никого не оставлял равнодушным. Собственно, и спроектирован он был именно для того, чтобы подчеркнуть торжественность и даже помпезность момента награждения. Рощепей был, наверное, первым, кто не заметил стараний художника Фёдора Солнцева, архитекторов Рихтера и Чичагова. Он послушно крутил головой и слушал рассказ Филатова про ордена, украшавшие парадную анфиладу комплекса, а мысли всё ещё были там, у парадного входа, где осталась чаровница со строгим взглядом голубых глаз и с плясавшими в их глубине чёртиками.
– А вот этих господ вы обязаны знать и почитать, как батюшку и матушку, – вырвал Якова из сладких грез полушепот Филатова. На правах начальника взявший добровольное шефство над молодежью, он пояснял, что за люди собрались сегодня в зале и чем они известны.
– Владимир Ефимович! Михаил Константинович! Рад вас видеть! – уже громко обратился Филатов к двум солидным господам, инженерам в черных мундирах, застегнутых на все восемь серебряных пуговиц, с бархатными обшлагами и стоячим воротником, украшенным вышитыми серебряной нитью звездами пятого класса.
– Молодые люди! – обращаясь к Федорову, Токареву и Рощепею, пробасил Филатов. – Прошу любить и жаловать. Лучшие металлурги России – Михаил Константинович Курако и Владимир Ефимович Грум-Гржимайло[4]. Только от них зависит, будут ли наши изделия стрелять или так и останутся эскизами и чертежами.
– Полноте, Николай Михайлович, – покраснел до корней своей кокетливой бородки Курако, – вы же знаете, что мы всегда стараемся выполнить все ваши пожелания.
– И даже перевыполнить, – пригладил свою раздвоенную седую бороду Грум-Гржимайло. – Коля мастерски дуплекс-методом варит высокоуглеродистую сталь с марганцем, а это как раз то, что вам надо. Но и мы тоже не отстаем, вот закончим монтаж блюминга на нижнетагильском заводе, тогда сможем и моряков порадовать катаной с гетерогенной бронёй. При той же прочности она будет на десять, а то и двадцать процентов легче крупповской…
Металлурга, садящегося на своего конька, прервали первые звуки нового гимна империи – «Славься!» Михаила Ивановича Глинки, заменившего в 1901 году тягомотный «Боже, царя храни!». Церемония началась.
Первыми на награждение приглашали георгиевских кавалеров, отличившихся в Маньчжурии. Принимая из рук императора награду, они поворачивались к залу и произносили необычное «Служу Отечеству!» вместо дурашливого «Рад стараться!», выслушивали в свою честь фанфары и строевым шагом возвращались на место. Новым было не только это. В одном зале, в одном наградном строю плечом к плечу стояли и нижние чины, и генералы. «Смерть на поле брани равняет звания, а святой Петр чины не признаёт!» – ещё год назад жёстко заявил император, с ходу приняв несколько отставок особо оскорбленных аристократов, предложив всем остальным каким-то другим образом демонстрировать свою избранность и предупредив, что будет считать унижение нижних чинов своим личным оскорблением.
От массового офицерского бунта императора тогда спасла бригада африканеров, зараженная бациллой равноправия настолько, что многие даже предлагали должность командира сделать выборной. Это подразделение, состоящее на две трети из офицеров, прошедших англо-бурскую войну и показавших свои зубы при подавлении гвардейского мятежа, полностью поддержало императора, заявив, что боевое товарищество, невзирая на чины, есть основа боеспособности, и они готовы выделить из своих рядов замену всем любителям почесать чувство собственного величия о нижние чины. Африканеров поддержала немалая часть ветеранов. Офицерский бунт не состоялся.
Солдатские массы возликовали. Почтение к императору вознеслось до небес, а вот дисциплина, наоборот, снизилась. Рукоприкладство попало под запрет, сословная обособленность офицеров лишилась внешних атрибутов; стало быть, «командир больше не авторитет», подумали нижние чины и получили еще одно, адресованное лично к ним обращение. Император надеялся на сознательность защитников Родины и предупреждал, что нарушений воинской дисциплины и невыполнения приказов не потерпит, если будет надо – расстреляет нарушителей перед строем лично, но не унижая и даже называя их при этом исключительно по имени-отчеству. Офицерство вздохнуло с облегчением. Армия более или менее успокоилась, хотя какое тут спокойствие с такой масштабной реорганизацией, охватившей все структуры военного ведомства.
Войска срочно переходили на унифицированную трехзвенную структуру: три отделения – взвод, три взвода – рота, три роты – батальон, три батальона – полк, три полка – дивизия. Дивизии объединялись сразу в армиии. Корпус как боевая единица упразднялся. Всё хозяйственное, медицинское и продуктовое обеспечение передавалось в службы тыла. «Солдат должен учиться воевать, а не капусту солить!» – жёстко отреагировал император на попытки сослаться на старое, привычное артельное самообеспечение войск. Заместители командира по тылу со своими специалистами, задачами и инвентарем вводились в штат, начиная с батальонного уровня. То же касалось служб связи, медицины и саперов, имеющих нынче двойное подчинение – командиру, которому они были приданы, и собственному начальству, упирающемуся по вертикали в Генеральный штаб.
Войска повышали свою мобильность. Норма – одна лошадь на трех человек, шестьдесят повозок на полк – превратилась в головную боль для только что реорганизованного Управления тыла. Но меньше не получалось из-за требований мобильности. Самые активные тыловики уже яростно листали зарубежные журналы, осаждали участников китайского похода и африканеров с требованиями поделиться опытом и своими наблюдениями за снабжением иностранных армий.
Войска насыщались пулеметами. Точнее – пулемёт превращался в базовый элемент, вокруг которого формировалась тактика инфантерии. На каждое отделение – по «трещотке» Рощепея – Федорова, на каждый взвод – по станковой «швейной машинке» Браунинга – Токарева. В урну летели все ранее изданные генералом Драгомировым наставления. Вместо них в частях усиленно штудировали новые полевые уставы, написанные лично императором с учётом его опыта горьких поражений и громких побед в Великой Отечественной войне в той, прошлой, уже такой далекой жизни.
Труднее всего приходилось артиллеристам. На них обрушилось главное количество новаций. Их батареи усыхали с восьми орудий до четырех, но зато каждому пехотному батальону необходимо было придать батарею трехдюймовок, каждый полк требовалось снабдить батареей мортир, куда временно отрядили древние, как мамонт, шестидюймовки Круппа – Энгельгардта 1885 года, а каждой дивизии придать полк тяжелой гаубичной артиллерии, куда, опять же временно, определили шестидюймовую стодвадцатипудовую пушку. Теперь артиллеристы мучились с приспособлениями и таблицами стрельб с закрытых позиций, прицелами, лафетами, замками, откатниками и прочими арт-аксессуарами, позволяющими уменьшить вес орудий, повысить их скорострельность и эффективность.
Все эти бурления и пертурбации вместе со слушателями эхом доносились до мастерских ружейного полигона стрелковой школы. Поэтому все конструкторы, включая Браунинга, имели полное представление о происходящих переменах и их авторах, зная лично многих из тех, кто поднимался на пьедестал за наградами.
– Смотри, смотри! Наши идут! – радостно зашептал на ухо Рощепею Токарев. На награждение боевыми орденами вызывали казачек – жен и дочерей казаков, остановивших прорвавшийся на русский берег Амура китайский десант, защитивших станицы и продержавшихся до подхода регулярных войск[5].
– Барышни, не стесняйтесь, – добродушно проворковал монарх, пытаясь ободрить оробевших казачек. – Вы не боялись чужих солдат, а тут все свои! Их не бояться, их воспитывать надо в уважении и почтении к таким очаровательным дамам. Подходите ближе, чтобы всем было видно, про кого писал Некрасов свои бессмертные строки. Надеюсь, у присутствующих нет сомнения в справедливости слов Николая Алексеевича? А нам, мужчинам, должно быть стыдно, что таким хрупким красавицам приходится коня на скаку останавливать и в горящую избу входить!
Взяв в руки орденские грамоты и посмотрев на совсем ещё юных девчонок, смущенно столпившихся на сцене, император вдруг отложил документы и начал аплодировать. Вслед за ним аплодисментами буквально взорвался весь зал, словно присутствующие находились не на торжественном мероприятии, а на премьере модного спектакля.
Рощепей посмотрел на Токарева. Хорунжий не отрывал глаз от сцены и пребывал ныне в таком же состоянии, как Яков, находясь у парадного входа при прохождении контрольного пункта.
– Горячие головы, – продолжал тем временем император церемонию, – стремясь к революционным переменам, предлагали полностью упразднить титулование как пережиток прошлого. Но, глядя в лица тех, кто собрался в этом зале, я подумал, что «их благородия» и «сиятельства» вполне можно оставить, только правильно научиться ими пользоваться. Например, наши герои, наши георгиевские кавалеры. Вот кого можно и нужно титуловать «ваше благородие», они это право заслужили в беспощадных рубках и под огнем неприятеля, ибо что может быть благороднее, чем подвиг самопожертвования за Отечество и «други своя»?
Зал притих, гадая, какой сюрприз приготовил император на этот раз. Месяц назад высочайшим указом было отменено наследование титулов, и высшее общество напряженно гадало, каким образом передать детям дворянское достоинство. И вот, кажется, что-то начало проясняться.
– Обращение «ваше благородие», по моему мнению, лучше всего подходит как прилагательное к военному ордену, как признательность окружающих за совершенный его носителем подвиг. Какая разница, какое происхождение было у Ивана Сусанина? Его поступок благороден и бескорыстен, поэтому такое и только такое титулование понятно и одобряемо. Я хочу, чтобы ко всем нашим героям, включая этих очаровательных дам, обращались с этим титулом, а принадлежность к капитулу георгиевских кавалеров производило их автоматически в личное дворянское достоинство.
Зал молчал. Понятно, что это очередная домашняя заготовка императора. В глазах потомственных дворян предложение монарха было безусловной ересью. Но они прекрасно понимали, кто будет двумя руками за такой подход. Это боевые обстрелянные ветераны, чей личный статус возрастал многократно и выделял их из серой сословной массы. А спорить с понюхавшими порох… «Да пусть делают что хотят!..»
– Кто такой граф? – развивал тем временем свою мысль император. – Изначально это просто грамотный человек в окружении суверена. Образование традиционно создаёт ореол света, поэтому – «сиятельство». Нам ничто не мешает привести форму в соответствие с содержанием и присваивать этот титул нашим учёным и учителям, которые действительно несут свет просвещения и двигают технический прогресс. Имеется мнение, что будет правильным присваивать титул графа с титулованием «ваше сиятельство» всем нашим сиятельным служителям науки, совершившим открытия или подготовившим достойных учеников на преподавательском поприще. Этого же титула должны быть удостоены те, кто, не жалея сил, строят сегодня школы и больницы, вытаскивают российских подданных из лап болезней и из мрака невежества. А сейчас позвольте вернуться к самой приятной миссии и вручить заслуженные боевые награды очаровательным сударыням. Забегая вперёд, сообщу, что у генерала Максимова есть предложение, от которого юным защитницам Отечества трудно будет отказаться…
Ad augusta per angusta![6]
– Ну что, ваше сиятельство, – ехидно толкнул в бок Бриллинга Гриневецкий, когда гофмейстер объявил долгожданный перерыв и был осушен первый бокал шампанского. – Как титул будет сочетаться с вашей революционной деятельностью? Как вас будут величать социалисты? Товарищ граф?
Обычно горячий и скорый на острое словцо, Бриллинг на этот раз был непривычно задумчив и как будто полностью погружен в разглядывание первых в его жизни наград. Он сегодня стал двойным кавалером – ордена Ломоносова за заслуги в разработке общих проблем естествознания и ордена Кузьмы Минина за вклад в обороноспособность Отечества.
– Ваше сиятельство, – шутливо подтолкнул с другой стороны коллегу Карл Кирш. – Вы не игнорируйте его сиятельство, а то ведь, в отличие от вас, Гриневецкий – потомственный дворянин и может не только на дуэль вызвать, но и на конюшне выпороть за неуважение.
Бриллинг поднял голову, медленно обвёл глазами инженеров и профессоров, празднующих получение государственных наград, как будто принимая решение, и твердо проговорил:
– А вам не кажется, коллеги, что революция происходит прямо сейчас, и мы являемся её непосредственными участниками? На наших глазах разрушается старая система воспроизводства элиты, отменяются заслуги предков как пропуск в высшее общество. Да и само высшее общество неудержимо меняет своё лицо. Каждое поколение теперь должно само доказывать собственную состоятельность, без костылей в виде записей в Бархатной книге и прочих сословных преференций. Только знаете, чтобы завершить эту революцию и сохранить в целости главного революционера, – Бриллинг поднял глаза в потолок, как бы указывая на местоположение императора, – тех охранных кордонов, что мы видели у дворца, будет маловато. Мы даже представить себе не можем, сколько врагов к уже существующим он добавил сегодня. И с этим надо…
Его монолог, становившийся с каждым словом всё горячее, прервал энергичный и маневренный, как миноносец, Доливо-Добровольский, только что совершивший круг почёта по периметру Георгиевского зала, принимая и раздавая поздравления. Он прямиком направился к теплотехникам-турбинистам, торжественно поблёскивая лысиной и выставив перед собой рыжеватую бородку клинышком, как боевой корабль – таран.
Михаил Осипович уже успел нацепить на грудь весь иконостас из орденов и нагрудного знака лауреата Государственной премии, ещё одной инвенции императора, и горел желанием немедленно поделиться своим хорошим настроением с окружающими. Навалившись на теплотехников и обхватив их обеими руками, повелитель электричества зашептал жарко и радостно:
– Господа! А ведь у нас получилось! Ей-ей, получилось! Как мы их всех, а?
Все турбинисты, не сговариваясь, кивнули и дружно рявкнули, привлекая внимания окружающих: «Ad augusta per angusta!» – девиз, родившийся в ходе их непродолжительного, но крайне продуктивного сотрудничества с «повелителями молний», как они в шутку называли электрических инженеров. «Всех их» – это и англичан с турбиной Парсонса, уступавшей по всем параметрам активно-реактивной турбине Российского института теплотехники, и всех вместе заграничных корабелов, не строящих сварные корпуса корабля по технологии Бернадоса, и всех иностранных энергетиков, еще не додумавшихся совместить паровые турбины с электромоторами по проекту Доливо-Добровольского.
Весной 1901 года дружной компанией они явились в Морской технический комитет и заявили Крылову о наличии идеи… Нет, не так – ИДЕИ!
– Вы ломаете сейчас голову над проблемой движения турбинного корабля на малом и среднем ходу, не так ли? – вкрадчиво, как психотерапевт, начал свою беседу с главой МТК Доливо-Добровольский. – Механики бьются над качеством понижающей зубчатой передачи?
Крылов кивнул и заинтересованно осмотрел делегацию, прямо-таки сочащуюся интригой.
– Все проблемы, связанные с обеспечением движения и маневрирования на малом и среднем ходу, можно решить одним махом, – рубанул воздух электрик. – Предлагаю в качестве главного движителя использовать асинхронный электромотор переменного или постоянного тока, в зависимости от необходимой мощности.
Взлетевшие брови Крылова турбинисты и электрики расценили как крайнюю заинтересованность и заговорили, перебивая друг друга.
– Турбина, подключенная к генератору тока, будет работать на постоянных оборотах в оптимальном для себя режиме без учёта оборотов гребного винта, что всенепременно приведет к экономии топлива, – начал Гриневецкий.
– Для того чтобы дать ход, надо будет просто подключить генератор тока к электродвигателю. Сделать это можно, просто включив рубильник откуда угодно, хоть из рулевой рубки, – перешёл к конструктивным решениям Николай Александрович Федорицкий, инженер-электрик Балтийского завода, – а если вместо рубильника использовать соленоид, то ход будет регулироваться от самого малого до самого полного простым поворотом регулятора.
– Да, – поддержал коллег первый электрик русского флота, полковник по адмиралтейству Евгений Павлович Тверитинов, – бесспорное преимущество электрического привода – возможность быстро и плавно менять скорость и направление вращения движителя, что улучшает манёвренность…
– Электрический привод позволит создать гребную установку большей мощности благодаря простоте соединения нескольких генераторов, – добавил Доливо-Добровольский.
– Гребные электродвигатели легко размещаются в самой корме судна, – вторил ему Кирш. – Благодаря отсутствию длинных валопроводов мы увеличим коэффициент полезного действия, уменьшим уровень шума и вибрации…
– Уменьшая валы, мы также экономим место, где они проложены, – поддакивал Бриллинг, – а отсутствие механической связи между первичным двигателем и гребным винтом даст возможность расположить главную энергетическую установку там, где удобно, хоть на мачте…
– Во всяком случае расположить её повыше, так, чтобы при попадании воды в трюм корабль не был обесточен и обездвижен.
– Да их вообще может быть несколько, разнесенных по разным частям корабля с целью резервирования на случай повреждения.
– А если электродвигатель и проводку грамотно заизолировать, то он сможет работать в погруженном состоянии, и корабль сохранит подвижность даже при полностью затопленных трюмах, пока вода не добралась до главной энергетической установки…
– Которая на мачте, – шутейно ввернул Бриллинг.
– Не острите, Николай Романович! Серьезные вопросы обсуждаем!.. На один вал может работать сразу несколько электродвигателей, и наоборот. Этим мы можем многократно резервировать движительные мощности на случай повреждения части из них.
– В результате всего вышеперечисленного и с условием нефтяного питания котлов общее уменьшение веса и экономия места составит для корветов и крейсеров до пятнадцати процентов, а для броненосцев – до десяти процентов от общего водоизмещения, – заявил Тверитинов.
– Экономя место и вес, – торжествующе подытожил Доливо-Добровольский, – мы сможем одновременно обеспечить рост мощности ГЭУ в среднем на четверть. Для броненосцев типа «Бородино» мощность двигателя возрастет до двадцати тысяч лошадиных сил.
Крылов посидел, переваривая услышанное, и задал первый осторожный вопрос:
– И какие энергетические установки вы можете предложить флоту сейчас?
– Государь предложил не проектировать собственные ГЭУ и электродвигатели для разных кораблей, а сделать одну базовую, универсальную, – заглянув в записи, уточнил Доливо-Добровольский, – и компоновать из них нужную конфигурацию для любого корабля. Мы предлагаем базовый комплект из турбогенератора мощностью шесть тысяч киловатт и электродвигателя четыре тысячи киловатт[7]. На корветы и эсминцы будем ставить один, на бронепалубники – два, на броненосные крейсеры – три, а на броненосцы – сразу четыре таких комплекта. Первая экспериментальная ГЭУ будет готова уже в апреле. Далее всё зависит от производственных мощностей и комплектующих, требуемых изрядно. Ну и место сборки… Мастерские электротехнического института тесны и маломощны для такой работы…
В те дни они еще не знали, что император подписал указ о строительстве специализированного предприятия «Энергомаш» в Перми, близ Кыштымских медеплавильных заводов, чтобы иметь под рукой сырьё для медной проволоки, необходимое новому предприятию в циклопических объёмах. Сам император в горячке ежедневных встреч, совещаний и в поисках оптимальной конфигурации промышленности запамятовал, а может, не придал значения тому, что акции «Общества Кыштымских заводов» у наследников купца Расторгуева уже успели прикупить некий англичанин Лесли Уркварт и американец Герберт Гувер, подписавший, кроме всего, ещё и контракт на должность горного инженера.
Летом во Владивостоке со стапелей малого, стоящего на отшибе эллинга без фанфар и огласки был спущен на воду первый головной корвет, до боли напоминающий императору своими обводами эсминец «Новик». Коренным отличием от прототипа был полностью сварной корпус. Сварку обеспечивала мастерская «Электрогефест» под личным руководством Николая Николаевича Бенардоса, предложившего, кроме прочего, ставить на корветы аккумуляторы собственного изобретения, позволяющие дать ход судну, не разводя пары. Осенью первенец уже бодро рассекал воды Амурского и Уссурийского заливов, выдавая 34 узла, правда без вооружения и боезапаса.
Теперь уже его сиятельство Николай Николаевич, вдохновлённый первым блином, оказавшимся не комом, монтировал в тщательно охраняемом эллинге принципиально новую сварочную установку и с вводом ее в эксплуатацию обещал варить по четыре корпуса для корветов в год. Турбинисты и электрики в это же время заканчивали проектирование ГЭУ для «Бородино». Двадцать узлов для этих «утюгов», сменивших архаичный таран на элегантные атлантические обводы, становились вполне достижимыми.
* * *
– Ну что, ваша светлость, передумали проситься в отставку? – с легкой ехидцей спросил новый губернатор Маньчжурии Николай Иванович Гродеков начальника штаба Приамурского военного округа Константина Николаевича Грибского, аккуратно поправляя на груди бывшего подчиненного новенький орден имени светлейшего князя Михаила Кутузова.
– Каюсь, грешен был, ваша светлость, – в тон бывшему командующему ответил генерал, коснувшись ордена Суворова, только что украсившего мундир Гродекова. – Запаниковал, понимаешь, когда почти половина моего штаба демонстративно уволилась в знак несогласия с новыми порядками в армии. До сих пор в ушах стоят эти крики про «язык макак», который они теперь, видите ли, обязаны учить, и про неминуемый развал дисциплины, если солдата не лупить как сидорову козу.
– Ушли те, кто службу воспринимал как синекуру, а солдат – как досадную помеху собственному спокойному времяпровождению, – вставил своё слово атаман Уссурийского казачьего войска генерал-лейтенант Чичагов, чей мундир тоже украшал суворовский орден. – У казаков мордобой и так не в почёте, а вот грамотой манкировали, да-с… Зато теперь у меня в каждой сотне есть хотя бы один, кто знает китайский, маньчжурский или монгольский языки. И с легкой руки Позднеева, все как оглашенные принялись учить японский.
– С таким-то приварком к жалованью – немудрено! – хохотнул Грибский. – Я, признаться, господа, и сам частными уроками китайского и японского балуюсь, хотя и времени в обрез. Обнаружил, что письмо, точнее иероглифы, у них одинаковые, китаец может прочесть написанное японцем и наоборот. Вот и решил зубрить. Получается, что оба языка сразу учу. Уже две сотни картинок одолел. Кстати, сделал прелюбопытные открытия. Если японский иероглиф, обозначающий слово «женщина», повторить трижды, получится иероглиф, обозначающий слово «шумливый» или «крикливый»… И он же обозначает слово «разврат», вот-с…
– А помните наш неожиданный вызов на Кавказ? – прикрыв глаза и погрузившись в воспоминания, произнес Чичагов. – Как государь нас озадачил Маньчжурией?
– Не озадачил, а ошарашил! – кивнул Гродеков. – То – ничего, то – всё! То бедными родственниками считались, а тут вдруг в завидные женихи обратились. Зато теперь в наше разведочное управление осведомители в очередь записываются. Потапов и Стрельбицкий разве что конкурсы не объявляют за самую свежую информацию. Шутка ли – увеличить бюджет тайных операций сразу в двадцать раз!
– Но ведь всё равно проглядели, стервецы! – скривился Грибский, вспомнив события прошедшего лета 1901 года, когда к его полевому штабу прорвался целый полк китайской армии, сочувствующий ихэтуаням, а у него под рукой кроме комендантского взвода оказалось только прибывшее отделение снайперов африканской бригады, да какая-то экспериментальная картечница, больше похожая своими расставленными лапками и любопытствующим носом на паука-переростка.
– Ваше высокопревосходительство! – козырнул тогда штабс-капитан в плащ-накидке, больше похожей на кусок газона, прилепленного на спину. – Прошу разрешения на организацию обороны по новым уставам. Имею соответствующий опыт и наставления…
– Действуйте, голубчик, – угрюмо ответил Грибский, – хотя бы на десять минут задержите. – И отправился уничтожать штабные шифры и остальную секретную документацию, в захвате которой он уже не сомневался, как, впрочем, и в гибели собственного штаба.
Африканеры открыли огонь, когда до развернувшегося для атаки китайского полка было еще больше версты. Грибский поморщился, прекрасно понимая, что на таком расстоянии ни о каком прицельном огне не может быть и речи. Выскочил из палатки, когда в беспорядочный треск самозарядных винтовок вплелось утробное рычание пулемёта, позиция которого была развернута всего в двадцати шагах от штаба. Посмотрел туда, где должен быть враг, и онемел: вместо колышущихся несколько минут назад штыков, стройных наступающих колонн по полю металась обезумевшая толпа, никак не похожая на воинское подразделение. Удивительно, что Грибский, как ни всматривался, не мог найти среди них ни одного командира.
– Мы выбили офицеров, когда до наших позиций оставалось добрых пять сотен шагов, – объяснил позже разгоряченный боем штабс-капитан, любовно поглаживая свою винтовку с оптическим прицелом Фидлера, – а когда пулеметчики начисто выкосили первые ряды, поднялась паника, ее остановить было уже некому.
Тот памятный бой, перевернувший всё представление генерала о современной тактике, когда его солдаты, не потеряв ни одного убитым и даже раненым, взяли в плен больше тысячи солдат противника, стал хрестоматийным для всей кампании по разгрому боксёрской «Армии честности и справедливости». Отстреливая еще до начала боя командиров и вожаков, снайперы превращали подразделения противника в неуправляемую людскую массу. Её в таком состоянии не требовалось расстреливать, поэтому потери всех ихэтуанских войск не превысили и восьми сотен, но зато число пленных перевалило за пятьдесят тысяч. Все они, а также сочувствующие, были под конвоем отправлены на строительство Круглобайкальской железной дороги и второй колеи Транссиба, дотянувшейся за 1901 год уже до Верхнеудинска и далее уходящей вверх по реке Амур на Благовещенск и Хабаровск. За разгром двухсоттысячной армии ихэтуаней все три генерала-дальневосточника были награждены новыми наградами: Чичагов и Гродеков – орденом имени Суворова, а Грибский, как штабник, – орденом Кутузова, с прилагаемым княжеским титулом. Других вариантов стать князем, как только лично заслужить в бою высшие полководческие награды, в империи отныне не существовало.
– Нет, Николай Иванович, в отставку больше не собираюсь, – ответил наконец Грибский на шуточный вопрос Гродекова, – вы же видите, всё только начинается…
Гродеков и Чичагов одновременно кивнули и помрачнели. Активность России в Маньчжурии и Монголии без пристального внимания не осталась. Юань Шикая императором Китая не признала ни одна страна, кроме России. Его бэйянская армия была негласно приравнена к ихэтуаням и подвергалась постоянным нападениям и провокациям. Пекинская дивизия сидела в осаде, а баодинская под угрозой окружения и уничтожения английскими и японскими регулярными войсками скатывалась всё ближе и ближе к Маньчжурии, стремясь опереться на передовые позиции русской армии. Прикрываясь необходимостью сохранить порядок и защитить концессии в отсутствие центрального правительства, Англия и Япония стягивали в Китай войска, постоянным потоком разгружавшиеся в Вейхайвее, мелкими ручейками и речушками растекавшиеся по провинциям Чжили, Шэньси и Гэньсу, широкой дугой охватывавшие Маньчжурию с юга.
– Только за прошлый месяц больше сотни лазутчиков поймали! – вздохнул Чичагов. – Слава богу, за каждого взятого живым достойную плату объявили, вот китайцы и стараются. Но думаю, есть и те, кто просочился.
– Японцы уже перебросили в Китай практически всю армию, воевавшую в этих местах шесть лет назад, англичане мобилизуют колонии, люди Потапова видели даже канадцев, – дополнил Грибский. – Кроме того, в Вейхайвей пришли все британские «Канопусы», и сейчас к каждому из них приписаны сразу два экипажа – английский и японский…
Гродеков ничего не ответил. Всё и так было ясно. Дыхание войны на Дальнем Востоке чувствовалось настолько явственно, что он вынужден был даже свернуть работы по строительству горного и металлургического заводов на разведанных залежах железа и угля в Аньшане, эвакуировать строителей и персонал к Нерчинску, на Березовское месторождение. Странно, что вместе с пониманием неизбежности войны к генералу не приходило гнетущее ощущение тревоги, даже несмотря на панические предсказания доброжелателей: «Оставят нас тут, в Маньчжурии, один на один со всем миром, как полвека назад в Крыму!»
Что-то незримо поменялось в империи, как будто какая-то глыба сдвинулась и освободила путь родниковой воде, стремительным потоком хлынувшей на иссохшую землю. Страшная беда, недород и голод, посещающие Россию с мрачной регулярностью, в этом году впервые были повержены с небывалой ранее решимостью. Всю зиму – весну – лето 1901 года по всей стране вдоль железных дорог строили амбары и элеваторы, которые сразу же брались под охрану войсками. Всем крупным хозяйствам уже по весне были выплачены задатки за ещё не выращенный урожай, определен порядок его транспортировки и хранения, избраны хлебные комитеты и назначены старосты. И когда в середине лета стало ясно, что полсотни губерний и десятую часть населения накроет голод, правительство отреагировало молниеносно. Вся торговля хлебом была объявлена государственной монополией, центральные и провинциальные газеты вышли с призывами «Все на борьбу с голодом!», земства сформировали отряды волонтёров, готовых грузить, сопровождать и раздавать. Власти мобилизовали весь доступный гужевой транспорт настолько решительно, что даже в столице не осталось извозчиков. К пострадавшим селам и хуторам потянулись под крепкой охраной продуктовые обозы[8].
В это же время работники специальных подразделений с новой необычной аббревиатурой ЧК, наводнившие голодающие провинции, выявляли и арестовывали желающих спекульнуть на народной беде. Особо досталось в этот раз сельским ростовщикам – кулакам, считавшим любой неурожай большой коммерческой удачей. Чрезвычайная комиссия и приданные ей военно-полевые суды пресекали ростовщическую негоцию с жестокостью древних гуннов. Счастьем неземным среди подсудимых считалось поехать копать Беломорско-Балтийский канал или строить амурскую ветку Транссиба. Обычным же приговором являлся совсем другой, быстро получивший название «столыпинский галстук». Досталось не только кулакам. Помещики, вознамерившиеся, как в старые добрые времена, вывезти зерно за границу, лишились не только товара, но и самих поместий, на территории которых сразу же стали организовываться казенные агропромышленные хозяйства под руководством специально уполномоченных товарищей министра земледелия – Мичурина и Тимирязева.
Хлеб раздавался не бесплатно. «Нельзя оскорблять крестьян подачками», – публично заявил император. Спасённые от голода обязаны были строить. Под руководством агрономов из той же тимирязевской комиссии селяне высаживали защитные лесополосы, производили облесение балок и оврагов, на пути стоков воды выкапывали пруды, прокладывали оросительные и мелиорационные канавы, осушали болота. «План преобразования природы», опубликованный во всех газетах и журналах, уже стал библией для студентов и выпускников агрономических факультетов. Каждому молодому и честолюбивому хотелось увидеть своё имя в списках героев, покончивших с голодом. Впрочем, до Маньчжурии агроэнтузиасты пока не добрались, и новый губернатор решал проблемы кадрового голода другими способами. Ещё в марте Гродеков ознакомился и отправил в войска высочайший указ о наделении землей в Маньчжурии всех, отслуживших в этих краях и на Дальнем Востоке не менее трёх лет. Рядовым и матросам – тридцать десятин, унтерам и кондукторам – пятьдесят и офицерам – аж сто десятин. После этого указа военное ведомство захлестнул вал рапортов и прошений, а дальневосточные округа не только заполнили все свободные вакансии, но и впервые получили возможность выбирать наиболее образованных и умелых.
Воспоминания губернатора Маньчжурии прервали очередные фанфары – награждались отличившиеся в борьбе с голодом. Сельские старосты, земские доктора и учителя, простые крестьяне и мещане получали из рук императора ордена Кузьмы Минина, становясь новой элитой, или, как их уже за глаза называли, «миньонами».
Да, в России решительным образом что-то поменялось. Так, как было в Крымскую войну, уже не будет…
– Ваше высокопревосходительство! – тронул за плечо генерала адъютант. – Вас, а также генералов Чичагова и Грибского – срочно в Генеральный штаб. Предписание начальника генштаба Юденича, утвержденное его величеством!
– Жаль, – вздохнул Гродеков, встретившись взглядом с Грибским, – мне бы очень хотелось дождаться награждения государственных чиновников и дипломатов новым главой МИДа.
– Да, – согласился Чичагов, – посмотреть на её величество Марию Федоровну в роли министра иностранных дел мне тоже было бы крайне любопытно. Её назначение произвело небывалый фурор.
– Что-то мне подсказывает, что еще насмотримся, – вздохнул Гродеков. – Ну что, господа генералы! По коням!
31 декабря 1901 года. Замок Segewold
Этот остзейский край заметно выделяется во всей Прибалтике необычностью ландшафта. Ровная как стол земля древних ливов вдруг морщится холмами и распадками, как шкура шарпея, шерстится мохнатыми ельниками, рогатится дубравами, чудом оставшимися в этих местах после первой рукотворной экологической катастрофы, когда ганзейские купцы начисто выпилили местный лес, пригодный для бондарей и корабелов.
Дороги вьются извилисто, волнисто, закручиваются крохотными, на три разворота, серпантинами вверх, вниз, пробегая мимо потускневших седых домиков, клетей, сеновалов, как будто одинаково построенных, ветхих от старости и беспорядочно разбросанных по округе. Порядок… Скажу даже больше. Не порядок, а именно немецкий орднунг чувствуется только в таких старинных орденских замках, занявших самые высокие холмы на расстоянии дневного перехода.
Один из них, Segewold, вскарабкался на стометровый левый склон долины реки Гауи, или, как говорят остзейские немцы, Treyder-Aa, отгородившись от внешнего мира двумя форбургами, рвом с водой, защитными стенами и сторожевыми башнями. В начале тринадцатого века он был опорным узлом обороны и символом власти Тевтонского ордена. А в конце девятнадцатого, пройдя через руки огромного количества епископов, баронов и герцогов, достался по наследству человеку с абсолютно русской фамилией – князю Кропоткину, родственнику знаменитого анархиста. В самый канун Нового 1902 года здесь собрались те, с кем хозяина замка связывала не только личная дружба и государственные дела, но и кровь, которая, чем древнее, тем более священна и почитаема.
– Дамы и господа, – открыл своим скрипучим голосом вечер друзей и хоть дальних, но всё же родственников тельшевский предводитель дворянства, статский советник на русской службе, князь Огинский с замысловатым многосложным именем – Михаил Николай Северин Марк, – во-первых, хочу поблагодарить нашего гостеприимного хозяина Николая Дмитриевича. Это живописное место – жемчужина остзейского края – как нельзя лучше подходит для наших встреч, когда надо обсудить не только животрепещущие, но и, что греха таить, совсем не предназначенные для чужих ушей вопросы.
Огинский замолчал и обвёл глазами присутствующих. Встреча родственников в этот раз впечатляла как количеством, так и статусностью прибывших. Некоторые вообще впервые почтили своим присутствием собрание фамилии за последние четверть века, как, например, только что вышедший в отставку штабс-ротмистр Александр Владимирович Барятинский, известный бонвиван, прославившийся своим романом с красавицей Линой Кавальери… Ну понятно, проверяющие Мамонтова оставили от его миллионного состояния жалкие огрызки. Ему под стать Сергей Горчаков, чьей работой в Архангельске на посту вице-губернатора так заинтересовались государственные ревизоры.
Эти уселись рядом со старыми соратниками, где ближе всех, конечно, князь Николай Николаевич Друцкой-Соколинский, статский советник, инженер МПС и просто послушный немногословный малый. Но без него невозможна была операция в Борках и внедрение Витте в окружение царя. Повязан кровью, предан. Готов на всё. Так же, как и крымский врач Владимир Михайлович княжеского рода Аргутинских-Долгоруковых, центральная фигура неудавшегося покушения в Ливадийском дворце.
Старые знакомые – Луговкины и Щетинины – сегодня сидят в окружении братьев Львовых. Младший из них – Георгий, пренеприятный тип, хоть и родился в Дрездене. Надо будет присмотреться к нему повнимательнее…
Как всегда манкируют общим делом отступники – Волконские, Гагарины и Хилковы, зато щедро представлены Оболенские – от брата по масонской ложе Владимира Андреевича, капитана лейб-гвардии Владимира Николаевича до частного издателя-мецената Владимира Владимировича.
Но это всё частности. А общая атмосфера собрания Огинского полностью устраивала! За прошедший год улетучились всеобщая расслабленность и легкомысленность, бесившие его всё предыдущее время. Порой ему казалось, что он один остался хранителем амбиций и фанатиком реставрации своей некогда самодержавной фамилии. Все остальные так или иначе пристроились в теплых местах и кто молчаливо-равнодушно, а кто и открыто выражали нежелание бороться за престол предков.
Огинский так не мог. В 1868 году ему, амбициозному восемнадцатилетнему юноше, и его семье было нанесено оскорбление, которое не смывается и не забывается. В этот год третьего апреля мнением Государственного Совета они признаны в княжеском достоинстве с внесением в V часть Родословной книги: гофмейстер Высочайшего Двора, тайный советник Клеофас-Ирений Огинский из Козельска с сыновьями: Богданом Михаилом Францем и Михаилом Николаем Северином Марком.
«Бывшие холопы даровали нам право носить наш родовой титул», – горько усмехнулся отец, небрежно бросив на рабочий стол гербовую бумагу. А позже услышал глумливый шепоток на светском рауте: «Ну вот, выклянчили Огинские себе ”светлости”». И это было последней каплей, разделивший его мир на до и после. Что-то сломалось в душе, а на месте излома выросло и буйно расцвело древо мщения, в тени которого он и жил все эти годы.
Каждый свой день после этого злосчастного вечера Михаил Николай Северин Марк подвергал беспощадной ревизии: «Что сегодня я сделал, чтобы узурпаторам воздалось по заслугам?» Приговорив неблагодарных холопов своего рода – Романовых, он исступленно, настойчиво искал способы привести приговор в исполнение. И судьба любезно вознаграждала его за настойчивость.
Прослыв мизантропом даже среди симпатизирующих ему членов Дворянского собрания, Михаил Николай Северин Марк совсем не чурался светского общества, под сенью которого тихо дряхлел в дремотной неге некогда грозный род Рюриковичей. Великосветские сплетни, интрижки, делишки по устройству своей тушки и никаких державных амбиций. Печальное зрелище… Тем не менее в этом человеческом утиле Огинский умело выуживал обиженных, оскорбленных и кропотливо строил из них собственную гвардию, скрепленную такой кровью, которую невозможно было уже отмыть. Настоящим кладезем среди князей были уроженцы Германии, с молоком матери впитавшие немецкое презрение к русскому разгильдяйству и невежеству.
Именно там, на земле Нибелунгов, он вступил в ложу «Великий Восток» и стал Фальком – соколом, украшавшим родовой герб Рюрика, познакомился с ещё одним «немцем», выходцем из Франкфурта Джейкобом Шиффом, перебравшимся в Новый Свет и управляющим нынче банком жены Kuhn, Loeb & Co. Это была феерическая встреча. Оба одинаково презрительно смотрели друг на друга, но ненависть к правящей династии Романовых творила чудеса, объединяла и превращала в союзников тех, кто без неё гарантированно были врагами. Немецкие и французские масоны открыли для Огинского плотно закрытые двери влиятельных персон цивилизованного мира и обеспечили связями, позволяющими ставить по-крупному, переведя в лигу игроков, осуществляющих ходы чужими судьбами, постоянно находясь в тени, заставляя убивать и умирать других. Благодаря братьям по ложе Огинский жадно изучал опыт тайных операций византийцев и венецианцев, иезуитов и масонов. И когда в 1880 году динамит Халтурина разнес целый этаж Зимнего, а в 1881 году бомба Гриневецкого поставила точку в земной жизни Александра II, полиция так и не смогла найти источники столь щедрого финансирования народовольцев и следы организаторов идеальных условий для террора.
Своим прекраснодушием в деле достижения всеобщего равенства и братства посредством лишения жизни абсолютно незнакомых, «неправильных» людей и игнорирования «попутных жертв» среди «правильных» бомбисты-мазохисты Фальку были искренне противны. Их цель – убить всех плохих, чтобы остались одни хорошие – казалась какой-то дичью. Для Фалька-Огинского террор всегда был средством смены правящей фамилии и только. К тому же фанатики – плохие подпольщики и отвратительные хранители тайн. Поэтому операцию под Борками он провел практически в одиночку, чуть не угробив всю императорскую семью и факультативно пропихнув в высшие эшелоны власти амбициозного, хотя и по-плебейски сварливого Витте. Его так отчаянно лоббировали французские банкиры, за него так ходатайствовали братья по ложе! Но он в этой игре в результате оказался явной ошибкой. Неуправляемый, капризный, своевольный и потому опасный, как и бомба на яхте «Штандарт», заложенная еще на стапелях в Германии. Задумано было красиво. Корабль – идеальное место внезапной скоропостижной кончины монарха и приближенных. Техника не подвела. Вмешался его величество случай, регулярно меняющий идеальные планы, в виде какого-то шустрого мичмана, оказавшегося не в то время не в том месте. Ну а бомбометание в Баку – это уже нервный срыв. Гештальт – страшное слово и жуткое ощущение, вынуждающее терять ясность мышления и совершать глупости, если его не закрыть. Такое более не повторится. Теперь всё поменялось.
Собрание потомков Рюриковичей в замке Segewold накануне 1902 года – это уже не вчерашний клуб гедонистов. Все сосредоточены и злы. Прямо или косвенно пострадал каждый. С кого-то сняли погоны за участие в мятеже. Кто-то сам ушел из гвардии после лишения паркетных привилегий, но не обязанностей. Кому-то из подвизающихся на гражданской службе пришлось расстаться с «рыбным» столичным местом, и хорошо, если без материальных потерь. Многие сдавали дела раздетыми до нитки, крестясь, что не отправлены копать Беломорканал.
Последние заявления узурпатора про лишение права передавать титул по наследству – плевок во всю аристократию сразу. А это сотни недовольных. Его репрессии против хлеботорговцев – удар по благосостоянию тысяч! Сейчас Романова воспринимают как мишень сразу столько людей, что проблем с вербовкой сторонников низложения действующей династии уже не существует. Желающие стоят в очередь.
– Пользуясь случаем, позвольте мне занять ваше время кратким пересказом событий за этот крайне беспокойный первый год двадцатого столетия, – прервав свои размышления, вслух произнес Огинский и развернул лист, исписанный завидным каллиграфическим почерком. – В этом году борьба с прогнившей безродной династией Романовых перешагнула границы империи. На верфях Дании, Франции и САСШ на разных стадиях строительства и по разным причинам заморожено или отложено строительство военных кораблей узурпатора. В Германии вместо трех броненосцев и четырех крейсеров Николаю II придется довольствоваться скромным 1+2. В соседней Франции благодаря помощи ложи «Великий Восток» постройку удалось заблокировать минимум на год. Сейчас идут трудные переговоры с французским МИД о возможности реквизиции броненосца для нужд ВМФ Франции с последующим возвратом после смены царствующей династии. Корабли, строящиеся на верфях Крампа, уже проходили ходовые испытания, поэтому там пришлось действовать решительнее… Во время стоянки в Бостоне нос броненосца повредил заминированный рыбацкий баркас, причем все нападавшие погибли, а машинное отделение крейсера придется переделывать из-за бракованных котлов, а это минимум восемь месяцев задержки. Ответственность за акции взяла на себя организация социал-революционеров, хотя никто из боевиков не был арестован…
Огинский еще раз остановился, поднял глаза и посмотрел на родственников, сидящих за столом с непроницаемыми лицами игроков в покер. В зале было тихо, как и полагается зимним камерным вечером. Но сейчас эта тишина звучала как-то зловеще, и Михаил Николай Северин Марк почувствовал непонятную тревогу, обволакивающую его коконом, мешающую дышать и застилающую розовой пеленой глаза. Однако менять что-либо было поздно, и князь продолжил, глядя перед собой и стараясь произносить слова, как солдат чеканит строевым шагом по брусчатке.
– Несмотря на увольнение достойных офицеров и чиновников адмиралтейства и военного ведомства многие сочувствующие нам люди на своих местах остались. Адмирал Рожественский и генерал Куропаткин, несмотря на опалу, сохранили некоторое влияние на флоте и в армии и готовы выполнить свой долг перед Отечеством. И не только они…
– У меня вопрос, – без полагающегося в таких случаях вежливого обращения и извинений за прерванный доклад резко бросил реплику Георгий Львов. – Нам хорошо известна ваша фанатичная приверженность реставрации династии Рюриковичей, мы уважаем вашу стойкость и последовательность в этом вопросе. Мало того, мы не мешали и даже содействовали вам по мере возможности, восхищаясь вашей неустанной подвижнической деятельностью, прежде всего потому, что согласны: династия Романовых давно превратилась в обузу для Отечества. Однако…
Князь Львов медленно поднялся с резного стула с огромной, почти двухметровой спинкой и аккуратно сдвинул его в сторону. Сразу стала видна разница в росте, и Огинскому пришлось смотреть на собеседника снизу вверх.
– Как вы считаете, князь, что скажут простые русские люди, когда узнают, что претенденты на русский престол в раже династической борьбы начали мутузить не друг друга, а само государство Российское? Взрывать своего конкурента за престол и взрывать русский боевой корабль – не одно и то же… Это хорошо, что вы списали всё на эсеров. Но мы-то с вами знаем правду и знаем, что шила в мешке не утаишь, во всяком случае долго…
– Вас интересует мнение плебеев? – презрительно скривил губы Огинский, с досадой почувствовав, как голос предательски срывается на фальцет.
– Меня интересует политика, и я обязан учитывать все последствия, даже самые отдаленные. – Львов не отрываясь смотрел в глаза Огинскому, и было в этом взгляде то, что Михаил Николай Северин Марк никогда бы не потерпел – жалость. – Вы боретесь за корону, не замечая, что исчерпала себя не династия Романовых, а самодержавие в целом. Ваша стратегия проигрышная, и потому вы начинаете допускать тактические ошибки. Вы начали рассказ с диверсий на верфях, хотя правильнее было бы сообщить о полностью провальных покушениях 1900 года в Ливадии, Тифлисе и Баку, о бездарно проигранном мятеже, про потери среди преподавателей школы тайных революционных операций, чью работу мы до сих пор не можем восстановить, об этом нелепом покушении на Боголепова, в результате которого мы едва не лишились нашего единственного агента в лейб-жандармерии. Я уже не говорю о ваших планах взять в заложники семью царя прямо в Зимнем дворце, о которых каким-то образом стало известно полиции. Вы так и не выяснили, где течёт? Не многовато ли провалов на единицу времени, сударь?
Огинский стоял перед Львовым, чуть наклонив голову, и на его лбу дрожала крупная капля пота… Перед глазами плыли красные волны, как будто в летний солнечный день задернули плотные малиновые шторы, и солнечный свет пробивался сквозь них неравномерными полосами.
– Не вам меня учить, – чётко разделяя слова, с силой протолкнул их сквозь плотно сжатые зубы Михаил Николай Северин Марк, – я тянул это ярмо, когда вас еще нянечки выгуливали!
– А я и не учу, – пожал плечами Львов, – я лишь довожу до вашего сведения оценку вашей работы и предполагаю, что нам с вами больше не по пути.
– Ну и проваливайте, – Огинский уже терял контроль над собой, и ему было всё равно, как отнесутся к его словам окружающие, – идите на все четыре стороны. А у меня и так дел по горло. Мои друзья в Америке, откуда я только что вернулся… Германия… Они помогут мне довести дело до конца…
– Нет, милостивый государь, ошибаетесь, – сочувственно вздохнул Львов, демонстративно пропуская мимо ушей хамские выпады собеседника, – идти на этот раз придётся вам. Я тоже побывал и в Новом, и в Старом Свете, беседовал с теми же людьми на те же темы… – Львов повысил голос, и речь его тоже приобрела металлические оттенки. – И ваши братья по ложе «Великий Восток», и мастера из «Бнай-брит» уполномочили меня уведомить вас, что их не устраивает бестолковая затратная возня претендентов вокруг престола. А зная вас, никто не будет предлагать вам стать республиканцем.
– И что теперь? – задал глупый вопрос Огинский, слыша свой голос так, будто он звучит в пустом зале.
– Теперь Фальком будет кто-то другой!..
* * *
Старинный орденский замок на вершине холма, окруженный со всех сторон вековыми дубравами, укутанными в зимние белые шубы, был величественен и днем с лёгкой иронией поглядывал с высоты птичьего полёта на суетящихся у подножия людей, больше похожих на букашек.
«Как красиво! – подумал один такой ”таракашка”, запрокинув голову вверх и скользя взглядом по шпилю, улетающему в облака. – И почему я никогда этого не замечал?» Наверно, потому, что мы отвыкаем смотреть в небеса. Только в детстве и, быть может, в юности поднимаем глаза к звёздам и силимся взлететь туда, где нет ни пространства, ни времени, а есть один только безбрежный простор и всепоглощающий покой. А потом нас давит, размазывает по земле притяжение планеты, разбрасывает злодейски на дороге коряги и каменюки, и мы привыкаем смотреть лишь под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть, постепенно забывая, как выглядит небо. Нам кажется, что вот совсем чуть-чуть – и мы добежим, доковыляем, доползем до поворота, за которым обязательно будет долгожданный привал, отдых и возможность перевести дух. А там оказывается новый подъём, и остановиться нельзя, потому что сзади – напирают, а впереди – не ждут. Мы опять откладываем возможность присесть, запрокинуть голову и застыть, сливаясь с бескрайней синевой, вдыхая её, пропуская через лёгкие и становясь от этого моложе и свободнее…
Со стороны замка Segewold бредущий по липовой аллее человек был еле виден и выглядел, как неровный росчерк угля, проведенный нервной рукой художника на белоснежном холсте зимнего остзейского пейзажа. Нахохлившиеся галки на деревьях смотрелись гораздо внушительнее и солиднее. Внезапно сухо треснул выстрел, а может быть, сук, упавший с дерева под тяжестью снега, и с картины пропал даже этот незаметный штрих. Только птичий хоровод, поднявшийся над нагими деревьями, нарушал какое-то время покой седых замковых стен своим заполошным криком. Скоро прекратился и он. Всё вернулось на круги своя: старинный орденский замок, белая от инея шуба леса, стаи галок на обсиженных ветках… Исчез только неровный темный росчерк, как будто его никогда и не было…
31 декабря 1901 года. Таммерфорс
– Володя, ну идём же! Все уже за столом, только тебя ждём! – проворковав дежурное приглашение, Наденька упорхнула в гостиную, откуда раздавались раскаты смеха и слышался звон посуды. Социал-демократы активно отмечали уходящий 1901 год.
Ленин недовольно поморщился. Почему надо отрываться от рукописи каждый раз, когда приходит вдохновение, появляется ясность мысли, идёт слово и строки словно сами ложатся ровными рядами на чистый лист бумаги?
Нет уж, пусть подождут. Сегодня он обязательно должен закончить свой фундаментальный труд «Что делать?». Название позаимствовал у глубоко уважаемого Чернышевского. Задумал и набросал основные тезисы ещё в прошлом, 1900-м. А 1901-й оказался настолько богат на события, что тянуть с ответом на главный русский вопрос далее не представлялось возможным.
Среди революционеров ещё со времён знаменитого «хождения в народ» распространилось и оставалось модным близорукое поветрие заигрывания с рабочими и крестьянами. Интеллигентское сюсюканье «а давайте спросим у трудящихся!», «а давайте устроим референдум!» ничего кроме вреда никогда не приносило… На какие вопросы справедливого мироустройства мог ответить трудовой народ, если он в девяти из десяти случаев не мог даже понять, о чём речь? Поэтому Ильич сразу дал определение такой практике – «примитивная демократия» примитивного кружка, в котором все делают всё и забавляются игрой в референдумы»[9].
В частных беседах и на публичных диспутах Ленин раз за разом втолковывал соратникам, что революция – слишком серьезное дело, чтобы доверять её инертным, косным, необразованным народным массам. Что «социал-демократического сознания у рабочих не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское…» Может быть, в будущем… Когда отечественные трудящиеся дотянутся до великолепной и неподражаемой социал-демократии Германии… Тогда возможно…[10]А пока в этом болоте любое революционное движение затухает, как маятник в масле. То, что русский пролетариат – никакой не гегемон, Ленину было ясно всегда. Но сейчас об этом требовалось сказать громко и честно. Ждать от серых, беспробудных и тотально равнодушных широких народных масс каких-то революционных подвижек можно до морковкина заговенья. Революционные преобразования – это дело небольшой, хорошо сплоченной организации профессиональных революционеров! Они сражаются за весь народ, поэтому имеют право силой тащить необразованные и неотесанные широкие народные массы в светлое будущее, как тащит крестьянин упирающегося теленка к крынке с молоком. Они борются за демократию, поэтому сами могут позволить себе быть выше всех этих демократических условностей!
«Единственным серьезным организационным принципом для деятелей нашего движения должна быть: строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров. Раз есть налицо эти качества, – обеспечено и нечто большее, чем ”демократизм”, именно: полное товарищеское доверие между революционерами… им некогда думать об игрушечных формах демократизма, но свою ответственность чувствуют они очень живо, зная притом по опыту, что для избавления от негодного члена организация настоящих революционеров не остановится ни пред какими средствами».
Дописав последние строки, Ленин отложил перо и задумался, вспомнив своё возвращение в Россию и первую акцию на Обуховском сталелитейном заводе. Там он оказался по рекомендации решительного британского революционера, секретаря Комитета рабочего представительства Англии Джеймса Рамсея Макдональда. Это уникальное предприятие, наверное, единственное, производившее широкий ассортимент жизненно важной военной продукции – дальнобойные орудия, бронещиты, мины, снаряды, оптику. Все происшествия на таких заводах гарантированно попадали на первые полосы газет. А что еще надо молодой малоизвестной партии? Тем более что Джеймс был уверен: громкая революционная акция гарантированно окажется в центре внимания всей прогрессивной мировой общественности, и обещал использовать для этого все свои связи в Старом и в Новом Свете.
Организовать правильную, идеологически выдержанную забастовку оказалось совсем не сложно. В апреле 1901 года предприятие получило срочный государственный заказ, что повлекло за собой ужесточение рабочего графика, введение сверхурочных работ и, как следствие, негативную реакцию со стороны многих рабочих. Представители целого ряда подпольных кружков – социал-демократического, народнического и прочих, – организованных на заводе, объявили 1 мая 1901 года политическую стачку и обратились к администрации с рядом конкретных требований. Кроме отмены увольнений для зачинщиков бастующие требовали включить 1 мая в число праздничных дней, установить восьмичасовой рабочий день и отменить сверхурочные и ночные работы, учредить на заводе совет выборных уполномоченных от рабочих, увеличить расценки, уволить некоторых административных лиц и так далее…
Набор требований в данном случае был не очень важен. Никто не сомневался, что руководство не собирается их выполнять. Все ждали полицию, казаков, войска, поэтому забаррикадировали вход, приготовили камни, разобрали штакетники. Провели митинг, на который собрались рабочие не только Обуховского, но и расположенных рядом Александровского и Семянниковского заводов. На фоне косноязычных и малограмотных местных активистов речь Ленина о текущем политическом моменте слушалась, как ария солиста Большого театра после пьяных кабацких песен. Что-то похожее попытался выдать представитель эсеров, но его заунывные песнопения о тяжелой крестьянской судьбе рабочими были восприняты индифферентно. А когда от имени РСДРП и редакции «Искры» огоньку добавил обаятельный и язвительный Потресов[11], все остальные кружки и движения окончательно потускнели. Присутствующие члены РСДРП были немедленно кооптированы в стачечный комитет. Успех партии был полным. Фотокорреспонденты прилежно фиксировали, журналисты поспешно записывали.
Несколько раз дозорные заходились сигнальным свистом, и тогда площадка перед заводоуправлением пустела, рабочие разбегались по заранее распределенным постам. Но власти медлили, войска не появлялись. Вдоволь накурившись и набалагурившись у баррикад, пролетариат возвращался к заводоуправлению, и митинг продолжался. Затем снова следовал тревожный свист, и всё повторялось. Многочисленные фоторепортеры, расположившиеся вблизи проходной, оседлавшие близлежащие крыши и заборы, потирали руки и готовили фотографическую технику. Все ждали эпической битвы бастующих с правительством, однако на этот раз всё пошло не по плану. На завод и на бастующих никто не обращал никакого внимания. Уже поздно вечером стачечный комитет, посовещавшись, решил, что столь решительное согласованное выступление пролетариата так испугало царское правительство, что оно впало в ступор и боится отдать приказ на силовое подавление стачки, но завтра всё может поменяться. А посему – бдительность не снижать, народ не распускать, издать забастовочный бюллетень и предложить присоединиться к стачке всем предприятиям столицы.
Следующий день закончился так же, как и первый. Опять митинги, опять шумные овации, услада ушей ораторов, резолюции, одна задорнее другой, и… тишина. Для приведения к покорности взбунтовавшегося столичного пролетариата самодержец не изволил выделить не только солдат с артиллерией или казаков с нагайками, но даже одинокого занюханного городового.
А на третий день новости начали сыпаться как из рога изобилия. Сначала прибыл срочно вызванный из отпуска директор завода генерал Власьев, мрачно объявивший, что все требования стачкома будут выполнены и даже перевыполнены. Выходным теперь будет не только 1 мая, но и последующие дни календаря, потому что их госзаказ перераспределен между Ижевским, Пермским, Брянским и Крупповским заводами. Инженеры с технической документацией командируются на указанные предприятия для организации технического взаимодействия, а затем – на новый строящийся завод-дублёр на Урале, обещающий обойти по производительности и мощности все сталелитейные заводы России.
Совету выборных уполномоченных от рабочих Власьев вручил к началу работы уведомление с поздравлением и предложением самостоятельно озаботиться организацией производства и сбыта с правом распределять полученную выручку как заблагорассудится – на повышение расценок, увеличение зарплат, объявление еще каких-либо дней выходными или другие нужды. Государство в дела рабочих вмешиваться не будет. Но и финансировать убытки не намерено, поэтому, если выручка не случится, то и Фонд оплаты труда не состоится тоже. Ниже этого уведомления большими красными буквами было выведено «От каждого – по способности, каждому – по труду!» и стояла размашистая подпись самого императора, а также высочайший постскриптум о готовности к дальнейшему диалогу. Вечером в непрерывно заседающий стачком пришла делегация рабочих с одним-единственным вопросом: «Что делать?», и Ленин понял, что назрела историческая необходимость переговоров на высшем уровне…
* * *
Время и место для аудиенции самодержец выделил самое неожиданное – новое казённое учреждение с непривычным названием «Госплан», располагавшееся в Мраморном дворце, за полчаса до полуночи. Пригласительные доставил курьер, передвигающийся на пока еще диковинном и непривычном транспорте – велосипеде.
– Звучит крайне инфернально, – усмехнулся Потресов.
– Не инфернальнее всего самодержавия в целом, – поморщился Ленин. – Вероятно, его величество изволят принять нас после вечернего посещения театра.
В эту короткую майскую ночь дворец на Миллионной улице меньше всего напоминал консервативную великокняжескую обитель. Все окна были залиты ярким светом, а три кордона охраны трудились в поте лица, осматривая багаж военных и штатских, непрерывным потоком втекающих в распахнутые настежь двери и бесследно растворяющихся в коридорах и кабинетах.
– У вас что, ночная смена? – решил пошутить Потресов со строгим контролером, проверяющим документы.
– Сегодня, наверное, опять. Почитай, всё правительство собралось, – не принял шутки охранник. – Нам-то что, мы два часа отстояли – и в караулку отдыхать, а эти сердешные, – охранник кивнул головой в сторону курьеров, – и днюют, и ночуют прямо тут, в гардеробе или в пустых комнатах, особо когда такое широкое собрание, как нонче…
Совещание как раз оказалось тем «театральным представлением», на котором присутствовал император. Оно закончилось без четверти пополуночи, и фойе заполнилось чиновниками в самых разных вицмундирах: черных с желтым кантом и серебряным просветом погонов – департамента почты и телеграфов, чёрных с карминным – департамента здравоохранения, тёмно-зелёных с бордовым – канцелярии Министерства финансов, темно-синих со светло-зеленым – департамента путей и сооружений МПС. Из боковых дверей Белого зала, пыхтя и матерясь вполголоса, молодчики из корпуса внутренней стражи выносили и ставили вдоль стены массивные деревянные подставки с картами, графиками и планами, очевидно, служившими наглядными пособиями для докладчиков. Ближайшей к посетителям оказалась общая карта электрификации России, сплошь усеянная синими и черными значками с обозначением гидро- и теплоэлектростанций, перечеркнутая линиями электропередачи, веером расходящимися от перекрещенных стрелочек. Ближайшие к Петербургу – на Волхове и Свири, каскады – на Вуоксе, на Днепре, целая россыпь – на Кольском полуострове, Урале и в Сибири.
– Интересуетесь, Владимир Ильич? – оторвал Ленина от изучения карты низкий, хрипловатый, прокуренный голос. Император абсолютно не походил на венценосную особу, скорее – на учителя гимназии. Пальцы испачканы чернилами, рукав темно-зеленого мундира и кончик носа – мелом, красные от недосыпа прищуренные глаза – так щурятся попавшие на свет из темного помещения.
– Да, прелюбопытно… Скажу честно, не ожидал, – скользнув взглядом по фигуре монарха, Ленин повернулся к нему спиной и опять упёрся глазами в карту, демонстрируя своим видом категорический отказ от соблюдения дворцового политеса со всеми поклонами, титулованиями и прочим самодержавным «непотребством».
Император встал рядом, чиркнул спичкой, и по фойе поплыл аромат душистого трубочного табака.
– Хотел полюбопытствовать, Владимир Ильич, вы уже закончили книгу «Что делать?» – вполголоса осведомился монарх, не отрывая взгляда от наглядного пособия.
Ленин резко повернулся, наклонил голову набок и уже внимательно, со своим знаменитым прищуром, посмотрел на испещренное мелкими шрамами, как оспинами, лицо императора.
– А вы и это знаете?.. Впрочем… после поздравления с первым номером «Искры» уже не удивлюсь. Но, простите, почему вас так интересует именно эта моя работа?
– Потому что меня волнует тот же вопрос, – губы монарха тронула улыбка, а глаза продолжали шарить по карте.
– Но там я рассматриваю задачи революционного переустройства мира…
– И ведущей роли организации профессиональных революционеров в этом процессе, – закончил за Ленина император.
– Точно так! Именно революционеров, – отчеканил последнее слово Ленин, – поэтому удивителен такой интерес именно вашей персоны.
Монарх наконец оторвал глаза от карты и тоже повернулся к Ленину. Что-то было в этом взгляде такое, что смутило и одновременно насторожило Ильича. Читалась в нём крайне сложная гамма чувств, но вот чего точно не было, так это вельможного высокомерия, а ведь именно с ним обычно носили своё «Я» представители аристократии.
– А что же тут удивительного, – пожал плечами император, и в глубине его зрачков заплясали чёртики, – если профессиональными революционерами могут называться буржуазный интеллигент Маркс, капиталист Энгельс, дворянско-генеральские отпрыски Ульянов и Потресов, князь Кропоткин, то почему же таковым не может быть самодержавный государь? Что за дискриминация?..
– Да потому что, дражайший… – начал вскипать Ленин.
– Тиран, – перебил его император, – зовите меня просто Тиран. Во-первых, это правда, во-вторых, я уже привык. И вы привыкайте, потому что именно так вас будут называть в случае победы пролетарской революции, причём не только враги, но и ваши соратники.
Произнося последние слова, император бросил косой взгляд на Потресова. Тот буквально захлебнулся от возмущения, но промолчал, остановленный ленинским жестом.
– А вы не сомневаетесь в победе пролетарской революции? – с трудом скрывая сарказм и грассируя, спросил Ильич.
– Я не сомневаюсь в победе профессиональной организации революционеров при наличии ясных, социально одобряемых целей, достаточной настойчивости и уверенного руководства, – без тени усмешки ответил император. – А уж как её назвать, пролетарской, крестьянской или общенародной – это дело вкуса и вопрос конкретного политического момента, не более того…
Ленин тряхнул головой, прогоняя майские воспоминания, улыбнулся, перелистнул страницу, перечитал ранее написанное.
Основатели современного научного социализма Маркс и Энгельс по своему социальному положению сами принадлежали к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции.
Надо усилить… Обязательно требуется подчеркнуть… Перо ткнулось в чернильницу, и по бумаге рассыпался бисер ленинского почерка:
«А наши мудрецы в такой период, когда весь кризис русской социал-демократии объясняется тем, что у стихийно пробужденных масс не оказывается налицо достаточно подготовленных, развитых и опытных руководителей, вещают с глубокомыслием Иванушки: „плохо, когда движение идет не с низов!”
И вот я утверждаю:
1) что ни одно революционное движение не может быть прочно без устойчивой и хранящей преемственность организации руководителей;
2) что чем шире масса, стихийно вовлекаемая в борьбу, составляющая базис движения и участвующая в нем, тем настоятельнее необходимость в такой организации и тем прочнее должна быть эта организация (ибо тем легче всяким демагогам увлечь неразвитые слои массы);
3) что такая организация должна состоять главным образом из людей, профессионально занимающихся революционной деятельностью…»
«Вот теперь хорошо. Теперь можно перейти к следующему вопросу», – отметил про себя Ленин и невольно опять улетел воспоминаниями в ту теплую майскую ночь, которая продолжилась такой же фразой.
– Рабочие достаточно умны, чтобы разобраться «что такое хорошо и что такое плохо»! – запальчивой скороговоркой частил Ленин, расплескивая горячий чай, принесенный адъютантом. Разговаривая про Обуховский завод, собеседники незаметно переместились внутрь зала, где неслышно скользящие служащие канцелярии уже раскладывали по столам папки со сводками и отчетами для следующего, утреннего совещания. – Нужно только не затыкать им рот и не заставлять зажмуривать глаза! Как только они поймут, что работают на себя, что результаты их труда никто не присваивает, производительность и качество производства взлетят на такой уровень, который и не снился частным предпринимателям!
– Простите, но кто же сейчас заставляет зажмуриваться? – удивлялся император, с чувством прихлебывая душистый напиток и явно получая удовольствие от разговора. – Ваша «Искра» совершенно открыто продаётся во всех городах, ваши речи на митингах никто не прерывает и не запрещает.
– Этого мало, – как всегда резко, рукой рубанул воздух Ленин, – этого абсолютно недостаточно! Агитация и пропаганда – это средство, а не цель. Только политическая власть трудящихся придаст необратимый процесс изменениям и сделает переход на новый, более высокий уровень производственных отношений необратимым!
– И тогда производительность освобождённого труда вырастет настолько, что старые, капиталистические отношения станут абсолютно неконкурентоспособны, – вставил, наконец, Потресов свое слово, чтобы не выглядеть статистом.
– И партия социал-демократов готова взять на себя ответственность именно за такой результат… – не спросил, а именно резюмировал император.
Оба революционера одновременно и согласно кивнули, не понимая, к чему клонит монарх.
– Хорошо, будем считать, что по одному принципиальному вопросы стороны договорились, – кивнул самодержец, раскуривая очередную, бессчетную трубку. – Надеюсь, вы согласны с Марксом, что «вопрос об истинности познания – это вопрос практики»? В таком случае я предлагаю вам на деле доказать работоспособность вашей теории. После январских событий у нас возникли некоторые принципиальные разногласия с губернатором Финляндии генералом Бибиковым, вынужденным подать в отставку. Как вы, Владимир Ильич, писали про его работу: «Мы все еще до такой степени рабы, что нами пользуются для обращения в рабство других племен. Мы всё еще терпим у себя правительство, не только подавляющее со свирепостью палача всякое стремление к свободе в России, но и пользующееся, кроме того, русскими войсками для насильственного посягательства на чужую свободу!» Необходимо перейти от теории к практике. В качестве таковой предлагаю именно Финляндию, только без Выборгской губернии, необдуманно присоединенной в 1811 году… На неё имеются отдельные планы. Финское княжество уже является государством в государстве, поэтому тамошние изменения будут вполне легитимны и автономны. Мы вас кооптируем в комитет по делам Финляндии и его исполнительный орган – Сенат, а далее – как пожелаете, можем оформить ваши полномочия генерал-губернаторством. Пожелаете – идите во власть демократически, через участие в выборы в местный Сейм.
Убеждайте. Принимайте законы, национализируйте средства производства, демонстрируйте преимущество новых производственных отношений, и пусть все остальные смотрят с завистью и желают как можно быстрее приобщиться к революционному процессу. А Обуховский завод… он всё равно подлежал эвакуации – поближе к месторождениям железа и угля. Ваша стачка только ускорила этот процесс, не более.
За рабочих не беспокойтесь – пропасть никому не дадим. У нас не так много грамотных мастеров… Впрочем, если кто-то из них захочет отправиться с вами работать по-новому, по-социалистически, препятствовать не станем. Кстати, Владимир Ильич, как вы можете объяснить такой интересный феномен, что во время забастовки рабочие получали больше денег, чем за работу? Помощь английских тред-юнионов, говорите? Взять-то у них деньги можно… Чем отдавать будете? Хотя… считайте последний вопрос риторическим.
* * *
Они уже полгода в Финляндии. С подачи РСДРП отменены одиозные планы по русификации. Школы полностью ликвидировали русский и перешли на финский язык обучения. Полным ходом идет подготовка к первым бессословным выборам в финский Сейм. Социал-демократы идут на них под звонкими лозунгами «Нет национальному угнетению!», «Долой засилье великороссов», «Кто не работает – тот не ест» и, наконец, «Заводы должны принадлежать трудящимся!».
Последние два лозунга пока воспринимались ни шатко, ни валко, зато первые шли на «ура». Надо только не расслабляться и удержаться на поднятой революционной волне… Набрав в грудь воздух, Ленин размашисто начеркал: «Наша тактика-план состоит в отрицании немедленного призыва к штурму, в требовании устроить правильную осаду неприятельской крепости, или, иначе, в требовании направить все усилия на то, чтобы собрать, сорганизовать и мобилизовать постоянное войско…»
– Володя, ну сколько можно?! – Голос Наденьки звучал уже капризно и требовательно. – Конни приехал! Говорит, что привез хорошие вести!
– Ну вот и чудно! – прошептал Ленин, поднимаясь из-за стола. – Конни Циллиакус[12]– наш местный Дед Мороз, Йоулупукки. Негоже держать его в сенях!.. – И уже громко и празднично добавил, выходя из кабинета: – Ну что, товарищи! Всех с Новым годом!..
31 декабря 1901 года. Нью-Йорк
– Нет-нет, Эшли, медведи, бродящие по Петербургу, – это из страшных сказок на ночь, – задорно рассмеялась Маша, поглаживая по руке жену Джона, с которой она за год вынужденного пребывания в САСШ успела подружиться так крепко, будто знала её всю свою жизнь. – У нас все шутят над этим вашим странным поверьем.
Маша вскочила, прижала локон к верхней губе наподобие усов и пробасила:
– А вторым выстрелом, господа, я попал медведю в голову и убил его наповал!
– А первый выстрел, поручик? Что случилось с первым выстрелом?
– А первым выстрелом, господа, я разогнал цыган…
Эшли хихикнула маленькому представлению, хотя глаза ее выражали непонимание.
– Цыгане водят по улицам дрессированных медведей, – пришла ей на помощь Маша, – вот поручик и разогнал хозяев, чтобы героически поохотиться.
Они расхохотались вдвоем и с новой энергией принялись сортировать рождественские подарки.
– Маша, прости, повтори еще раз, как называется место, где Джон сейчас строит завод?
– Стани-ца Магнит-на-я, – по слогам отчетливо произнесла Маша, следя, как Эшли прилежно повторяет за ней незнакомые названия. – Правда, он пишет, что вокруг настолько много всего строится, так много людей работает на этой горе, что там скоро будет город.
– Десять миллионов тонн стали в год… Немыслимо, – покачала головой Эшли. – Они будут еще десять лет строить такой гигант…
Маша пожала плечами. Металлургия, родная тема для семьи Джона и Эшли, была для нее загадкой сфинкса. Гораздо больше занимали подарки, полученные из дома, особенно книга графа Толстого «Воскресение» с его личным автографом – знак Канкрина о том, что её помнят и высылают приятный для чтения роман, он же – шифр-блокнот.
Почти год! Длинный и невыносимо тоскливый 1901 год без связи, без возможности посоветоваться с кем-либо, с еженощными слезами в подушку и постоянным осколком льда под сердцем, царапающим солнечное сплетение парализующим страхом. Мозг взрывают мысли-молнии: «А вдруг они знают? А вдруг они догадаются?» И постоянные сомнения, страх сделать что-то не так. Хотя чаще приходилось вообще ничего не делать, просто сидеть на бесконечных встречах Фалька с акулами Уолл-стрит, конспектировать его обещания «открыть границы, убрать преграды, обеспечить наибольшее благоприятствование» и так далее, и тому подобное. Золотые, нефтяные концессии, металлические, угольные, железнодорожные и все остальные день за днем складывались в столбики цифр, превращая карту Российской империи в зоны высокой и низкой рентабельности, сферы влияния многих корпораций и активы различной ликвидности.
На второй месяц торгов Маша уже видеть не могла эти лица, напоминающие ожившие арифмометры. Боже! Как она радовалась, когда Фальк поручил ей от имени какой-то благотворительной организации наладить отношения с русскими экипажами кораблей, строящихся в Филадельфии, и каким холодным душем окатил, заявив, что среди моряков есть его люди. Предупредил, но имен не назвал, сообщив, что само появление Маши в нужное время в нужном месте будет для них неким сигналом. Сигналом для чего? Машу мучил этот вопрос – и когда передавала капитану Щенсновичу дар «русской общины в САСШ», икону Георгия Победоносца, и когда отвечала на дежурные комплименты морских офицеров… А через неделю прочла, что во время краткосрочной стоянки в Бостоне после ходовых испытаний на свежем ветре к носу броненосца притерся какой-то рыбацкий баркас, после чего взрыв разметал утлое судёнышко, изуродовав носовую часть боевого корабля. В этот вечер Фальк был особенно благодушен, сообщил Маше, что его миссия в САСШ закончена, а вот её – продолжается, и передал просьбу Гувера оказать помощь хорошим друзьям и деловым партнерам босса. Им срочно понадобился специалист, идеально владеющий русским и английским языками.
И вот Маша уже почти год руководит Нью-Йоркским бюро «Pacific express», предоставляющим курьерские услуги американским компаниям, работающим или имеющим интерес по ту сторону Тихого океана. Здесь кроме неё ещё тринадцать человек, обрабатывающих корреспонденцию, поступающую от американцев из Китая, Японии и России, растекающуюся ручейками по рекрутинговым агентствам, банкам, страховым компаниям, поставщикам техники и оборудования, всевозможным фондам, а также по семьям гастарбайтеров. Эшли упросила Машу взять ее на любую работу, лишь бы быть немного ближе к мужу, к его делам… Хотя бы так, разбирая письма и надеясь, что где-то среди них увидит его фамилию.
Маша и Эшли – единственные женщины, работавшие в бюро. Остальные – заказчики или акционеры компании. Шумная, как паровоз, Тереза Лёб – владелица банка «Кун, Лёб энд Ко», неизменно сопровождаемая мужем Якобом Шиффом, и тихая набожная Лаура Рокфеллер. Есть еще одна представительница прекрасного пола, с которой Маша успела познакомиться, – живая, стремительная, как огонь на сухой траве, журналистка Ида Тарбелл. С ней Маша старалась видеться вне работы, потому что сведения, полученные от Иды, были очень далеки от служебных обязанностей Маши, зато они обладали несомненной ценностью для русской разведки. Впрочем, встречи с мисс Тарбелл носили обоюдовыгодный характер.
– Мои коллеги, – пренебрежительно морщила носик Ида, – старательно изучая политику, тратят свою неуёмную энергию на парламент и лоббистов, хотя господа конгрессмены имеют такое же отношение к власти, как секретарша компании – к её владельцам. Настоящая власть всегда тайная. Альянс дельцов Уолл-стрит давно построил свой «контур влияния» в тени Капитолия. Первым, кого удалось вытащить из тени, был Орден Золотого круга, ими была развязана гражданская война, а затем убит Линкольн. Сейчас шустрые мальчики Ордена – Шифф, Варбург, отец и сын Морганы – носятся с идеей какого-то сверхбанка, но лично меня больше интересует их командор – потомок осевшего в Америке почти сто лет назад некоего Рокенфеллера из гессенского корпуса немецких наёмников британской экспедиционной армии. Зовут его Джон Дэвисон Рокфеллер. Он очень успешный бизнесмен and he is the most cold-blooded gangster in America – самый отмороженный гангстер в Америке. Его ещё называют Мефистофелем из Кливленда…
За спиной каждого успешного мужчины стоит великая женщина. Рокфеллер был женат на Лауре Селестине Спелман. Он как-то заметил: «Без её советов я бы так и остался бедняком». Распределение их семейных ролей выглядело идеально. Джон торгует лицом, надувает щёки, потея под софитами, и громогласно заявляет о себе на переговорах.
Набожная Лаура, для которой, по её собственному признанию, тремя китами счастья «всегда были исключительно семья, дом, церковь», тихо и незаметно организует другую часть работы. В результате конкуренты Джона или становятся покорными овцами, или просто в один прекрасный день скоропостижно переселяются в лучший из миров.
Бизнес главного конкурента Джона – Pennsylvania Railroad – в одночасье был разрушен восстанием рабочих. Оно было настолько мощным, что для усмирения пришлось вызывать федеральные войска. Практически тот же сценарий повторился с другим его конкурентом – Tidewater. Многочисленные диверсии на нефтепроводе привели, в конце концов, к финансовым неурядицам компании, толкнувшим её в объятия «хлебосольного» Джона. Как ни рыли носом землю заинтересованные конкуренты, частные и полицейские детективы, так и не смогли накопать на Джона хоть какой-то компромат, хоть какую-то связь с криминалом… А рядом в это время смущенно улыбалась и тихо делала своё дело скромная и богобоязненная Лаура…
Последнее время Рокфеллеры обращают внимание на Россию. Эта далекая холодная страна всё чаще становится темой для приватных разговоров и публичных дискуссий среди акул Уолл-стрит. Идя по следам Рокфеллера, Ида дошла и до Машиного почтового бюро. После долгого ритуала присматривания и «обнюхивания» социально активные дамы подружились и, не заключая никаких соглашений, одновременно исподволь выясняли причины такого пристального внимания, постоянно меняясь свежей информацией. Накануне нового 1902 года из России для Рокфеллера и Шиффа специальной почтой пришло какое-то обширное послание. Прикормленный Идой садовник сообщил, что пакет застал Джона за гольфом, и он, недовольно покачав головой и сосредоточившись на очередном ударе, кивнул в сторону Лауры, отдыхающей в сени секвойи.
Самая богатая женщина САСШ внимательно перечитала сообщение, тоже покачала головой, кивнула и легким движением руки разрешила курьеру удалиться. А на следующий день все американские кредиторы Японии получили приглашение прибыть в поместье Рокфеллеров Kykuit, что на голландском языке означает «Смотровая башня». Одновременно специальному представителю «Стандарт ойл» в России была отослана рождественская открытка с текстом, больше напоминавшим шифровку, чем поздравление…
Вся эта суматоха волновала и озадачивала Машу. Но теперь, слава богу, можно будет написать и отправить долгожданное сообщение Канкрину. Связь с «Большой землей» восстановлена.
31 декабря 1901 года. Мотовилиха
Коммуникационным проблемам Маши наверняка бы позавидовал Самуэль Нилл Макклин, почти год живущий в «золотой клетке» без права переписки и каких-либо контактов. Таковы были правила, утвержденные Артиллерийским техническим комитетом, второй стороной его «золотого» контракта.
Будучи ещё молодым врачом из штата Айова, Самуэль питал страсть к оружию и мечтал о своем деле в данном направлении. В 1896 году, завершив медицинскую карьеру, он приступил к созданию собственной оружейной компании McClean Ordnance & Arms в Кливленде, штате Огайо. Его первым запатентованным образцом был самозарядный пистолет с множеством нехарактерных для того времени решений, в первую очередь – с оригинальным устройством ползуна и затвора, компенсатором отдачи, балансиром-противовесом и прочими удобствами, так и не оцененными американским военным ведомством[13]. Самуэль перешёл к более крупным формам и через два года разработал одно из первых автоматических орудий – однофунтовую полевую пушку. Решения были тяжелые, громоздкие, ненадёжные, зато позволяли вести стрельбу в автоматическом режиме, а сама пушка, несмотря на всю свою революционность, получилась на удивление простой.
Обойма из десяти 37-миллиметровых снарядов, вставляемая сверху, отстреливалась за неполные пять секунд, точнее – должна была отстреливаться, но упорно не желала это делать, демонстрируя своенравный характер пока ещё «сырой» автоматики. Тем не менее в апреле 1899 года первый прототип пушки McClean Mk. I был доставлен на полигон в Санди-Хук, а военная комиссия спонсировала 3000 долларов на производство снарядов и запасных деталей к оружию. В августе 1900 года Макклину выделили еще 3000 долларов на доработку конструкции…
А в феврале 1901 года в жизни конструктора появился флигель-адъютант его императорского величества и выкупил прототип, заряды к нему, патенты, долги перед военной комиссией и поставщиками, а также самого Макклина в обмен на трехлетний контракт «без права переписки и выбора места жительства». Впрочем, стесненный в средствах Самуэль подмахнул соглашение с его величеством не задумываясь. Три года мучений оправдывала сумма договора с русским царём, позволяющая больше никогда не работать ни самому конструктору, ни его детям. Правда, в обмен на доведенные до заводских кондиций автоматическую пушку и ручной пулемет. В этом как раз Макклин проблемы не видел. Пушка, хоть и через раз, уже стреляла, а пулемет уже существовал в чертежах и, при определенной удаче, мог быть реализован в металле в течение года.
Новые непосредственные начальники Самуэля – полковник Дурляхер и капитан Барсуков[14]– огорошили жизнерадостного и любознательного американца известием, что жить и творить всё это время ему придется в самом натуральном монастыре, расположенном у чёрта на куличках, где-то на Урале. Правда, потом успокоили, объяснив, что монастырь этот не совсем обычный, а «нового строя», где монахи, выполнявшие роль охранников, занимают только внешний его периметр, а внутренний представляет собой вполне комфортабельное поселение с отдельной охраной, со своими лабораториями, конструкторским бюро, производственным и жилым корпусом, где есть техническая и обычная библиотека, салон, кухмистерская и даже такое новомодное развлечение, как синематограф.
Второй раз Макклина смутил хмурый офицер контрразведки, осведомившийся, какую фамилию и какое подданство на время контракта Самуэль хотел бы иметь. А когда конструктор попробовал возмущаться, сунул под нос свежеподписанный контракт и прочел небольшую лекцию с перечислением стран, приходивших в Россию с войной за последние сто лет, и со списком шпионов на пяти листах, разоблаченных только за последние сто дней. «С 1901 года все оружейные конструкторы империи находятся в таком же положении, распределены по похожим „монастырям”, и это связано прежде всего с необходимостью обеспечить их собственную безопасность», – вздохнул контрразведчик, как бы извиняясь за доставленные неудобства.
Удивившись такой паранойе, Макклин, тем не менее, подписал все необходимые бумаги и отправился на место новой работы уже как подданный Ирландии Самуэль Маккормик. Три дня, пока конструктор добирался до Перми, ему казалось, что он едет по строительной площадке, и стройка не прекращается ни днём, ни ночью. На всём протяжении Транссибирской магистрали стучали топоры, визжали пилы, гремели молоты по клёпаным стальным конструкциям, горели походные кухонные костры, рассыпались звездами пока еще диковинные в этих местах сварки, разбегались влево-вправо от «чугунки» новые дорожные ветки, да и сам Транссиб полнел на глазах, расползаясь по прилегающим полям двухпутной насыпью, расширяющейся на каждой станции десятками отстойников, вагонных и ремонтных депо. Было видно, что участки с чугунными рельсами всё чаще и чаще перемежались стальными.
Отчаянно, как будто в последний раз, отстраивался пункт конечного назначения Макклина – местечко Мотовилиха. Центром притяжения был, конечно же, знаменитый пушечный завод, переживающий свою вторую молодость. Количество возводимых корпусов в три раза превышало число работающих. Рядом с главной достопримечательностью завода, пятидесятитонным молотом, спешно монтировался пильгерстан для производства бесшовных труб по методу братьев Маннесман, а мимо ожидающих монтажа и наладки станков самого различного назначения можно было гулять до конца рабочего дня, читая на упаковках названия самых разных производителей со всего света.
Тихо было только в самой «обители», где предстояло трудиться Самуэлю. Но и эта тишина была обманчивой. Полюбовавшись на завидную военную выправку сдвоенных патрулей монахов, пока часовые на внутреннем периметре проверяли его документы, Макклин прошёл через обитые железом ворота и попал в настоящее царство оружия. Во дворе кроме его пушечки ровными рядами стояло не менее сотни образцов разной степени разобранности. Картечницы Гатлинга соседствовали с изделиями Гочкиса, по-французски изящные скорострелки Канэ перемежались с по-прусски основательными изделиями Круппа. Отдельно лежащие стволы, замки и лафеты самых экзотических конструкций могли бы украсить любую выставочную экспозицию. И всю эту выставку инженерных достижений в деле убийства себе подобных, как муравьи гусеницу, облепили молодые люди в тужурках из корпуса инженеров ГАУ, заглядывая во все отверстия, измеряя, записывая и оживленно о чем-то споря на непонятном для американца языке.
Так Самуэль узнал про еще одну недокументированную функцию своего контракта – не только изобретать, конструировать, собирать и испытывать, но и обучать тех, кто в качестве технологов и конструкторов пойдёт в цеха уже выстроенных и еще строящихся заводов. За прошедший год он полностью оценил этот утомительный, но очень эффективный метод погружения, когда и учителя, и ученики сосуществовали круглосуточно и взаимно подпитывались, младшие – знаниями и навыками, старшие – энергией и плещущим через край оптимизмом.
Самуэль бросил взгляд на бюро его служебной квартиры, где лежал подаренный его учениками свежий номер московской газеты. Редакционная статья начиналась словами «Рождественские приключения американского инженера Макклина в России» и заканчивалась фотографией с персонажем, похожим на Самуэля. Всё-таки русские слегка сошли с ума со своей конспирацией. Хотя… Каждый борется со скукой по-своему. Он свою часть контракта выполняет скрупулёзно. Его фунтовая пушка за этот год исправно научилась исполнять барабанную дробь, а её внешний вид на станке Дурляхера, напоминающем трилистник, стал особо изящным и даже каким-то хрупким. Монументальность была принесена в жертву мобильности. Зато пушечка теперь легко собиралась-разбиралась за четверть часа и перевозилась всего в трех вьюках. Закрепленная на вертлюге, она могла вести круговой огонь с углом возвышения аж на шестьдесят градусов, что, безусловно, оценит горная инфантерия. Окончательную сдачу задерживали только конструкторы снаряда, пообещавшие к новому году специальный утяжеленный осколочно-фугасный заряд с массой не менее фунта, аж 500 граммов.
Конструктор поморщился. Он никак не мог привыкнуть к метрической системе, в которой велись все расчеты и писалась вся документация в его «монастырском» КБ… «Его…» Самуэль поймал себя на мысли, что он всё чаще называет это странное место своим. А ведь сначала угнетал непривычный унылый пейзаж за окном, весьма исполнительные, но какие-то примитивные в своих знаниях ученики и подмастерья. Даже местная кухня была предметом регулярного расстройства. А вот поди ж ты… попривык, обтесался и стало даже нравиться. Это хорошо, что прошла хандра. С нового года приступим к работе над пулеметом. Макклин уже присмотрел себе помощника – вот этого шустрого парнишку с труднопроизносимыми именем и фамилией «Васья Дьегтьярьёв» – золотые руки и светлая голова. Будет так же прогрессировать – назову получившееся оружие его именем. Заслужил! Это же он подсмотрел у Браунинга треножный станок для пулемета и подсказал идею Дурляхеру сделать такой же для пушки, только распластанный по земле. Полковник, конечно же, пожадничал, присвоив себе изобретение революционного орудийного станка. Некрасиво. Но Самуэль восстановит справедливость. Увековечит имя Васи в легком скорострельном оружии[15].
Эх, описать бы сейчас в каком-нибудь специализированном журнале все идеи, уже воплощенные и роящиеся в голове. Но нельзя… Контракт, будь он неладен… Еще два года обязательного молчания. Но совсем недавно было три, поэтому будем оптимистами!
С Новым годом!
31 декабря 1901 года. Владивосток
– Направление на цель номер один. Расстояние шестьдесят пять кабельтовых. По ориентиру номер три – целик влево двадцать! Фугасным товсь!..
Лязгнула затвором металлическая пасть пятисоттонного чудовища. На фоне заснеженной сопки закопчённые жерла орудий, похожие на пальцы великана, погребённого под камнями острова Попова, нехотя поползли на северо-запад, застыли, будто прислушиваясь. Тишину на центральном посту располосовал нетерпеливый звук ревуна.
Залп! Гигантский дракон подземелья, силясь сбросить с себя земную твердь, выдохнул в морозное небо жёлтый с прожилками огонь и смрадный дым. Содрогнулось белое снежное. Пошёл отсчёт последних секунд жизни пятисотфунтовых заострённых бочонков, начинённых адской смесью, названной с какой-то сатанинской издёвкой «морской». Забился в истерике звонок указателя падения залпа.
– Лейтенант Шестаков! Хорошо по кучности, но вправо и с большим перелётом. Целик влево два! Дальность меньше пять! Продолжать!
– Ориентир… Целик… Возвышение… Залп!
– Время пристрелки – четыре минуты. Неплохо.
– Что ж тут хорошего, Лев Николаевич? Уже четыре минуты шел бой, и только теперь мы добились накрытия.
– Залп!
– С Рикорды докладывают – «поражение»!
– Двадцать пятая с острова Русский отстрелялась – «накрытие»! Запрашивают: «Средней артиллерии вступить?»
– Отставить! На сегодня хватит! Пойдёмте на свежий воздух, граф, здесь молодёжь надышала – аж с потолка капает…
Адмирал Чухнин по капельке, как родниковую воду, цедил безумно морозный воздух и с удовольствием наблюдал, как писатель, а в молодости – поручик-артиллерист, участник обороны Севастополя, несмотря на свой почтенный возраст, ловко карабкается по эскарпу, прикрывающему с тыла вход в командный пункт батареи.
– Хотите взглянуть на дело рук своих, Лев Николаевич?
– Наших, Григорий Павлович! Такое одному потянуть бы не удалось, не скромничайте… Эх, – писатель закряхтел, переваливаясь через бревенчатый скат, – нам хотя бы одну такую красавицу в Севастополь!.. Что сейчас вспоминать про пушки. Нам бы укрепления такие, как вы построили! Их не только сковырнуть, а даже увидеть с моря не получится…
Чухнин согласно кивнул и оглядел еще раз вынесенный на пик горы Попова командный пункт управления огнём, откуда была прекрасно видна самая мощная батарея на подступах к Владивостоку – две экспериментальные, ни на что не похожие трехорудийные башни, вписанные в рельеф горы так, что батарею и даже вспышку выстрела увидеть с моря было практически невозможно.
За время службы адмирал повидал немало береговых батарей, но мог поклясться – так больше никто нигде не строил. Вместо возвышающихся над местностью валов, редутов, люнетов, орудийных двориков с земляными брустверами – уходящие на два этажа вниз железобетонные капониры. Вся жизнь – под землёй, только верхняя часть башен и стволы орудий возвышаются над поверхностью. Владивостокские фортификаторы Курилов и Романович клянутся, что император лично набросал эскизы новых укреплений. У них сложилось впечатление, будто он не сочинял, а вспоминал уже виденное ранее. Но где такое можно было подсмотреть, инженеры не представляли, хотя перерыли гору справочной литературы.
«Привирают, наверно. Откуда могут быть у государя такие познания в военном строительстве?»
Всего одиннадцать месяцев назад здесь стояли только одинокая сторожевая вышка да караульная изба, а он, чертыхаясь и не понимая смысла происходящего, но выполняя приказ с самого верха, тащил на эти безлюдные острова японскую делегацию маркиза Ито, сославшись на великолепную охоту, какой здесь отродясь не бывало. Охотничьи приключения успешно заменил «Шустовский». Японские офицеры трескали его за милую душу, а потом по очереди лезли на вышку обозревать окрестности.
Как только последний японец, вдоволь нафотографировавшись на фоне пузатых мортир Токаревской и Ларионовской батарей, погрузился на поезд до Москвы, подступы к Владивостоку превратились в одну огромную стройплощадку. Год спустя острова Русский, Рейнеке и Попова ощетинились пятью дальнобойными батареями. Передовая, поповская, вооружена пока еще секретной достопримечательностью – усовершенствованными орудиями, созданными в новых конструкторских бюро, скрывающихся за монастырскими стенами.
Внешне в самих пушках ничего особенно революционного не было. Просто переоблегченную по заказу моряков сорокапятикалиберную десятидюймовку Дубницкий и Гермониус перестволили под 9,4 дюйма с автофреттажем и хромированным лейнером. За счет того, что общая толщина стенок ствола стала на три линии толще, а максимальное давление удалось поднять до 2500 кгс/см, дальнобойность при возвышении тридцать градусов выросла аж до ста тридцати кабельтовых.
Революционность начиналась с остроконечных снарядов, увенчанных баллистическим обтекателем из тонкой стали для лучшей аэродинамики и «макаровским» бронебойным колпачком из мягкого металла. Принимая первую партию экспериментальных боеприпасов, Чухнин настолько залюбовался их смертельными стремительными обводами, что украдкой от подчиненных погладил смуглый бок снаряда, как гладят шею породистого жеребца. Грешно было признаться, но оружие, предназначенное для убийства, было по-своему изящно и привлекательно. Внутри полпуда тротила с примесью гексогена и алюминиевой пудры. Умельцы ГАУ Костевич и Рдултовский сочли эту начинку вполне достаточной для такого заброневого воздействия, чтобы по месту взрыва не только рушилось, но и жарко горело даже железо.
Адмирал улыбнулся, вспомнив байку, ходящую среди моряков, будто государь пообещал Антону Францевичу Бринку посадить его лично верхом на снаряд, как барона Мюнхгаузена, для активации заряда вручную, если его взрыватели не соизволят срабатывать just-in-time, как говорят англичане.
Контрольные обстрелы бронеплит продемонстрировали, что новое орудие с таким снарядом на «рабочем» расстоянии сорок кабельтовых прошибает шестидюймовую броню, в то время как классическая десятидюймовка не справляется даже с четырьмя с половиною. Для войны на дальних дистанциях оружейники предложили тяжёлый фугасный снаряд, содержащий полтора пуда адской высокотемпературной смеси и крайне чувствительный взрыватель, раскрывающийся, во избежание нехороших случайностей, в полете.