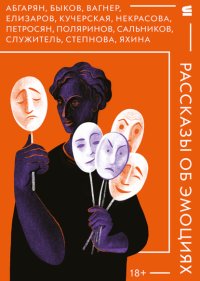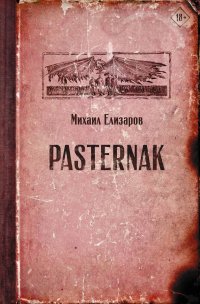Читать онлайн Библиотекарь бесплатно
- Все книги автора: Михаил Елизаров
© Михаил Елизаров
© ООО «Издательство АСТ»
Рабочий человек должен глубоко понимать, что вёдер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение сделать нельзя. Песня дороже вещей…
Андрей Платонов
Часть I. Книги
Громов
Писатель Дмитрий Александрович Громов (1910–1981) дожил свои дни в полном забвении. Книги его бесследно канули в макулатурную Лету, а когда политические катастрофы разрушили советскую Родину, о Громове, казалось, вспомнить было некому.
Громова мало кто читал. Конечно, редакторы, определявшие политическую лояльность текстов, а потом – критики. Вряд ли кого-нибудь могли насторожить и заинтересовать названия «Пролетарская» (1951), «Счастье, лети!» (1954), «Нарва» (1965), «Дорогами труда» (1968), «Серебряный плёс» (1972), «Тихие травы» (1977).
Биография Громова шла бок о бок с развитием социалистического отечества. Он закончил семилетку и педагогический техникум, работал ответственным секретарём в редакции заводской многотиражки. Чистки и репрессии не коснулись Громова, он спокойно дотянул до июня сорок первого года, пока его не призвали. На фронт он попал военным корреспондентом. Зимой сорок третьего Громов отморозил руки. Левую кисть удалось спасти, а вот правую ампутировали. Так что все громовские книги были созданы вынужденным левшой. После победы Громов увёз семью из ташкентской эвакуации на Донбасс и до пенсии оставался в редакции городской газеты.
За перо Громов взялся поздно, зрелым сорокалетним человеком. Он часто обращался к теме становления страны, воспевал ситцевое бытьё провинциальных городков, посёлков и деревень, писал о шахтах, фабриках, бескрайней целине и битвах за урожай. Героями громовских книг обычно бывали красные директора или председатели колхозов, солдаты, вернувшиеся с фронта, вдовые женщины, сохранившие любовь и гражданское мужество, пионеры и комсомольцы – решительные, весёлые, готовые к трудовому подвигу. Добро торжествовало с мучительным постоянством: в рекордные сроки поднимался металлургический комбинат, недавний студент за полгода заводской практики превращался в закалённого специалиста, цех перевыполнял план и брал новое обязательство, зерно по осени золотыми реками текло в колхозные закрома. Зло перевоспитывалось или упекалось в тюрьму. Разворачивались и любовные страсти, но очень целомудренные – поцелуй, заявленный в начале книги, по аксиоме театрального ружья стрелял холостым чмоканьем в щёку на финальных страницах. И Бог с ними, с темами. Написано это было заунывным слогом, добротными, но пресными предложениями. Даже обложки с тракторами, комбайнами и шахтёрами были из какого-то сорного картона.
Страна, породившая Громова, могла публиковать тысячи авторов, которых никто не читал. Книги лежали в магазинах, их уценивали до нескольких копеек, сносили на склад, сдавали в утиль и выпускали новые, никому не нужные книги.
Последний раз Громова напечатали в семьдесят седьмом году, а потом в редакциях сменились люди, знавшие, что Громов – это безобидный словесный мусор ветерана войны, в котором общественность не особо нуждается, но и не имеет ничего против его существования. Громов отовсюду получал вежливые отказы. Государство, празднуя грядущее самоубийство, высиживало бесноватую литературу разрушителей.
Овдовевший одинокий Громов понял, что отпущенное ему время истекло, и тихо умер, а через десять лет вслед за ним ушёл СССР, для которого он сочинял.
Хоть и было выпущено Громова общим числом больше чем полмиллиона, только отдельные экземпляры чудом осели в клубных библиотеках в далёких посёлках, больницах, ИТК, интернатах, гнили в подвалах, схваченные накрест бечёвкой, стиснутые материалами какого-нибудь съезда и ленинским многотомьем.
И всё же у Громова имелись настоящие ценители. Они рыскали по стране, собирая оставшиеся книги, и ничего не пожалели бы за них.
Это в обычной жизни книги Громова носили заглавия про всякие плёсы и травы. Среди собирателей Громова использовались совсем другие названия – Книга Силы, Книга Власти, Книга Ярости, Книга Терпения, Книга Радости, Книга Памяти, Книга Смысла…
Лагудов
Валериана Михайловича Лагудова, без сомнения, можно отнести к числу самых влиятельных фигур громовского универсума.
Родился Лагудов в Саратове в семье учителей, был единственным ребёнком. С детства отличался хорошими способностями. В сорок пятом семнадцатилетним юношей он отправился добровольцем на войну, но до фронта не добрался – в апреле заболел воспалением лёгких, месяц пролежал в госпитале, а в мае война завершилась. Эта тема опоздавшего на войну солдата была для Лагудова чрезвычайно болезненной.
В сорок седьмом Лагудов поступил в университет на филологический факультет. Успешно защитив диплом, он двенадцать лет проработал журналистом в провинциальной газете, а в шестьдесят пятом году его пригласили в литературный журнал, где он возглавил отдел критики.
Предшественник Лагудова расстался со своей должностью, прозевав сомнительный по лояльности роман. Хрущёвская оттепель миновала, но границы цензуры оставались довольно размытыми – поди разберись: то ли текст в духе нового времени, то ли антисоветчина. В итоге и журнал, и издательство получили серьёзный нагоняй. Поэтому Лагудов был внимателен ко всему, что ложилось на его стол. Он, мельком проглянув повесть Громова, решил в один вечер разделаться с книгой и больше к ней не возвращаться. В голове он заведомо держал тёплую рецензию – критиковать бывшего фронтовика, пусть и написавшего с художественной точки зрения посредственный, но зато политически корректный текст о зенитчиках, Лагудову не позволяла совесть. К ночи с книгой было покончено. Сам того не подозревая, прилежный Лагудов выполнил Условие Непрерывности. Он не забывал о бдительности и прочёл повесть от первой строки до последней, не пропуская заунывные абзацы с описанием природы или какой-нибудь патриотический диалог. Так Лагудов выполнил Условие Тщания.
Прочел он Книгу Радости, она же – «Нарва». По воспоминаниям бывшей жены, Лагудов перенёс бурное эйфорическое состояние, не спал всю ночь, говорил, что подверг бытие всеобщему анализу и у него появились великолепные мысли, как принести пользу человечеству, раньше он был запутан в жизни, а теперь всё стало ясно, при этом громко смеялся. К утру эмоции утихли, и он сухо сообщил встревоженной жене, что его идеи рано подвергать оглашению. В тот день он не смог выйти на работу, настроение было подавленным, и мыслей о всеобщей гармонии он больше не высказывал.
Содержательная сторона эйфории, которую пережил Лагудов, не имела смысловых пересечений с громовским сюжетом, и Лагудов никак не связал ночные события с прочтением книги. Но в душе всё же остался некий эмоциональный рубец, благодаря которому Лагудов запомнил писателя по фамилии Громов.
Спустя восемнадцать лет Лагудов увидел в захудалом вокзальном магазинчике повесть Громова. Ностальгируя по далёкому ночному счастью, Лагудов купил книгу – она стоила после всех уценок пять копеек и была невелика, две сотни страничек – как раз на предстоящую дорогу.
В электричке обстоятельства опять помогли Лагудову выполнить два Условия. В одном вагоне с ним ехали подвыпившие парни, донимавшие пассажиров. Немолодой и не особо сильный Лагудов предпочёл не связываться с рослыми хамами. Ему было по-мужски стыдно, что он не может окоротить негодяев, и он уткнулся в страницы, изображая человека, предельно увлечённого чтением.
Лагудову тогда досталась книга Памяти – «Тихие травы», от которой он ненадолго впал в дремотное состояние. Книга подложила Лагудову ярчайший фантом, несуществующее воспоминание. Лагудова захлестнула такая сокрушающая нежность к той приснившейся жизни, что он в слезливом восторге оцепенел от всепоглощающего чувства светлого и чистого умиления.
С прочтением второй громовской Книги судьба Лагудова круто изменилась. Он оставил работу, развёлся с женой, и следы его затерялись. Через три года Лагудов снова возник, и вокруг него уже сформировался мощный клан, или, как они сами себя называли, – библиотека. Именно этот термин со временем распространился на все организации подобного толка.
В библиотеку Лагудова в первую очередь вошли люди, на которых он проверял Книгу Памяти. Лагудов поначалу самонадеянно связывал чудесный эффект с личными качествами. Опыты же показали, что при соблюдении Условий Книга безоговорочно воздействовала на всех. Ближайшим сподвижником Лагудова стал психиатр Артур Фризман – Лагудов первые месяцы сомневался в своем психическом здоровье.
Лагудов проявлял осторожную избирательность, приближая людей мирных обнищавших профессий: учителей, инженеров, скромных работников культуры – тех, кого наступившие перемены запугали и морально подавили. Он полагал, что униженная новым временем интеллигенция окажется податливым и надёжным материалом, не способным на бунт и предательство, в особенности если восполнит через Книги, а косвенно и Лагудова, свою извечную классовую тоску по духовности.
Во многом этот домысел был ошибочным. Громовские Книги полностью меняли личность, просто осмотрительному Лагудову преимущественно везло с новыми товарищами; кроме того, ему квалифицированно помогал Фризман, который вербовал далеко не всех подряд.
Попавшие в библиотеку обычно испытывали к Лагудову глубокое уважение и преданность, и это было объяснимо: большинству отчаявшихся, измученных нищетой людей Валериан Михайлович возвратил надежду, смысл существования и сплочённый единой идеей коллектив.
Первые два года Лагудов собирал под знамёна в основном униженных и оскорблённых интеллигентов, потом он решил, что библиотеке явно не хватает жёсткой силы. Тогда Лагудова выручил Фризман. В диспансер частенько обращались за помощью люди, надломленные афганской войной. Таких вначале обрабатывал Фризман, а затем передавал Лагудову. В девяносто первом году библиотека пополнилась отставниками, не пожелавшими изменить советской присяге. Бывшие офицеры превратили интеллигентов в серьёзную боевую структуру с жёсткой дисциплиной, разведкой и службой безопасности. Библиотека всегда могла выставить до сотни бойцов.
Разумеется, система отбора давала сбои. Появлялись беспечные болтуны, почём зря треплющие языком о Книгах. Несколько раз пробивались ростки заговора. Доля смутьянов была одинаково трагична – они исчезали бесследно.
Случались и похищения Книг. Лагудова предал рядовой читатель – некто Якимов. Получив в порядке очерёдности из запасников Книгу Памяти, он обманул хранителя и бежал в неизвестном направлении. Книг у Лагудова имелось достаточно, и библиотека не обеднела, но сам по себе прецедент был отвратителен, и вдобавок предателю удалось скрыться.
По следам удавшегося преступления пошли и другие читатели. Этих удалось изловить. Ради пошатнувшегося авторитета Лагудова и острастки будущих злоумышленников книжных воров четвертовали на глазах всей библиотеки.
Якимова же случайно обнаружили спустя год после дерзкой кражи. Он укрылся в Уфе. Туда был немедленно отправлен карательный десант с заданием уничтожить похитителя и вернуть Книгу. Каково же было удивление бойцов Лагудова, когда они выяснили, что Якимов, находясь в Уфе, не терял времени зря и организовал собственную библиотеку.
Небольшой лагудовский отряд принял мужественное решение не выжидать подкрепления. В лаконичной манере «иду на вы» они открыто оповестили Якимова о разборке. Было оговорено холодное оружие, выбрано загородное, поглуше, место.
Стоит заметить, что и читатели библиотеки Якимова существовали по принципу «мёртвые сраму не имут». В ту ночь победа не досталась никому. Противники, утомлённые кровопролитной схваткой, отступили.
На новую карательную экспедицию Лагудов не осмелился. Нужно было защищать книгохранилище от ближнего врага, а не рассылать отряды за тридевять земель, губить верных читателей ради удовлетворения амбиций. Библиотеку без того окружали многочисленные и агрессивные конкуренты.
Долгое время Лагудов полагал, что распространение знаний о Громове происходит за счёт предателей из его библиотеки. Он слишком верил в свою избранность и не допускал мысли, что кто-то, кроме него, оказался способен самостоятельно проникнуть в Книги. Всех же, кто строил могущество на его, лагудовском, открытии, Лагудов относил к людям второго сорта, нечистоплотному ворью. И впоследствии, когда пришлось расстаться с идеями исключительности, Лагудов, хоть и скрепя сердце, шёл на равноправный контакт только с первичными, натуральными библиотекарями – теми, кто своими мозгами, без подсказки разгадали тайну Книг.
Процент приобщившихся к Громову через утечку информации был довольно велик, и многие новые кланы организовывались вокруг беглых читателей, причём воровство было не обязательным – ещё в конце восьмидесятых обзавестись Книгой Памяти при сильном желании не составляло большого труда. Основную роль сыграли не перебежчики и не сплетни, а миссионерская деятельность первых «апостолов», чьи имена давно заняли посмертные места в пантеоне этого жестокого и закрытого общества. Стоит назвать некоторых.
Шепчихин Пётр Владимирович. Он работал в типографии и набирал Книгу Памяти. Перепутав обложки, он унёс домой не присмотренный детектив, а Громова. По случайности он застрял на полночи с Книгой в лифте и, под утро освобождённый лифтёрами, вышел другим человеком. Натура чувствительная, Шепчихин сразу понял: дело не в его физиологии, а в таинственной Книге. Потрясённый тайной, он бросил работу и побрёл по стране, став одним из самых ярых пропагандистов Громова.
Шепчихин погиб, и убрали его, вполне вероятно, те самые неофиты, которым он когда-то рассказал о Книге. Они расправились с ним, решив, что просветительская активность Шепчихина слишком опасна для герметичности громовского мира.
Дорошевич Юлиан Олегович. Находился на принудительном лечении в ЛТП и, чтобы не сойти с ума от трезвой скуки, читал. В таких полутюремных библиотеках оседал всякий хлам, мало-мальски стоящие книги там не задерживались. Но благодаря ЛТП Дорошевич узнал о Громове и Книге Терпения «Серебряный плёс». Эта Книга дарила любому страждущему ощущение великого утешения и примирения с жизнью. Говорили, она помогает при боли физической, действуя как общая анестезия. На остальные чувства, кроме горя, страха и боли, Книга вроде бы не оказывала существенного влияния, просто примораживала их до общего безразличия. Душевный склад Дорошевича способствовал специфичной избирательности миссионерства. Он открывал Книгу только самым несчастным, на его взгляд, людям. Жизненный путь Дорошевича оборвался при невыясненных обстоятельствах, кто убил его, неизвестно, – наверняка тот, кто посчитал грех убийства много меньше своего страдания.
Возможно, история преувеличивает душевные качества бродячих «апостолов», и на самом деле хотели они, как и все библиотекари, личного господства, также пытались создать книжные общины, но не справились с миссией.
Это странное бескорыстие несколько противоречило специфике тайны. Всякий новый читатель, приобщённый к Громову, понимал, что Радости, Терпения или Памяти на всех не хватит и лучше о Громове помалкивать. В коллективе проще было сохранить Книги и преумножить их число, поэтому и перевелись эти одинокие бродячие открыватели. Новых же читателей выбирала сама библиотека. Охотнее вербовали людей одиноких, бессемейных, с надломом, долго присматриваясь к кандидату: достоин ли тот стать причастным чуду, сможет ли его хранить и оберегать, а если надо, отдать жизнь.
Словом, конкурентов у Лагудова оказалось достаточно. Вскоре из всех мало-мальски значимых мирских библиотек вместе с Книгами таинственным образом пропали библиографии Громова. Даже в Ленинке кто-то изъял всю информацию в картотеке. После компьютеризации данные об отсутствующем авторе, соответственно, никуда не вносились, и Громов формально исчез. На стеллажах тоже похозяйничали. Без картотеки оставалось лишь гадать о подлинном количестве публикаций.
У собирателей Громова к началу девяностых был перечень из шести уже опробованных Книг. Еще имелись сведения о седьмой, которую называли Книгой Смысла. Считалось, с её обнаружением прояснится истинное назначение творчества Громова. Пока никто не мог похвастать найденным Смыслом, а некоторые скептики утверждали, что такой Книги просто не существует.
Полное собрание сочинений рассматривалось всеми библиотеками как гигантское заклинание, которое должно было дать некий глобальный результат.
Лагудовские теоретики говорили о «состоянии богоподобия», длящемся в таком же временном отрезке, как действие любой отдельной Книги. Какие выгоды можно извлечь из этого состояния, никто не знал, справедливо полагая, что в шкуре Бога в голову придут идеи надчеловеческие. Рядовым читателям сообщалось: Лагудов, ставший Богом, сразу позаботится о своих соратниках.
Велись разговоры о конце света, «книжной интоксикации», грозящей смертью читающему, или о том, что все Книги, прочитанные зараз, поднимут мёртвых. Но это были лишь гипотезы.
Предполагалось, что полное собрание сочинений могло находиться у самого Громова, но, когда Лагудов приступил к поискам, Громов давно умер, квартира отошла посторонним людям, которые в первую же неделю избавились от хлама.
Единственная дочь Громова, Ольга Дмитриевна, проживала с семьёй на Украине. Под видом журналистов её посетил человек Лагудова и с огорчением узнал, что имевшиеся у неё две Книги она подарила случайному посетителю, который представился литературоведом, изучающим творчество её отца. Названий книг Ольга Дмитриевна тоже не запомнила. Вроде бы это были Книги Памяти и Радости.
Лагудов, конечно же, выяснил, кто опередил его, но проку в том было немного. Идти на вооружённый конфликт с конкурентами Лагудов не стал. В конце концов, его никто не обманывал, противник просто оказался проворнее, и винить стоило только себя. Лагудов сделал выводы на будущее и утроил усилия.
У Громова был брат Вениамин, которому он тоже слал свои книги. С этим братом Лагудову повезло: кроме имеющихся уже Книг Памяти и Радости, нашлась довольно редкая и ценная Книга Терпения «Серебряный плёс». Действуя как морфий, Книга намертво удерживала в библиотеке всех страждущих…
Годы систематических поисков не прошли бесследно. В лагудовском хранилище, по слухам, находилось восемь Книг Радости, три Книги Терпения и не меньше дюжины экземпляров Книги Памяти – «Тихие травы» издали последней, и она сохранилась лучше других: её в мире насчитывалось до нескольких сотен экземпляров. Книга Памяти была полезна стратегически – с ней легко вербовались и удерживались читатели, падкие на чувство умиления.
Две Книги Памяти и квартира в центре Саратова были обменены на опасную Книгу Ярости «Дорогами труда», способную пробудить состояние боевого транса даже в самом робком сердце.
Остальные Книги надо было ещё поискать. Большие надежды возлагались Лагудовым на дальние регионы страны и ближнее азиатское зарубежье, где Книги Громова теоретически могли сохраниться, потому что к началу девяностых на территории Центральной России, Восточной Украины и Белоруссии все лежащие «на поверхности» Книги были подобраны собирателями различных библиотек.
Когда же поиск затруднился, в ход пошли средства далеко не самые благородные. Всё чаще практиковались разбойные нападения на хранилища.
Примерно в то же время активизировались так называемые переписчики – читатели, копирующие Книги для продажи и личного обогащения. Переписчики утверждали, что действие копии не отличается от печатного оригинала.
Рукопись почти всегда содержала какие-нибудь ошибки или пропуски слов и оказывалась пустышкой. Не действовали и вроде бы исключающие погрешности ксероксы. Думали, решающее значение имеет полиграфия, и некоторые Книги были подпольно переизданы. О качестве репринтной «липы» ходила противоречивая информация. В любом случае повсеместно утверждалась мысль, что копия никогда не сравнится с подлинником.
Фальшивки спровоцировали множество стычек, в результате которых не одна оступившаяся библиотека прекратила существование. Переписчики были вне закона, их уничтожали свои и чужие. Но в одном они преуспели – появилось довольно много подделок.
Тогда же начались случаи вандализма. Продавались и обменивались оригинальные Книги с искусно удалённой страницей, вместо которой вклеивалась любая другая из похожей бумаги. Понятно, изувеченная Книга не действовала. Если раньше обычно ограничивались беглым просмотром Книги, то после таких инцидентов пересчитывали страницы, сличали их на предмет шрифта, качества бумаги.
Между библиотеками никогда не существовало особого доверия, никто не желал усиливать мощь конкурента. Обмены или продажи были весьма редки, и любое мошенничество вызывало кровопролитный конфликт.
Бой проводился в глухом месте, обставлялся торжественно – представители библиотек несли Книги, закреплённые на шестах, как хоругви. Вначале это были оригиналы, затем их частенько заменяли муляжами. Огнестрельное оружие категорически запрещалось. Речь шла не только о своеобразном ратном благородстве. Резаные или дроблёные раны для внешнего мира, с его моргами, больницами и правоохранительными структурами, всегда было проще замаскировать под несчастный случай, обычную «бытовуху». Пулевые ранения исключали любую иную трактовку. Кроме прочего, этот вид оружия был шумным.
Обычно в бою использовались предметы хозяйственного обихода – ножи мясницких размеров, топоры, молотки, ломы, вилы, косы, цепы. В целом отряды вооружались на манер крестьянского воинства Емельяна Пугачёва или чешских гуситов, и вид этих людей неизменно возвращал к идиоме «смертельный бой», потому что с косой и разделочным топором смерть была особенно ощутимой…
Лагудова же в последние годы, кроме ближайших соратников, никто не видел. Поговаривали, Валериан Михайлович затаился, опасаясь наёмных убийц из конкурирующих библиотек.
Шульга
Николай Юрьевич Шульга был пятидесятого года рождения. Рос пугливым и застенчивым, в школе учился хорошо, но отличался нерешительностью. В результате простудного заболевания у Шульги развился лицевой тик. Ему сделали несколько неудачных операций, оставивших глубокие шрамы. Шульга очень стыдился своего недостатка, усугублённого громоздкими очками. Товарищей он практически не имел. В шестьдесят восьмом году Шульга поступил в пединститут, но на третьем курсе бросил учебу и завербовался на северную комсомольскую стройку, где, по его словам, «людей ценят не по внешности, а за трудовое мужество».
Пару лет Шульга, ломая интеллигентскую натуру, был разнорабочим в нефтеразведке, труд оказался тяжёл и неинтересен, над ним всё равно посмеивались, потому что отнюдь не героического вида Шульга объяснял происхождение тика и шрамов неудачной охотой на медведя.
В семьдесят втором Шульга подрядился в партию промысловиков по пушному зверю. В бригаде было ещё два охотника и проводник из местного населения. Метель загнала их в избу и на месяц похоронила под снегом. Многовековой таёжный опыт предупреждал об опасностях коллективного заточения. Проводник сотворил заговор, чтоб люди от замкнутого отчаяния не постреляли друг друга.
Народное колдовство не сработало, пересиленное более могучим средством. Всё кончилось бедой. Прошлый жилец оставил, кроме солонины и дроби, с десяток книг вперемежку с газетами – на растопку. Шульга от скуки принялся за Громова. Ему досталась Книга Ярости «Дорогами Труда». В литературе он понимал мало, и унылость текста соответствовала его темпераменту. Так Шульга выполнил два необходимых Условия – Тщания и Непрерывности.
А после прочтения Книги в избушке началась смерть. Пытаясь скрыть преступление, Шульга расчленил убитых и отнёс в тайгу. Останки были обнаружены поисковой группой. Трупы удалось опознать. Шульга предстал перед судом. Вины он не отрицал, искренне раскаиваясь в содеянном. Чудовищный свой поступок истолковывал отравлением «соболиным ядом», который был у промысловиков, – чтобы не портить ценные шкурки, зверьков травили. Он утверждал, что яд каким-то образом попал ему в пищу.
Шульга рассказал, как при свече читал, а потом почувствовал «изменённость состояния», будто по всему телу пробежал кипяток.
Скорее всего, в адрес Шульги слетело обидное слово. К примеру, сказали: «Хватит, мудила дёрганый, свечки на херню переводить». Озлобленные вынужденным заточением люди особо не церемонятся с выражениями, а теснота даёт достаточно поводов для грубости.
Шульга испытал всплеск нечеловеческой агрессии, схватился за топор и порешил проводника и охотников. Через несколько часов гнев выветрился, пришло осознание содеянного.
Шульге сделали соответствующие анализы и никаких последствий яда в организме не обнаружили. Учитывая его раскаяние, помощь следствию и психогенный клаустрофобический фактор преступления, высшую меру заменили пятнадцатью годами строгого режима.
Грозная статья не помогла Шульге в лагере. Далёкий от уголовной казуистики, он, простодушно отвечая на расспросы, упоминал, что проучился «два года в педе». Долговязый, щуплый, в очках, с прыгающей щекой, ещё в следственном изоляторе получивший кличку Завуч, Шульга был идеальным объектом глумления. Подавленным невзрачным видом он сам определял себе статус в лагере – где-то между забитым «чушком» и «шнырём», вечным уборщиком.
Отчаяние и страх терзали Шульгу. Исправить что-либо в своей жизни он не мог. Это на фронте из разряда трусов реально было перейти в герои, совершив подвиг. Подвига или хотя бы поступка, сразу поменявшего бы его положение в уголовном мире, он не знал, да и не существовало, вероятно, подобного поступка.
Шульга сдружился в основном с такими же несчастными, как он, «чушками» или «обиженными». Соседи по бараку, рядовые «мужики», общались с Шульгой крайне неохотно, понимая, что тот дрейфует по иерархии вниз, и старались лишний раз не пересекаться с человеком, которому того и гляди за излишнюю беспомощность подарят «тарелку с дыркой» – то есть опустят.
Шульга, не знакомый с лагерной кастовостью, в расчёте на сокращение срока и какие-то поблажки клюнул на предложение администрации и вступил в секцию профилактики правонарушений. А потом узнал, что перешёл в разряд «козлов» – так называли зэков, согласившихся сотрудничать с лагерным начальством.
Шульга попал в «актив». С повязкой на рукаве он дежурил на КПП между «жилухой» и «промкой» – жилой и промышленной частями зоны. Учитывая хоть и незаконченное, но всё же гуманитарное образование и состояние здоровья – обострился лицевой тик, – Шульгу перевели на работу в библиотеку. Там было полегче.
Он сидел шестой год. В свободное время Шульга запоем читал, причём всё подряд, лишь бы занять ум. Страх поутих, и в минуты душевного или ночного затишья он часто задумывался над тем, что сделало из него, незлого робкого человека, убийцу. Воспоминания приводили к той погибшей в огне книжке в грязно-сером переплёте.
В лагерной библиотеке Шульга обнаружил громовскую повесть «Счастье, лети!». Это была совсем другая книга, не та, что он прочёл, но фамилию автора он не забыл. Воскресным вечером со свойственной ему дотошностью Шульга прочёл Книгу Власти. В какой-то момент он ощутил произошедшую с ним душевную трансформацию, его ум вдруг наполнился пульсирующим ощущением собственной значимости. Это новое ощущение Шульге очень понравилось, и, главное, он понял его источник и причины.
Шульга заметил: благодаря Книге он способен оказывать воздействие на окружающих, диктовать свою волю. Разумеется, менялся не мир вокруг, а человек, прочитавший Книгу, – таинственная сила временно преображала мимику, взгляд, осанку, воздействовала на оппонента жестами, голосом, словами. Можно сказать, Книга помогала Шульге вербовать души тех, кто входил в его круг общения, – «козлов», «чушков», «обиженных», «парашников», «шнырей», «петухов» – неприкасаемых уголовного мира.
Тем временем в лагере старую воровскую элиту постепенно вытеснило новое поколение молодых бандитов. Эти уже не чтили прежний неписаный закон, запрещавший унижать кого бы то ни было без причины. Школа беспредела, зародившаяся в лагерях общего режима, переходила и на относительно благополучный «строгач». Низшим кастам жилось теперь намного горше. Опускали ради забавы, от скуки. Поводом могло послужить всё что угодно – миловидная внешность, хилость, излишняя интеллигентность.
Однажды в лагере случился из ряда вон выходящий инцидент. Опущенный Тимур Ковров законтачил молодого подающего надежды авторитета – Ковров бросился на него и стал облизывать. Блатной до полусмерти избил «петуха», но былое уважение он навсегда потерял, и более того, «зашкваренный» сам пополнил ряды отверженных, и вскоре его нашли повесившимся. Ковров же отлежался в госпитале, и, как увечному, срок ему, по слухам, сократили.
Вряд ли кто обратил внимание – за два дня до странного покушения Шульга провёл беседу с Ковровым и подбил его на поступок. Этого Коврова опустили по подставе – как новичка усадили на «петушиный» стул в лагерном кинотеатре. И уж совсем никто не помнил, что ещё раньше тот самый авторитет открыто измывался над Шульгой, обещая «вогнать очкастому козлу ума в задние ворота».
Так Шульга изобрёл свой способ защиты от уголовного мира – через бессловесных, грязных, замученных существ, с отдельной униженной дырявой посудой, отчуждённым местом, чьим уделом было открывать рот и становиться в позу.
За месяц были законтачены несколько уважаемых людей – все те, кто когда-либо досадил Шульге. Надо заметить, блатные, опущенные «петухом-камикадзе», потом долго не жили, они резали вены, вешались, иначе бы их с изощрённой жестокостью насиловали давешние жертвы…
Шульга регулярно читал Книгу, дарящую ему на каждый день искусственную, но от этого не менее действенную харизму. Даже матёрые зэки, не понимая, что с ними происходит, пасовали перед Шульгой.
Информация о том, кто настраивает «опущенных» против братвы, дошла до самого пахана – среди изгоев нашлись доносчики. Пахан недоумевал: как чмошник вдруг начал излучать такую душевную мощь? Нутром он чувствовал: Шульга непостижимым образом мухлюет – и после долгих размышлений пришёл к правильному выводу. Ночью у Шульги выкрали Книгу. Пахан не разобрался с её секретом, но по сути оказался прав насчёт источника таинственного морока.
Утром Шульга обнаружил пропажу. А барачный шестёрка передал, что старшие вызывают Завуча на разговор. Шульга догадывался, чем закончится встреча, но неоднократно пережитое ощущение власти сделало его незаурядной личностью.
Разборка произошла на лесоповальном участке. Был февраль, и темнело рано. Пахан не ожидал сопротивления. С ним были всего один боец из ближайшего окружения и «бык», проигравший жизнь и ставший «торпедой» – он должен был устранить зарвавшегося Завуча. Впрочем, пахан предполагал, что до этого не дойдёт. Он собирался предложить Шульге повеситься, чтобы «бык» не брал грех на душу. Петлю уже приладили на подходящую ветку.
Шульга выглядел настолько поникшим, что никому не пришло в голову проверить его на предмет оружия. И напрасно. В рукаве ватника он спрятал увесистый обрезок стальной трубы, в который для тяжести был забит песок.
Пахан с удовлетворением отметил: Завуч больше не пульсирует самоуверенностью, и лишний раз удостоверился, что имел дело с шулером, жульничающим при помощи какого-то необычного гипноза.
Выслушав приговор, Шульга лишь поинтересовался, где находится сейчас Книга, обещая открыть её фантастический секрет. Заинтригованный пахан вытащил Книгу.
Шульга неторопливо зачерпнул рукой пригоршню снега, подождал, когда тот растает до воды, взмахнул рукавом, так, что труба скользнула ему в руку и намертво примёрзла к мокрой ладони. Первый удар он обрушил на голову «торпеды». Воры вытащили ножи, но дробящее оружие доказало своё преимущество. Шульге тоже досталось изрядно. Ему только хватило сил подобрать Книгу, затем он лишился сознания.
У поединка был тайный свидетель – заключённый Савелий Воронцов. Он уже давно находился под магическим влиянием Шульги и, чувствуя неладное, решил проследовать за ним, и не ошибся. Помощь Воронцова очень пригодилась истекающему кровью библиотекарю. Выкорчевав из руки Шульги обрезок трубы, Воронцов подкинул его убитому «торпеде» и дал сигнал тревоги.
После инсценировки картина была иной: проигравшийся в карты «бык» учинил расправу над воровской элитой, Шульга пытался вмешаться и получил ранение.
Начальство не особо поверило в эту байку, но приняло её как основную версию, тем более свидетелей было всего двое – Воронцов и раненый Шульга, и говорили они одно и то же. Месяц Шульга провёл на больничной койке, потом вернулся в лагерь.
Второе покушение Шульга смог пресечь превентивными мерами. Вор, готовящий ночное нападение на Завуча, днём был зашкварен пидором Волковым, на месте погибшим от ножа, но спасшим своего хозяина.
Блатные разумно предпочли больше не связываться с Шульгой. Уважать его не могли, но трогать человека, по одному слову которого авторитетного вора могли бы опозорить, тоже было легкомысленно.
С тех пор жизнь Шульги была подчинена однотипному уставу: утром он перечитывал Книгу и остаток дня властвовал над униженными. Администрация предпочла не вмешиваться в сложившуюся ситуацию. Шульга в роли социального противовеса наводил в лагере спокойствие и порядок, необходимые начальству, а за это ему оказывалась негласная помощь. Пока Шульга находился в лагере, блатные старались больше не допускать беспредела, и все касты относительно мирно сосуществовали.
Ближайшими соратниками Шульги по будущей библиотеке стали когда-то опущенный Тимур Ковров, чушки Савелий Воронцов, Геннадий Фролов и Юрий Ляшенко. Они освободились на несколько лет раньше Шульги. Сам он вышел в восемьдесят шестом, отсидев четырнадцать лет из пятнадцати положенных.
Шульга разыскал своих лагерных товарищей. В компании с ними он сразу приступил к активному собирательству Книг, раз сама судьба назначила его «библиотекарем». Поначалу в тайну он никого не посвящал, говорил иносказаниями и недомолвками. Даже преданному Коврову Шульга долго не раскрывал всей правды. Когда были найдены первые Книги Памяти и Радости, Шульга всегда присутствовал на чтениях, упирая на то, что эффект Книг достигается его присутствием.
Окружал себя Шульга привычным человеческим материалом, добывая его на социальном дне, по притонам и помойкам. Бывшие «парашники», «козлы», «вафлёры» под руководством Шульги стали опасной силой. Лагерные унижения породили у них лишь чувство сплочённости, непримиримой ненависти к обществу и одно большое желание мстить – кому угодно, всем сразу. Именно в контингенте было принципиальное отличие шульгинской библиотеки от других подобных образований.
В сравнении с тем же Лагудовым, делавшим ставку на интеллигенцию, Шульга опирался на отверженных. Кроме опущенных криминалов, рекрутов также набирали из разочаровавшихся сектантов, бомжей, собирателей бутылок, спившихся люмпенов последнего разбора, работоспособных инвалидов. Известно, что в библиотеку попала целая плотницкая артель глухонемых – полтора десятка здоровенных мужиков, ловко орудующих топорами. К началу девяностых количество читателей перевалило за сто пятьдесят.
Для финансирования клана «штатские» умело занимались привычным попрошайничеством, мелким грабежом, вымогательством. «Пехота» – посвящённые поисковики – добывала Книги.
Шульга не ошибся в выборе социальной среды. Великое заблуждение социума предполагало в отверженных душевную слабость, ненадёжность, трусость. Наоборот, отверженность сама по себе уже граничила с избранностью. Люди Шульги, ежедневно причастные Тайне, были по-своему не менее духовны и интеллигентны, чем те же инженеры Лагудова. С книгами Громова им открывался вход в иной универсум – таинственный, грозный, полный загадок и будоражащей мистики; там тоже шла борьба, было много опасных соперников, существовал житейский и боевой кодексы, оставалось место благородству, отваге. Всё решалось в честной, лицом к лицу, схватке, как в старинные времена. Была там душевная награда, куда более сильная, чем водочный приход, – надежда и вера в то неизведанное, что подарят в будущем найденные, ещё не прочитанные Книги.
Нет, конечно, не всё шло гладко. В восемьдесят девятом библиотека пережила раскол. Инициировали его Фролов и Ляшенко. Они утаили Книги Власти, найденные в одном из многочисленных поисковых походов. Фролов и Ляшенко возглавляли тогда экспедицию и, заполучив Книги, захотели личного лидерства.
Шульга понимал: любое жёсткое вмешательство в ситуацию только навредит. Раскол был неминуем, и, чтобы он не закончился кровавым финалом, Шульга сам решил возглавить его. Было проведено всеобщее собрание, на котором провозгласили образование ещё двух библиотек.
Разделение произошло мирно. По слухам, Фролов увёл сорок человек в Свердловск. Три десятка последовали за Ляшенко в Сочи. Шульга не обделил новых библиотекарей, выдал каждому стартовый капитал – по три Книги Памяти и Радости, чтобы новые библиотеки могли беспрепятственно вербовать читателей.
Из старой лагерной гвардии с Шульгой остались Ковров и Воронцов. Клан сократился наполовину, но единовластию Шульги на ближайшие сроки ничто не угрожало, Ковров и Воронцов были надёжны и никогда бы не помыслили занять его место. Библиотека Шульги обладала шестью Книгами Памяти, девятью книгами Радости, четырьмя книгами Терпения, Книгой Ярости и Книгой Власти.
Мохова
В конце восьмидесятых и в начале девяностых межклановые стычки за Книги были особенно кровавыми и частыми. Злобность библиотеки Елизаветы Макаровны Моховой стала легендарной. На истории этой женщины, во многом определившей судьбу всех собирателей Громова, следует задержаться особо, тем более что известно многое.
Мохова выросла в семье без отца, была замкнутой девочкой, училась средне, близких подруг не имела, с начальных классов отличалась болезненным самолюбием. Окончив медицинское училище, она два года была на иждивении матери, числясь где-то уборщицей, затем сдала экзамены на вечернее отделение фармацевтического факультета медицинского института. Днём работала в аптеке.
Получив в восемьдесят третьем году второй диплом, Мохова устроилась в дом престарелых.
Приготовление лекарств ей нравилось, в лаборатории было прохладно и тихо. Среди порошков и пробирок Мохова тайно упивалась скрытой властью над дряхлыми подопечными, осознавая, что одного её желания достаточно, чтобы превратить лекарство в смертельный яд, причём без возможности уличить отравителя – Мохова была прилежной студенткой и разбиралась в тонкостях своего ремесла.
Иногда Мохова, шутки ради, подсыпала в кожную протирку от пролежней какой-нибудь едкой дряни, воображая, как скребётся в постели та или иная бабка, пытаясь дотянуться артритной лапкой до источника огненного зуда, или часами таращится в чёрный потолок, пытаясь заснуть после успокаивающего порошка, наполовину состоящего из возбуждающего организм кофеина.
В таких забавах прошло ещё несколько лет. Замуж Мохова не вышла, причём обвиняла она в этом мать, с которой проживала совместно. То ли от упрёков, то ли от внутренней тоски мать умерла. Без её пенсии денег на жизнь уже не хватало, и Мохова дополнительно устроилась на полставки медсестрой в женское отделение.
Там пришлось поначалу несладко. В палатах стоял тяжёлый смрад – лежачие старухи оправлялись под себя. Ежедневно подмывать по нескольку раз добрую сотню пациенток не представлялось возможным, и некоторые санитарки предпочитали держать окна открытыми, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Поначалу старухи простужались и мёрли, но оставшиеся в живых, наоборот, закалились, и в холода больше коченел персонал.
Борясь с вонью в её первопричине, санитарки частенько недокармливали особо неопрятных. Единственное, в чём старухам не отказывали, так это в пище духовной. Им всегда выдавали газеты, журналы «Здоровье», «Работница» или книги, имевшиеся в библиотеке.
Мохова быстро освоилась с новой работой, причём проблему запахов она устранила намного гуманнее своих коллег. Профессия подсказала выход. Мохова приготовила крепительное средство, которое санитарки добавляли старухам в пищу, после чего даже самые заядлые какуньи оправлялись козьим помётом, причём не чаще раза в неделю.
Решающей вехой в жизни Моховой стал день, когда в руки восьмидесятилетней Полины Васильевны Горн попала редчайшая Книга Силы, в миру «Пролетарская».
Горн второй год как впала в старческое слабоумие. Она мало говорила, потеряв навыки речи, но память сохранила возможность читать. Она плохо понимала слова, но ещё умела строить их из графических знаков. Смысл ей был уже не нужен. От бессонницы Горн прочла всю Книгу Силы, выполнив два Условия, и встала как Лазарь. Книга возвратила ей на время прыть и часть разума.
Мохова заглянула на шум и увидела дикую сцену.
Всегда лежащая в обмаранной ночнушке, Горн носилась между коек семенящим аллюром, хватала всё, что попадётся под руку. Вдруг, неожиданно остановившись посреди палаты, Горн мучительно выкрикнула, словно выбила пробку из немого горла: «Илья Эренбург!» – и насильственно захохотала. Потом слова посыпались одно за другим, точно градины по жестяной крыше: «Давненько! Получилось! Военный, военный! Дамский! Сырой! Дамский! Что называется, забыла!!!». Она пыталась называть встречающиеся ей предметы, но память плохо подчинялась, и Горн вслух описывала их свойства. Выхватив из-под соседкиной головы подушку, она рычала: «Кубашка?! Кадушка?! Мягкое, удобненько!!! Заспанка!» Или, опрокинув коробку со швейными принадлежностями, выкрикивала: «Пёрсток, непёрсток! Чтоб не колко! Уколка!».
Начали просыпаться другие старухи, и Мохова собралась подвязать Горн и сделать ей инъекцию успокоительного.
Горн увидела мутный шприц в руке Моховой, и глаза её вспыхнули злобой. Она не отважилась напасть на Мохову и предпочла отступательную тактику. Горн, точно коза, легко скакала через тумбочки и койки. Мохова, хоть и была моложе на полвека, просто не поспевала за ней. Стыдясь своей медлительности, она срывала злобу на проснувшихся бабках, которые наблюдали за погоней, поднявшись на кроватях, как игрушечные встаньки. Она развешивала во все стороны хлёсткие пощёчины, зная: склероз несчастных старушек не выдаст правды.
Мохова долго бегала со шприцем за прыткой Горн, мечтая побыстрее вколоть леденящее бод-рость лекарство. Наконец Мохова загнала Горн в угол и повалила на тумбочку. Горн яростно отбивалась, скинув тапки, по-звериному царапаясь сразу четырьмя конечностями. Хрипела она почти осмысленно: «Измажешь! Проститутка! Заразишь! Блядь! Сколько тебе лет?!» – и крючковатые ногти, похожие на янтарные наросты, драли медицинский халат Моховой.
После ночного укола Горн пролежала неподвижно два дня, чуть ожила и к третьему вечеру потянулась за книжкой. Мохова не мешала ей, лишь иногда приходила в палату и слышала прерывающееся бормотание – Горн монотонно читала книгу.
Около полуночи из палаты снова донёсся грохот. История повторилась с той разницей, что Горн ещё более окрепла и уже не убегала, а приняла фронтальный бой.
Вскоре Горн лежала, прикрученная ремнями к кровати, и дико ворочала головой, на которой вспухал багровый ушиб.
Моховой досталось не меньше, чем лермонтовскому Мцыри от битвы с барсом: на шее, лице, груди, руках кровоточили глубокие царапины. Мохова придирчиво следила за своей внешностью, и раны привели её в ярость.
Мохова подскочила к кровати и с размаху треснула Горн в челюсть. Кулаком она почувствовала, как кракнул, ломаясь, зубной протез.
Старуха вытолкнула опухшим языком два обломка и вдруг внятно сказала: «Не бей, Лизка!».
Мохова было занесла руку для второго удара… Старуха заворочалась и решительно добавила, членя предложения на рыкающие слова: «Буду. Слушаться. Читай. Книгу. Там. Сила».
Горн рассказала Моховой всё, что она поняла о Книге. Мохова не сразу поверила словам Горн, но утёрла ей кровь и приложила к ушибу холодный компресс. Весь следующий день Мохова что-то обдумывала, затем вызвалась вне очереди на ночную смену. Санитарка, полагавшаяся Моховой в помощь, была отпущена домой.
Мохова не собиралась читать Книгу сама, рассчитывая, что это ещё раз проделает Горн, за которой она приготовилась вести наблюдение. Но ушиб сказался на здоровье Горн: когда действие Силы кончилось, Горн не пришла даже в прежнее вялое состояние полубезумия, а только спала и постанывала.
Усевшись неподалёку от Горн, чтобы следить за её реакцией, Мохова стала читать вслух. Это оказалось непросто, голос постепенно становился хриплым, внимание улетучивалось. Но Мохова, проучившаяся в училище и вузе, умела зубрить.
К началу ночи Мохова одолела Книгу. В палате царила тишина. Мохова посмотрела на Полину Горн и вздрогнула от неожиданности. Старуха уже сидела на кровати, свесив ноги, похожие на чёрные ветки.
«Лизка!» – рявкнула Горн, впрочем, вполне миролюбиво, и заметалась по палате от переизбытка силы.
Вдруг остальные старухи стали подниматься. Спина Моховой похолодела. Книга ещё не начала действовать на неё. Чтение вслух, направленное не в себя, а наружу, замедлило эффект.
Выскользнув в коридор, Мохова закрыла палату на ключ и приставила к двери стул, чтобы через верхнюю застеклённую часть дверной рамы наблюдать за происходящим.
Увиденное было и страшным, и забавным. Старухи совершали чрезвычайно сильные, размашистые движения руками, похожие на самообъятья, ноги выскакивали вперёд, точно у сторожевых солдат Мавзолея. На лицах при этом сменялись самые невозможные гримасы. Иногда старухи выпаливали какие-нибудь слова: «Кишечник», «Здоровье», «Трудовые заслуги» – или просто хохотали.
Как и Горн в первую ночь, они называли окружающие их предметы.
«Кандаш, Ракандаш! – выкрикивала кудлатая старуха, глядя на шариковую ручку. – Письма делать!»
«Лампонька!» – вопила другая, уставясь в потолок.
Третья скандировала: «Чайникчек! С водичкой тёплой!».
Четвёртая, схватив будильник, сосредоточенно хрипела: «Хон! Хон! Телехон! Не помню!» – и рычала от ярости: «Времечко!».
Сталкиваясь между собой, старухи пытались знакомиться: «Как фамилия? Анна Кондратьевна! Забыла, что хотела! Сколько лет? А меня зовут Тарасенко! А фамилия?! Крупникова. В общем, хорошее было платье! И питались хорошо! Что вы ели? Ваша фамилия Алимова? Галина! Алимола? Я же сказала, казала, лазала! Зовут Галина? Галила. Далила. Сколько вам лет? Шесть и два рубля. Нет, и три рубля!».
Увидев прильнувшее к дверному стеклу лицо Моховой, старуха с будильником свирепо закричала: «Зеркало!».
Страх покинул Мохову. Она почувствовала Силу. С той секунды Мохова уже думала над тем, как применить открывшееся свойство Книги. Уж конечно, она не собиралась писать сенсационную статью в медицинский журнал.
Мысли её оборвал тяжёлый удар в дверь. Старухи построились живым тараном, намереваясь выйти на свободу.
Мохова не боялась встречи. Она уже знала, что озверевших старух можно усмирить и подчинить. Горн была тому примером. Мохова заранее приготовила дубинку – обрезок высоковольтного кабеля с тяжёлой оловянной начинкой проводов.
Дверь сотряс удар. Заскрипели по линолеуму колёсики кроватей. Мохова поняла этот тактический замысел, когда вылетело стекло над дверью и в оконном проёме повисла старуха. Панцирная сетка койки отлично выполнила функцию батута и подбросила старуху на два метра вверх. В раме были остатки стекла, и старуха напоролась на них животом. Блея от ярости, она, однако же, пыталась ползти. Кровь перевёрнутыми гималаями медленно заливала дверь, и казалось, что старуха пустила красные корни.
Второй десант был послан более удачно. Сначала в разбитом окошке засновала швабра, выбивая осколки. Скрипнула панцирная сетка, в проём влетела новая старуха и полезла вниз по двери в коридор.
Мохова не дала ей выползти и оглушила ударом дубинки. Затем сама открыла дверь и отскочила на несколько метров.
Старухи кубарем выкатились из палаты и окружили Мохову. Горн встала возле двери, показывая, что в схватке не участвует.
Старухи бесновались и выли, но не решались напасть. Каждую, кто скалился, как перед прыжком, ожидала дубинка. Наконец старуха по фамилии Резникова взяла на себя лидерство.
Выступив вперёд, она шваброй отбила удар. Подняла руку, призывая к тишине. Мохова не торопилась и дала ей высказаться. Послышалось какое-то подобие речи: «Тут, во-первых, первым делом! Нужно делать! Так же, как и у вас, в тот раз! Сегодня я делала, как называется, забыла! Я сегодня очень плохо делала!».
Старухи одобрительно зашумели в ответ на эту галиматью, только Полина Горн насмешливо спросила: «Резникова, ты замужем?».
«Пятый год!» – огрызнулась та, потом свирепо обернулась к Моховой, вскинув швабру.
Свистнул тяжёлый кабель, и на стену изо рта Резниковой плеснуло бурой дрянью. Мохова повторно замахнулась, и старухи, недовольно поскуливая, поплелись в палату.
Усмирение обошлось малыми жертвами: у Резниковой была сломана челюсть; старуха, застрявшая на стёклах в дверном оконце, получила глубокие порезы на животе. Их перенесли на кровати, и Мохова оказала раненым первую помощь.
Вскоре действие Книги исчерпалось, и старухи, словно механические куклы, в которых закончился завод, попа́дали там, где стояли.
Мохова перетащила тела в палату и уложила в койки, отмыла от крови дверь и подмела стекла.
Второе коллективное прочтение уже не сопровождалось вспышками агрессии против Моховой. Старухи полностью покорились ей, и во многом это была заслуга Горн, воздействующей на товарок и уговором, и дубинкой, которую Мохова лично передала ей, наделяя местной властью.
К Полине Горн не вернулась прежняя болтливость, ум её стал рациональным, а мысли – лаконичными.
По совету Горн Мохова всю неделю проводила новые чтения в разных палатах. Для подавления возможных очагов бунта на чтениях присутствовала сама Горн и с десяток укрощённых старух.
Дружина росла с каждым дежурством Моховой. Книга действовала на дряхлые организмы благотворно. В обычном состоянии старухи, конечно, не обладали и сотой частью той силы, которую им давала Книга, но ум пребывал в относительной ясности.
Чудесный эффект Книги они частично перенесли на Мохову. Они были старые, одинокие, позабытые собственными детьми, и в сердцах их теплилось нерастраченное материнство. Но не крикливо повелевающее, а жертвенное.
Горн уловила эти настроения в среде старух. В ближайшую ночь Мохова была наречена «дочей», а старухи назвались «мамками». Горн тщательно продумала ритуал удочерения. Он был не особенно приятен и гигиеничен, с точки зрения Моховой, но Горн уговорила её потерпеть.
Каждая старуха мазнула Мохову по лицу своими влагалищными выделениями, как бы символизируя этим, что Мохова появилась на свет через её утробу, и поклялась оберегать «дочу» до последнего вздоха.
Ритуал прошли шестьдесят старух. Два новообращённых десятка следили за ними, беснуясь и рыкая; их тем временем усмиряли надсмотрщицы, вбивая подзатыльниками мысль, что наибольшее счастье, которое им может выпасть, – это вскоре стать «мамкой».
В ту же ночь Горн сказала Моховой: «Персонал! Убрать!» – и провела ладонью под горлом, имитируя ход мясницкого ножа.
Пришла пора действовать решительно. Кто-то настучал директору о ночном шуме, разбитых стёклах и синяках. Было очевидно, что эти ЧП происходили в смену Моховой, и ей могли грозить серьёзнейшие неприятности. Для операции у Моховой была верная Горн и дружина общим числом около восьмидесяти старух.
Мохова сообщила директору Аванесову, что собирается провести в выходные в женском отделении развлекательное чтение, по её мнению, необходимое старым пациенткам. Аванесов не возражал.
В одиннадцать часов дня женская половина до-ма престарелых пришла в движение. В коридорах стоял непрекращающийся скрип перекатываемых коек. Ходячие старухи везли лежачих подруг к месту общего сбора.
Мохова уже приобрела опыт внятного скорочтения и уложилась в рекордные сроки. С верхнего мужского этажа несколько раз спускались любопытные медсёстры. Им отвечали, что обо всём договорено с начальством. Так или иначе, Мохова выиграла три часа. И когда дежурная медсестра позвонила директору домой и доложила о столпотворении, устроенном Моховой, было поздно.
Аванесов подъехал к заключительным страницам. Он коротко приказал развести пациенток по палатам. Мохова только возвысила голос. Аванесов повторил приказ – и снова безрезультатно. Он пригрозил Моховой увольнением за творящийся произвол. На его крики сбежались медсёстры и санитарки. Взявшись за спинки кроватей, они покатили старух в палаты. Видя, что Мохова не реагирует на его слова, директор направился к ней. И тут Мохова выкрикнула: «Конец!» – и захлопнула Книгу.
В ту же секунду старуха Степанида Фетисова выхватила из вены своей соседки Ирины Шостак подведённую капельницу и ловко набросила эту импровизированную удавку Аванесову на шею. Лишившись притока лекарства, Шостак впала в кому, из которой вышла спустя минуту, после того как подействовала Книга.
Восставших было не остановить. Началась бойня, и задушенный капельницей Аванесов стал первой жертвой.
Армия Моховой получила боевое крещение по месту жительства. Для расправы достались четыре медсестры, пять санитарок, три поварихи, две посудомойки-раздатчицы, завхоз, сторож, он же по совместительству электрик и сантехник, и все пациенты мужского отделения, общим числом до пятидесяти.
Старух заранее поделили на десятки. Во главе каждого стояла «мамка-десятница», которая, в свою очередь, управлялась приказами Моховой или Горн.
Два отряда срочно отправили во двор – охранять ворота и забор: никто не должен был улизнуть.
Были блокированы подступы в кабинет директора и приёмную, чтобы исключить возможность телефонного звонка. В подсобке у сторожа Чижова, где тот в последний раз в жизни распивал горькую, изъяли колун, плотницкий топор, небольшую кувалду, отвёртку с длинным стержнем, лом, совковую лопату и лопату для уборки снега.
Старухи проникли на кухню. Там нашлось полдюжины ножей и разделочный топорик, которым сразу же безжалостно порешили двух поварих и посудомоек. Третья повариха, по фамилии Анкудинова, здоровенная баба, раскидав могучими руками старух, смогла пробиться к выходу и скрылась где-то на этаже. Её пока не преследовали.
Режущее оружие выдали самым сильным старухам, привыкшим в прошлой сельской жизни резать скотину и птицу. Кувалду получила крупная особь пролетарского происхождения, бывшая монтажница.
Отряды смерти рассыпались по этажам. Напрасно медсёстры думали спастись, запираясь на ключ в палатах. Кувалда вышибала дверь, и в брешь, толкаясь и рыча, лезли старухи. Они валили женщин на пол и, не имея холодного оружия, рвали руками, грызли вставными челюстями или, сняв с костыля резиновый набалдашник, смягчающий удары, били деревянным основанием в лицо, грудь, живот.
Трём санитаркам удалось пробраться на крышу и задраить за собой люк. Они попытались спуститься по пожарной лестнице. Старухи, готовые сами погибнуть, но не допустить побега, выпрыгивали из ближних окон, намертво цепляясь за халаты беглянок. Санитарки, увлечённые дополнительной тяжестью, с визгом срывались с лестницы и падали, ломая кости.
В мужском отделении десяток старух с подушками бегали от койки к койке и душили парализованных стариков. Ходячих, по приказу Горн, сбивали в кучу и гнали на ножи. Старики покорно шли, как бараны, не предпринимая попыток спастись.
Только одному удалось сбежать – ветерану войны, полковнику в отставке Николаю Каледину. Он, несмотря на возраст, сохранил способность думать и сражаться.
Каледин, повариха Анкудинова, санитарки Басова и Шубина, завхоз Протасов оказали достойное сопротивление. Они сумели пробиться к пожарному щиту и добыли два лома и багор.
С мужеством, достойным Евпатия Коловрата, маленькая группа несколько раз прорывалась сквозь строй старух, но уйти было некуда. Первой пала Шубина, потом погиб завхоз. Повариху Анкудинову, санитарку Басову и полковника припёрли к стене и удерживали выпадами костылей на расстоянии, пока не подтянулись старухи с топорами и ножами.
На койки навалили трупы, чтобы усилить ударную мощь. Гружённые телами, они врезались, как мчащиеся на таран грузовики. Полковник, Анкудинова и Басова были вмяты в стену. Упавшего Каледина сразу прикончили, а мужественных повариху и санитарку Мохова приказала не добивать.
Женщины были немолоды, отличались выдающейся силой и боевой хваткой – об этом сообщила Моховой Горн, и она же предложила переманить Анкудинову и Басову на свою сторону.
В итоге Дом был взят меньше чем за час. Армия Моховой потеряла убитыми всего шестерых «мамок». С десяток получили несерьёзные ранения.
В понедельник на работу вышла новая смена – докторша, старшая медсестра, санитарки. Этих уже просто взяли в плен, запугали и поработили. Новые жертвы были не обязательны, старухи и так почувствовали силу.
Парадоксально, но о кровавом захвате никто не узнал. Здание находилось на городском отшибе. Стариков мало кто навещал. Последняя проверка была за месяц до захвата, и комиссию следовало ожидать не раньше нового года. Да и время наступало смутное, властям было не до престарелых.
Мохова внимательно ознакомилась с личным делом каждого убитого работника Дома. Персонал подобрался бессемейный.
Пожилой директор Аванесов был одинок. В его квартиру подселили старуху, назвавшуюся родной сестрой. Для возможных посетителей и ревизий имелись сломленные докторша и старшая медсестра. На совещания в собес Мохова ездила сама, предоставив фальшивое письмо с печатью Аванесова.
Благодарным материалом оказались санитарки – женщины, приехавшие двадцать лет назад из глухих деревень, полностью списанные роднёй со счетов. Жизнь их не сложилась, они тяжело работали, замуж не вышли, прозябали в общагах. Туда Мохова направила соответствующие письма, мол, такая-то наконец получила площадь.
Сторож Чижов, две одинокие медсестры и посудомойки временно проживали во флигеле на территории Дома, так что с ними проблем вообще не возникло. Мертвецам ещё долгие годы начисляли зарплату, а потом задним числом уволили.
От имени завхоза Протасова состряпали документ, что он завербовался на работу где-то на Урале. В какую-то глушь по фиктивным бумагам спровадили умерших поварих. Сожителю одной медсестры послали поддельное письмо якобы от неё, что она уезжает с любовником на Дальний Восток. У второй разведённой медсестры из родственников были лишь мать и сын. С ними покончила подосланная старуха-смертница, отравившая своих жертв и себя угарным газом.
Оставались многочисленные мёртвые старики и связанные с ними погребальные проблемы. Старухи, даже усиленные Книгой, не смогли бы оперативно закопать столько покойников. Мохова просто договорилась об экскаваторе, пояснив, что нужно рыть котлован для новой прачечной.
Экскаватор вырыл за день яму, и в неё свалили трупы. Близких у стариков не было, а если таковые бы вдруг и объявились, то на этот случай была соответствующая запись о смерти.
Захваченный Дом стал цитаделью Моховой – с гражданской точки зрения, практически неприступный, с трёхметровым забором и прочными воротами. На проходной всегда сидела бессонная вахтёрша, забор патрулировал вооружённый наряд.
Армия отличалась железной дисциплиной и послушанием. Моховой нашлось что противопоставить и сборной интеллигенции Лагудова, и люмпенам Шульги, – принцип коллективного материнства оказался надёжной идеологической платформой.
Бывшая доцент кафедры марксизма-ленинизма Полина Васильевна Горн знала многое, в частности и то, что без генеральной линии ни одна организация долго не просуществует. «Обещай им вечную жизнь. А там посмотрим», – надоумила Мохову Горн.
Мохова построила во дворе свою дружину и поведала о Книгах и Великой Цели. Из её рассказа получалось, что всякий, кто пребудет с Моховой до конца, получит в награду вечность. Старухи, услышав это сомнительное благовестие, огласили плац ликующим рыком. У них появилась Великая Мечта.
Моховская угроза
Книги Громова ещё надо было разыскать, и в этом деле Мохова достигла необыкновенных успехов. Она начала значительно позже своих конкурентов, но довольно быстро наверстала упущенное и обогнала ведущие библиотеки в собирательстве.
Старухи, как в песне о «стальной птице», проникали туда, где не промчится бронепоезд, не проползёт угрюмый танк и не пройдут поисковые отряды вражьих кланов.
Старушечий мир был отдельной вселенной, обширной и богатой возможностями и связями. Знакомства старух опутывали страну. «Мамки» писали письма, садились за телефон, слали телеграммы приятельницам. Нередко банальные посиделки у подъезда приносили больше пользы, чем месячные рейды, предпринимаемые поисковиками того же Шульги или Лагудова. Везде находились Марьи Ивановны, имеющие доступ к информационным закромам: скромные уборщицы, вахтёрши библиотек и архивов, прирабатывающие жалкие полставки к пенсии. Этих всюду проникающих женщин соперники Моховой с ненавистью называли «швабрами».
Старухи опутали шпионской сетью громовский мир. Они легко перехватывали вражеских добытчиков, когда те, ничего не подозревающие, с добычей возвращались домой. Опаивали до смерти в поездах, подстерегали на ночных полустанках, в чёрных подъездах, на безлюдных улицах. Книги потекли к Моховой.
Если бы библиотеки не предприняли контрмер, Мохова наверняка бы получила собрание сочинений. Говорят, что именно для неё похитили список громовских книг из Ленинки, но он не дошёл до Моховой – и в этом была заслуга не существующего ныне клана Степана Гурьева, бывшего золотодобытчика.
Его библиотека обитала на Алтае, возле приисков Багряный и Северный. Прииски были давно оставлены, и «читатели» разработали их по новой, добывая средства на жизнь и поиск Книг. Люди в гурьевской библиотеке попались бывалые. Известно, что приисками случайно заинтересовались залётные чеченцы. Самонадеянных выходцев с Кавказа сожгли, заманив в барак-ловушку…
Гурьевцы поймали курьершу с материалом. Старуха проявила исключительную жертвенность и успела съесть картонные таблички. Курьерше вскрыли пищевод, надеясь как-нибудь восстановить карточки. Были извлечены совершенно изжёванные, нечитаемые клочки, но по числу карточек можно было предположить, что Книг в природе семь.
Поиски требовали не только терпения, но и денег. Мохова своевременно устроила главным бухгалтером в собес своего человека. Ловкая бухгалтерша сделала так, что Дом как бы исчез из поля зрения официальных властей и при этом ещё многие годы находился на государственном финансировании.
Дом вмещал до четырёхсот «мамок». Поток пенсионеров не прекращался: мужчин, по установившейся привычке, сразу морили, а женщин ставили под ружьё.
Через два года Мохова обладала самой многочисленной и мощной армией среди всех кланов. Кроме прочего, возрастной состав «мамок» сравнительно помолодел. Мохова, на примере поварихи Анкудиновой и санитарки Басовой, поняла, что армия нуждается в более молодых рекрутах. Ветхие старухи показали себя отличными бойцами, но лишь когда Книга преображала их. В остальное время армия слабела в большинстве своём на две трети. Буквально через неделю после захвата Дома пошла вербовка свежих сил.
Идея вечной жизни в собственном теле во многом пересекалась с идеологией «Свидетелей Иеговы». Может, поэтому Мохова часто пополняла ряды средних лет сектантками – те охотно перемётывались на её сторону, предпочтя нож и топор распространению глупых брошюрок.
Старухи привлекли своих пожилых, но ещё крепких дочерей. Полуспившиеся, разведённые, просто одинокие, озлобленные на весь мир, они навсегда оставались в Доме, выбрав борьбу за бессмертие.
Сражаться никого не учили. Горн разумно допустила, что нет смысла нарушать старые рефлексы. Женщины получили в руки то, с чем имели дело всю жизнь. Деревенские бабы одинаково хорошо управлялись с топором, ножом, косой и цепом. Бывшим труженицам депо, заводов, строек, дорожным работницам выдали родные оранжевые безрукавки, ломы, кувалды, лопаты и кирки.
Надо сказать, вера в женскую слабость всегда была серьёзным заблуждением. За годы тяжёлого труда каждый организм накапливал в себе огромные мускульные силы. Женщины дряхлели психологически, забыв, что раньше они без устали махали ломами и топорами на стройках, таскали шпалы и части рельсов на железнодорожных работах, волокли вёдра и носилки, полные неподъёмного раствора.
Никого же не удивляла способность китайского мастера боевых искусств, тщедушного дедка, управляться с десятками молодых противников. Всю жизнь проработавшие женщины тоже обладали огромным физическим потенциалом. Нужная Книга только помогала вспомнить притупившееся ощущение Силы.
Пехота дорожных работниц и колхозниц, чьи тела, казалось, состояли из налитого, как свинец, мяса, разгромила кланы бывших соратников Шульги – Фролова и Ляшенко. Особенно отличилась в кровопролитных походах пятидесятилетняя крановщица Данкевич Ольга Петровна. Она настолько окрепла, что предпочла себе в оружие крюк от подъёмного крана, который держался на трёхметровом тросе. Удар этого кистеня уложил бы и носорога. Не один десяток читателей, включая и библиотекарей, приняли смерть от её чудовищного крюка.
Когда был ликвидирован клан Гурьева – Мохова жестоко отомстила за вскрытый пищевод курьерши, – стала очевидна нависшая угроза. Именно с того времени пожилая женщина надолго сделалась символом опасности, синонимом жестокого коварства.
В девяносто пятом году библиотеки объединились против тирании Моховой. У коалиции имелась ещё одна немаловажная задача – отбить Книгу Силы, находящуюся в распоряжении Моховой. Поговаривали, все всплывающие Книги Силы старательно уничтожаются, и, возможно, эта и без того редчайшая Книга теперь в единственном экземпляре. Как потом её собирались делить между собой библиотеки – неясно.
Высказывалось мнение, что Книгу Силы надо будет сжечь либо она должна стать общей, правда, никто не уточнил, каким образом. Этот вопрос замяли, чтобы не вносить сумятицы. В любом случае все были единодушны – с Моховой надо покончить.
Коалиционное войско включало в себя отряды шестнадцати библиотек – около двух тысяч человек из различных городов: Саратова, Томска, Перми, Костромы, Уфы, Красноярска, Хабаровска, Липецка, Свердловска, Пензы, Белгорода, Владимира, Рязани, Воркуты, Казани, Челябинска. К ним присоединились шестьсот ополченцев, выставленных читальнями.
Мохова бросила в бой почти тридцать сотен «мамок». Сама она благоразумно не участвовала в битве. Дружиной командовала Полина Горн.
Библиотеки и читальни
Читальней называлось небольшое формирование вокруг какой-нибудь Книги: Радости, Памяти, реже – Терпения.
Весь громовский мир начинался с таких маленьких общин. Появлялся одиночка, проникший в тайну Книги, и вокруг него образовывалась читальня – товарищи, которым он решился довериться. Если кто-то семейный попадал в читальню, то вскоре его близкие тоже оказывалась там, и к этому относились терпимо. У каждой верёвочки был свой конец, и на определённом этапе коллектив переставал пополняться.
Читальня была фундаментом, на основе которого могла со временем возникнуть библиотека. Случалось и обратное: в результате разборки небольшой по размерам клан сокращался до читальни.
Публика подбиралась разная, всех возрастов и профессий. Каждый читатель был свободен морально и, что немаловажно, финансово. Этим читальня выгодно отличалась от библиотеки, где люди отдавали часть зарплаты, так называемый взнос, на поиск Книг и поддержку организационных структур.
Как и в библиотеке, в читальне имелся руководитель – он назывался библиотекарем. Это был владелец Книги либо тот, кому читальня Книгу доверила. В планы читален не входил поиск Книг, люди удовлетворялись тем, что имели, соблюдая честную очерёдность.
Поначалу библиотеки и читальни не пересекались, хотя и знали друг о друге. Потом библиотеки накопили силы и Книги. Существование конкурентов противоречило их тоталитарным планам.
Читальни шантажировали и запугивали. Предлагали добровольно сдать Книгу, обещая место в библиотеке. Иногда Книги экспроприировали. У откровенного разбоя имелось официальное объяснение: читальни были объявлены рассадником переписчиков, и руководители крупных библиотек призывали остановить копирование любой ценой.
Из чёрного ниоткуда появились факельщики – исчадия, порождённые волей больших кланов. Факельщики нападали на читальни, выкрадывали Книги и сжигали. На библиотеках эти потери практически не отражались, в хранилищах во множестве имелись запасные экземпляры, а вот обездоленным читателям, лишённым единственной Книги, была одна дорога – в библиотеку.
На фоне этой противоречивой ситуации вознеслась на громовский небосклон звезда Моховой. После нескольких удачных налётов старух на хранилища влиятельных библиотек стало понятно – большой битвы не избежать. В северной полосе России нашли подходящее поле возле заброшенной деревни Невербино.
И тогда представители нескольких кланов, в том числе Лагудова и Шульги, обратились к читальням. За помощь в борьбе с Моховой в будущем им обещалась полная неприкосновенность. Поэтому под Невербино собралось столько добровольцев. Они съехались изо всех уголков страны, чтобы с оружием в руках постоять за свои читальни и Книги.
Невербинская битва
Отряды коалиции были организованы примитивно, по образцу русских войск на Куликовом поле. В штабе сидели люди, далёкие от современной тактики, но, как выяснилось позже, довольно практичные.
Авангардом построения были сторожевой и передовой полки, состоявшие из читален. За ними располагался большой полк, укомплектованный дружинами шести библиотек, с боков его прикрывали полки правой и левой руки, в каждом – по четыре сводных отряда. За большим полком укрывался клан Шульги, назвавшись запасным полком, а засадным полком в леске неподалёку стал отряд клана Лагудова, чья отборность в качестве войск была тоже относительной.
Из потайных хранилищ были извлечены Книги Терпения. Специальные чтецы, собрав вокруг себя группы человек по пятьдесят, срывая голос, прочли Книги, зарядив тела невосприимчивостью к ранам.
Аллюзии Куликовской битвы отразились в несостоявшемся поединке, на который вызвала всех желающих крановщица Данкевич, вращая над головой жутким крюком. Но в библиотеках не отыскалось своего Пересвета.
Бой начался около двух часов ночи. Накачанные силой «мамки» пошли в наступление на сторожевой и передовой полки. Понеся тяжёлые потери, ополченцы отступили.
На пригорке, в окружении гвардии, отдавала приказы Полина Горн. Увидев, что фронтальная атака исчерпала себя и грозит перейти в невыгодный затяжной бой, Горн, создавая численный перевес на фланге, бросила шесть сотен на полк левой руки, и он перестал существовать уже через пятнадцать минут, раздробленный молотками железнодорожных работниц.
Запасной полк Шульги, в чью обязанность входило не допустить обхода с фланга, оставил на произвол судьбы левый полк и, обогнув правый, устремился к возвышенности, где находилась ставка Горн.
Отряды, возглавляемые могучей Данкевич, вышли в тыл объединённых войск, создав реальную угрозу окружения. В спину прорвавшимся «мамкам» ударил засадный полк Лагудова. Внезапное введение в бой свежих сил незначительно изменило ситуацию. Коалицию спасло время. Действие Книги Силы частично исчерпалось – Книгу старухам прочли загодя, чтобы обеспечить силой, необходимой для марш-броска от железной дороги до Невербино.
В жестокой схватке пали телохранительницы Горн. Старуха, очень похожая на Горн, оказалась оттеснена бойцами Шульги. Она сражалась отчаянно, пока Шульга, подзуженный Книгой Ярости, не раскроил внезапно ослабевшей противнице голову.
Гибель военачальницы послужила сигналом массового бегства моховского воинства. Слабеющих на ходу старух гнали, как Мамая, до железнодорожной станции. Уцелело не больше нескольких десятков.
Ходили сплетни, что Горн удалось выжить – погиб двойник, сама же Горн и две дюжины ближайших соратниц, сохранивших прыткость, скрылись и спустя несколько дней благополучно добрались до своей цитадели – Дома престарелых. Но эту информацию предпочли не афишировать.
Многие кричали – мол, следует добить Мохову в её логове и взять Дом штурмом, иначе гидра отрастит новые седые головы, но это предложение замяли, аргументируя тем, что с Моховой покончено, у неё «вырваны зубы» – на месте ставки Горн был найден обгоревший обрывок Книги Силы. Считалось, что Горн, чуя поражение, уничтожила уникальный, вероятно, единственный экземпляр.
Цена победы была велика. Объединённые силы потеряли в схватке около тысячи человек, сотни получили ранения и увечья. Нет нужды говорить, что больше всех потеряли читальни.
Тела погибших снесли в глубокий овраг, закидали едкими удобрениями, чтобы ускорить разложение, присыпали сверху землёй, так что ямы не стало. В землю же бросили семена репейника и прочих быстрорастущих сорняков. Весной над оврагом выросли исполинских размеров лопухи, навсегда скрывшие тела павших под Невербино.
Возвращаясь домой, ополченцы, да и вожди изрядно потрёпанных библиотек с горечью, полушёпотом говорили, что невербинская бойня была нарочно спланирована аналитиками Моховой, Лагудова и Шульги, чтобы сократить непомерно разросшееся число людей, знающих о Громове. Сражение уменьшило этот мир на четверть.
Примерно тогда же сформировался новый орган власти и управления – Совет библиотек. Вышедший из боя с минимальными для своего клана потерями, влиятельный как никогда Лагудов продвинул идею, что председательствовать имеют право исключительно «натуральные библиотекари» – то есть те, кто самостоятельно проникли в суть громовских Книг. А таких официально после невербинской битвы оставалось всего двое – Лагудов и Шульга. Красноярский библиотекарь Смолич, рязанский Нилин и липецкая Авилова погибли.
Совет утвердил вердикт, обещающий читальням неприкосновенность. Была проведена тщательная перепись. Читальни обычно именовали по месту проживания, иногда название было производным от фамилии библиотекаря или основателя.
Все читальни, исключая лишь участников Невербино, обязывались платить в Совет десятину. Разумеется, доходы сознательно принижались, читатели стряпали фиктивные справки. Поэтому Совет ужесточил правила и заменил щадящую десятину единым годовым налогом – за каждую конкретную Книгу была назначена определённая сумма.
Забегая вперёд, нужно сказать, что Совет не остановился на достигнутом и окончательно прижал вольницу. В принудительном порядке читальни переводились на абонемент. Отныне Книга принадлежала читальне номинально, настоящим собственником был Совет, сдающий Книгу в аренду.
Был сформулирован и штрафной кодекс. Дважды крупно проштрафившаяся читальня именем Совета библиотек распускалась, а Книга подлежала изъятию. Неподчинение строжайше каралось.
В вину, к примеру, вменялось доказанное наличие переписчика или излишняя разговорчивость какого-нибудь читателя, воровство, утаивание новонайденной Книги – любое действие, способное поставить под угрозу конспиративность громовского универсума.
К сожалению, вердикт о неприкосновенности систематически нарушался, хотя бы потому, что далеко не все библиотеки признали его легитимность, к примеру, те, что не участвовали в битве под Невербино. Эти кланы, не входящие в Совет, действовали грубо и жестоко, как всякие захватчики. Если даже удавалось в сражении отстоять Книгу, то обескровленная читальня вскоре делалась лёгкой добычей мародёров или просто кланов-хищников.
Имели место и искусно подстроенные провокации. Достаточно было дважды скомпрометировать неугодную читальню, а уж Совет незамедлительно выносил решение о роспуске. Для подобных случаев были разработаны несколько реабилитационных социальных программ. Большим везением считалось, если читателей, не разлучая, приписывали к ближайшей библиотеке, причём само понятие «ближайшая» было относительным. Частенько приходилось ездить к Книге за сотню километров. Взносы и стоимость проезда – всё это ощутимо било по карману.
Чаще разыгрывался другой трагичный сценарий. Местная или региональная библиотеки отказывались принимать сразу всех чужаков, мотивируя тем, что они переполнены. Предпочтение отдавалось кандидатурам с мало-мальски приемлемой заработной платой, из которой потом высчитывались взносы. Читателей с малыми доходами расселяли в любые библиотеки, где имелись вакансии. Можно представить, что означало для жителя Омска распределение в Иркутск или Красноярск. Многие отказывались от переезда и переходили в разряд очередников, «терпил». Сломленные люди, как правило, опускались и ожесточались. Именно из таких Совет формировал отряды факельщиков. Наёмники охотно выполняли любые самые грязные поручения, ведь наградой за работу была Книга.
Несмирившимся читателям оставалось принять вызов, лицом к лицу встретить врага, многократно превосходящего численной силой. Понятно, чем заканчивались эти поединки, когда против двух десятков мужественных защитников читальни выходили сотни отборных бойцов, высланных Советом…
В это смутное время я стал библиотекарем. Моя читальня владела Книгой Памяти, и посещали её семнадцать читателей.
Часть II. Широнинская читальня
Книга памяти
Сам я прочёл Книгу лишь спустя месяц после вступления в должность и, признаюсь, не часто перечитывал – навеянная «память» была всегда одинакова, и мне иногда думалось, что от повторений она может, как штаны, износиться.
Вообще, пережитое ощущение сложно назвать памятью или воспоминанием. Сон, видение, галлюцинация – все эти слова тоже не отражают сути того комплексного состояния, в которое погружала Книга. Лично мне она подсунула полностью вымышленное детство, настолько сердечное и радостное, что в него сразу верилось из-за ощущения полного проживания видений, по сравнению с которыми реальные воспоминания были бескровным силуэтом. Более того, этот трёхмерный фантом воспринимался ярче и интенсивнее любой жизни и состоял только из кристалликов счастья и доброй грусти, переливающихся светом одного события в другое.
У «воспоминания» была музыкальная подкладка, сплетённая из многих мелодий и голосов. Там угадывались «Прекрасное далёко» и «Крылатые качели», белая медведица пела колыбельную Умке, бархатным баритоном Трубадур воспевал «луч солнца золотого», трогательный девичий голос просил оленя умчать в волшебную оленью страну: «Где сосны рвутся в небо, где быль живёт и небыль». И вместе с соснами из груди рвалось и улетало сердце, точно выпущенная из тёплых ладоней птица.
Вот под это полное восторженных слёз попурри виделись новогодние хороводы, веселье, подарки, катание на санках, звонко тявкающий вислоухий щенок, весенние проталинки, ручейки, майские праздники в транспарантах, немыслимая высь полёта на отцовских плечах. Раскидывалось поле дымных одуванчиков, в небе плыли хлопковые облака, дрожало от ветра живописное озерцо, пронзённое камышами. В тёплой и мелкой воде шныряли серебристые мальки, в тронутой солнечной желтизной траве стрекотали кузнечики, фиолетовые стрекозы застывали в воздухе, ворочая головой, полной драгоценных блёсток.
«Вспоминались» школьные годы. Был новенький ранец, на парте лежали цветные карандаши и раскрытая пропись с выведенными неловким почерком любимыми навеки словами: «Родина» и «Москва». Первая учительница Мария Викторовна Латынина открывала дневник и ставила красную пятёрку за чистописание. Был чудно пахнущий новенький учебник по математике, в котором складывались зайцы и вычитались яблоки, и учебник по природоведению, душистый, как лес.
Незаметно уроки взрослели до алгебры, географии, но все эти науки постигались легко и весело. Зимние каникулы разливали морозную гладь катка, или начиналась игра в снежки, а потом наступала щебечущая скворцами весна, и рука выводила какую-то смешную любовную записку, которую через две парты передавали девочке с милыми русыми косичками.
Праздники взлетали воздушными шарами, пестрели радужные клумбы, и в каждом окне сверкало солнце. Наступало лето, над землёй мчалось неистово синее небо июля, падало и становилось Чёрным морем с облачной пеной на волнах. Сквозь южное марево проступал васильковой глыбой Карадаг, воздух шелестел кипарисами, благоухал можжевельником. С каждым ласковым порывом ветра из зелени выныривал светлый двухэтажный корпус пионерского лагеря. На гранитном постаменте возвышался белый, точно сахарный, Ленин, от памятника звёздными лучами разбегались пёстрые аллеи цветов, на стройной мачте флагштока трепетало алое звонкое счастье…
На словах это, конечно, звучит не особенно впечатляюще. Но в тот вечер, когда действие Книги исчерпалось, я долго глядел на крадущуюся в грозовом небе тучу, чёрную, словно печень, – тогда я понял, что буду сражаться за Книгу Громова и за выдуманное детство.
Поразительно, как легко память смирилась с дискриминацией. Книжный фантом не претендовал на кровное родство – в конце концов, он был глянцевым ворохом старых фотографий, треском домашнего кинопроектора и советской лирической песней.
И всё же настоящее детство сразу покатило на задворки – долгий поезд, стылый караван заурядных событий, которыми я не дорожил.
Но всё это произошло намного позже, а первые недели в широнинской читальне я клял доставшееся наследство – покойный дядя Максим, сам того не желая, изрядно подставил меня. Вместе с дядиной квартирой я унаследовал должность библиотекаря и Книгу Памяти.
Дядя Максим
По профессии дядя был врач. Жизнь его поначалу складывалась замечательно. Школу он окончил с серебряной медалью, поступил в медицинский. После институтской двухлетней практики в Сибири дядя завербовался на работу в Арктику.
Я помнил дядю Максима ещё молодым. Он приезжал к нам в гости и всегда привозил дефицитные продукты или какие-нибудь вещи, которые нельзя купить в обычных магазинах, – импортные куртки, свитеры, обувь. Однажды он подарил двухкассетный «Panasonic», ставший на многие годы предметом зависти многих наших знакомых.
Мы сидели за семейным столом – папа, мама, я и сестра Вовка… Вообще-то по-настоящему её звали Наташа, а Вовка – это было домашнее прозвище. Когда Наташа родилась, отец повёз двухлетнего меня к роддому, пообещав показать там настоящую Дюймовочку. Под окнами я звал: «Мама, где Дюймовочка?!» – а глуховатая, добродушная, как сенбернар, нянька, прибиравшая мусор на ступеньках, с улыбкой всякий раз повторяла: «Да не кричи, малый, вынесут сейчас вашего Вовочку»…
Мы сидели, а дядя Максим рассказывал всякие удивительные, почти сказочные истории о Крайнем Севере: «В одном поселении застрелился оленевод. Его схоронили, а спустя ночь среди оленей начался мор. Старый шаман сказал, что самоубийцу похоронили неправильно, и он превратился в демона, убивающего домашний скот. Труп выкопали, погребли уже лицом вниз, пригвоздив моржовым клыком. Самое интересное, мор сразу прекратился»…
В отличие от робкой Вовки я любил эти страшные рассказы. Правда, отец утверждал, будто дядя неравнодушен к нашей маме и, пытаясь произвести на неё впечатление, горазд прихвастнуть. Допускаю, отец просто завидовал дяде Максиму, у которого была такая яркая жизнь.
А потом дядя перестал навещать нас. Я слышал от родителей, что он больше не работает в экспедициях и перебрался из романтической тундры в скучную российскую глубинку. Но ещё долго дядя Максим был для меня героем приключенческого фильма, сибирским Следопытом.
С годами дядин ореол заметно поблёк. «Опустился», «позорит семью» – говорил отец о дяде Максиме. Видимо, от пребывания в холодном климате дядя пристрастился к алкоголю, а может, и сказалось вечное наличие спирта, связанное с профессией, или окружение подыскалось пьющее.
Когда закончился контракт, дядя работал в больнице завотделением, пытался писать диссертацию. Своей семьи дядя не завёл. Водка сломала все планы. Его сначала понизили до участкового, а вскоре вообще уволили за пьянство. Несколько лет дядя Максим ездил на «скорой помощи» санитаром, но его и там рассчитали.
За последние пятнадцать лет у нас он появился всего дважды. Первый раз прилетел на похороны деда, крепко выпил на поминках и даже подрался с отцом, а второй раз – когда умерла бабушка. Дядя опоздал на похороны, потому что был в запое, да и самолёты летали не так хорошо, как при Союзе, вот и пришлось добираться поездом. Дядя съездил на кладбище, погостил пару дней, поругался с отцом и снова уехал.
После смерти дедушки с бабушкой отец с горечью говорил: «Это Максим их в гроб загнал!». И отчасти он был прав – старики ужасно переживали из-за непутёвой судьбы младшего сына.
Дядя Максим изредка звонил нам, всегда с одинаковой просьбой – выслать переводом денег. Отец, наученный горьким опытом, неизменно ему отказывал, и однажды дядя, обозвав старшего брата «жидом», надолго пропал.
Затем он снова начал названивать, но денег уже не просил, просто спрашивал, как у нас дела. По слухам, он лет пять как не пил. Об этом мы узнали от бывшего дядиного сослуживца, врача. Тот был у нас проездом и по дядиной просьбе передал деньги, двести долларов, которые дядя Максим когда-то занимал у отца. Этот сослуживец и рассказал, что Максим Данилович с алкоголем завязал, но есть подозрения, что его затянула иная трясина – вроде бы религиозная организация, возможно, какие-нибудь баптисты или «Свидетели Иеговы».
Сам дядя Максим ничего конкретного не сообщал, в телефоне голос его неизменно был весел, и в ответ на упрёки отца: «Максим, последний ум пропил? Неужели ты не можешь быть откровенным с родным братом?» – он только смеялся и передавал приветы маме, Вовке и мне.
Отрочество, юность, молодость
Когда-то я мечтал поступить в медицинский, чтобы, как дядя Максим, объездить в поисках романтики страну. При этом я даже не задумывался, что врач – профессия стационарная, и медицинские работники обычно не путешествуют.
В выпускном классе мои планы изменились. Всё перевернул организованный в школе театральный кружок. На беду, вёл его человек, лишённый таланта и азартный. За год нам прочно привили все мыслимые недостатки актёрской науки, но, самое страшное, каждый из нас твёрдо уверовал в собственную гениальность. Вместо того чтобы готовиться к будущей жизни и выбирать специальности себе по плечу, с достойным и стабильным заработком, мы стали мечтать об искусстве.
За короткую свою бытность кружок не поставил ни одного спектакля, мы лишь репетировали. Несчастная пьеса Шварца «Обыкновенное чудо», которую мы самонадеянно выбрали для постановки, не сдвинулась дальше первого действия, но мы уже считали себя артистами.
Помню, я страшно всполошил отца и мать, когда сказал, что собираюсь ехать ни больше ни меньше как в Москву – поступать в театральный, на актёра.
Надо отдать родителям должное, они постарались уберечь сына от надвигающейся катастрофы. В честолюбивых мечтах меня поддерживала одна Вовка, но только до момента, пока ей не разъяснили: братец Алёшка угодит не на учебную сцену МХАТа, а прямиком в армию. Вразумлённая Вовка притихла, а я лишился преданного союзника. Родители же начали новую воспитательную кампанию. Теперь, щадя моё самолюбие, они обличали кумовство, присущее подобным заведениям: «Туда поступают исключительно по блату».
Я растерялся, и меня коварно искусили новой перспективой. Отец сказал, что не хочет разрушать во мне мечты, но не лучше ли вначале получить твёрдую профессию в техническом вузе? Потом, если мне и дальше будет невмоготу без искусства, через пять лет, повзрослевший и определившийся, я смогу поступить на режиссуру, что само по себе звучит солиднее. Я подумал и согласился на политехнический институт и «твёрдую профессию».
Это словосочетание и по сей день напоминает мне нечто прямоугольное и тяжёлое, похожее одновременно на силикатный кирпич и железобетонную опору. Я отдал предпочтение наиболее твёрдому – «машинам и технологии литейного производства». На вступительных экзаменах по математике и физике я наделал кучу ошибок и порядком струхнул, но меня вытянули на четвёрки. После совсем фиктивного экзамена – сочинения – я был принят на первый курс.
Учиться мне было неинтересно, каждый предмет был чужд. Лекции я не прогуливал, на экзамены исправно писал вороха шпаргалок, которые у нас не отнимали.
На зимней сессии из института повылетали многие, но только не с механикометаллургического. Нас тянули изо всех сил, да и я тоже старался не отставать. Трудно было со всякими чертежами, но и этот вопрос решался – за небольшое вознаграждение их делали студенты, чьей специализацией была начертательная геометрия. Стипендии как раз хватало, чтобы уплатить за особо гнусные курсовики по теории машин и механизмов – ТММ, которую ещё с незапамятных времен называли «тут моя могила». Жил я у родителей и трудностей, какие могли испытывать иногородние студенты, не знал.
Шёл девяносто первый год, и в моей зачётке прощальным росчерком советской эпохи остался экзамен по истории КПСС, сданный на «четвёрку», и зачёт по научному атеизму.
Я, конечно, не забывал, кто я по призванию и зачем здесь – получить «твёрдую специальность», эту индульгенцию перед собой и родителями, чтобы с дипломом инженера-механика за пазухой без страха и упрёка шагнуть в искусство.
В институте активно начали развивать КВН, и я ринулся туда. С первых моих пробных выходов на сцену выяснилось, что я «не смешной». Это признавали все. Я объяснял актёрскую неудачу своей благородной, отнюдь не клоунской статью и драматическим талантом. Разочарованный, успокаивал себя, что я по задаткам не фигляр из самодеятельности, а серьёзный артист.
Кое-как я сочинил две шутки: «В Украине начали выпуск водки для обезьян – “Гориллка”» и «В ногах правды нет. Садитесь. Правда в жопе». Вторую шутку, посмеявшись, забраковали. Также я переделал песню «Прекрасное далёко»: «Я клянусь, что стану чище и по-бре-е-юсь…»
Мой звёздный час наступил, когда наша институтская команда ввязалась в городской фестиваль. За три дня до четвертьфинала вдруг оказалось, что конкурсы «Приветствие» и «Домашнее задание» не готовы. Весёлые и находчивые шли ко дну вместе с капитаном. Как пасьянс, они раскладывали записанные на бумажках остроты и не могли собрать их воедино. Маячила печальная перспектива – уход с фестиваля.
К нам заглянул начальник студенческого клуба Дима Галоганов, давешний выпускник института, а ныне мелкий чиновник. Галоганов мрачно поклялся в случае провала разогнать команду.
Во время разноса я листал архив, в котором оставался шлак вперемешку с шутками малого калибра, и вдруг у меня в голове сложилась готовая схема выступления.
Я заявил, сгребая бумажки и тетрадь, что к завтрашнему дню полностью распишу все конкурсы. За ночь работы из унылых лоскутков я сшил пестрое и вполне оригинальное выступление. Особенно удался лейтмотив с песнями, в которых хоть мельком фигурировало про «сойти с ума» – «На нём защитна гимнастёрка, она с ума меня сведёт», «С ума схожу иль восхожу к высокой степени безумства», «И почтальон сойдёт с ума, разыскивая нас», «Я по тебе схожу с ума». Лишь только исполнитель доходил до этого самого «сойти с ума», он вдруг начинал корчить дебильные рожи, улыбаться, гукать, пускать слюну. На заключительной песне мы просто порвали зал, когда всей линейкой загукали, как дураки. Команда триумфально вышла в полуфинал, и сидящая в жюри звезда столичного КВНа сказала, что наша игра достойна высшей лиги.
Ректор поздравил с победой начальника студенческого клуба Галоганова, тот не забыл обо мне. В три дня я стал первым человеком в команде. Из рядового сочинителя шуток я был повышен до расплывчатой должности, в контурах которой угадывались функции режиссёра. Впрочем, никто не возражал против моего повышения. Наоборот, меня шумно поздравляли и благодарили.
Я не замедлил сообщить об успехе домашним, те самодовольно кивали: «а что мы говорили», «надо же – второй курс, а уже режиссёр», – и хитро подмигивали, мол, «то ли ещё будет».
Новое назначение отняло у меня в конечном итоге «твёрдую профессию». Со второго курса я почти не учился, а занимался КВНом. Большинство зачётов и экзаменов я получил в подарок благодаря проректору по культурной части.
Мой дар к компиляции, ранее проявлявшийся при написании рефератов, пригодился на новой должности. Я легко конструировал программы всех капустников и праздников, посвящённых институтским годовщинам, и сделался незаменимым помощником нашего начальника клуба.
Под моим руководством был снят получасовой фильм об институте. Мы подгадали с презентацией, совместив две круглых даты: шестидесятилетие ректора и вуза, сказав, что это скромный подарок от студенческого клуба.
Фильм назывался «Наш любимый Политех. Вчера. Сегодня. Завтра» и был напыщенно-хвалебный. В течение нескольких лет льстивое видео неизменно демонстрировалось высоким гостям из министерства.
Ректор был очень растроган подарком, и на клуб стали выделяться деньги. Галоганов, после этих субсидий купивший себе новый телевизор, видеомагнитофон и музыкальный центр, во мне души не чаял.
Меня, как своего, приглашало на посиделки мелкое институтское чиновничество. Галоганов, чуя скорое повышение, в пьяной щедрости всё чаще прочил меня в преемники на пост начальника клуба, искренне обижаясь, почему я не замираю от восторга.
Тогда я не мог понять, что жизнь подсовывала вполне сносный образчик карьеры, тихую болотистую гавань. Я с негодованием отвергал эти подарки судьбы. Вместо того чтобы укреплять дружбу с Галогановым и проректором по культурной части, я раз за разом со снисходительной улыбкой говорил своим благодетелям, что собираюсь серьёзно заняться искусством и плевать хотел на будущее мелкого институтского функционера.
Родители, конечно, пытались меня переубедить, но я жёстко отвечал, что обещал им «твёрдую профессию», а не погубленную в скуке жизнь.
Вовка помалкивала, потому что морально проштрафилась. Она тогда училась на втором курсе, и я уже не припомню, что было раньше: дынная округлость живота или слова о скором замужестве. То есть Вовка с умными советами не лезла, а прилежно клянчила у преподавателей экзамены и зачеты, чтобы не терять учебный год. Мы же пытались полюбить Вовкиного жениха Славика, её одногруппника. Это оказалось нетрудно, на первых же смотринах осквернитель расположил нас кротким и покладистым нравом. Похоже, он действительно любил Вовку. Они вскоре расписались и переехали жить в опустевшую квартиру наших покойных стариков. В июле Вовка благополучно родила мальчика, которого назвали Иваном.
За два года гордыня ослепила меня. Я запросто общался с проректором, имел собственный рабочий стол в кабинете начальника клуба. Диплома я вообще не писал. По просьбе Галоганова из архива извлекли старый диплом «Литьё по выплавляемым моделям», в котором заменили титульный лист.
Что было ещё? Летом, по окончании четвёртого курса, я женился. Тогда студенческие свадьбы приняли вид какой-то эпидемии. Жену мою звали Мариной. Была она довольно приятной внешности, с правильными, но настолько обобщёнными чертами лица, что походила на среднестатистический макет симпатичной девушки. Так на агитационных плакатах изображались шагающие одинаковые шеренги комсомолок с одной на всех коллективной миловидностью. После первого дня знакомства я бы не узнал её на улице. Единственное, что выделяло Марину, это смех. Очень мелодичный и звонкий, и смеялась она в основном, когда я щеголял своим остроумием. В конце концов я обратил на неё внимание.
Все мои политеховские годы у меня не было недостатка в подругах. Я был достаточно известной личностью. И всё же эта Марина довольно быстро оттеснила соперниц, я же отнёсся к этому факту легкомысленно – девичья охота на мужа меня откровенно забавляла.
Марина времени не теряла и так лихо закрутила отношения, что через полгода я с удивлением узнал, что о нас уже говорят как о скорой семейной паре, и самое странное, у меня не возникло желания опровергать явное недоразумение. Даже проректор, пробегая мимо по коридору, поздравил со скорой свадьбой.
Родители тоже были всеми руками «за». Они думали, что с женитьбой я остепенюсь, забуду о глупых мечтах, предпочтя семейное благополучие.
Поражённая всеобщей брачной заразой часть моей души лживо успокаивала, что жена никак не помешает карьере будущего режиссёра. Всё решила фраза, обронённая моим начальником Галогановым: «Чего ты боишься? Не понравится – разведёшься».
Почему-то именно эта возможность будущего развода успокоила, и я сделал Марине предложение. В июне мы поженились. Свадьбу отметили узким семейным кругом – Вовка была на восьмом месяце и умиляла застолье внушительным животом. Тесть и тёща преподнесли нам в подарок квартиру, которую, впрочем, записали на Марину.
Брак наш просуществовал чуть больше года. За этот относительно недолгий срок я смог убедиться, что плач у моей супруги оказался удивительно неприятным, в противоположность её смеху.
Получив инженерный диплом, я стал усиленно готовиться к поступлению на режиссуру. Я отправился на разведку в Москву. Столица исподтишка ударила рублём. Мне-то и в голову не приходило, что я гражданин другой страны, и обучение может быть только платным.
Горестный факт сразу снял все вопросы по поводу поступления в России. Возвратившись, я мог без стыда смотреть в глаза моим знакомым – Москва отпала лишь из-за денег. Я упрекнул родителей: вот, надо было ехать тогда, пять лет назад, пока ещё был Союз.
Для воплощения мечты в моём родном городе имелся Институт культуры, котёл, в котором бурлили все освежёванные музы. Среди музыкальных факультетов, муштрующих левшей декоративно-прикладного творчества, хранителей академических и народных хоров, опекунов оркестров домбр и балалаек, поводырей хореографических коллективов, там имелся и театральный факультет, состоящий из отделений актёрского искусства, режиссуры драмы и режиссуры театрализованных представлений и праздников.
Повзрослевший, я трезвее относился к своим способностям. Вместе с юностью канула и самоуверенность. За неделю до экзаменов я узнал, что на «драму» конкурс довольно высок, восемь человек на место, что было странным для нашего захолустья.
На актёрское отделение конкурс был чуть пониже, но я вдруг застыдился своего возраста – в двадцать два я казался себе переростком Ломоносовым, пахнущим поморской рыбой, среди толпы юных семнадцатилетних абитуриентов.
Оставалась режиссура театрализованных представлений и праздников с терпимым конкурсом три человека на место. Там ещё требовалась бумажка, указывающая на опыт работы с коллективом. Такую мне за пять минут нашлёпала секретарша Галоганова, а проректор приложил к справке положительную характеристику.
Я посоветовался с семьёй, родители и Вовка в один голос сказали: «Не рискуй, главное – зацепиться. Потом, если захочешь, переведёшься».
В который раз я пошёл на поводу у трусости. Документы были сданы на «представления и праздники».
И всё же тем летом я был несказанно счастлив. Как обольстительны были девушки, поступавшие на актёрский факультет! Они встали на долгие каблуки, чуть прикрылись легчайшим, трепещущим на сквозняках прозрачным шифоном, обнажив юные прелести ради знойного июля и мужских взоров из приёмной комиссии.
Услышав, что я поступил на режиссуру (какую, я благоразумно не уточнял), красавицы просили не забыть о них. Смеясь, говорили: «Лишь свистни, молодой режиссёр, и мы прилетим в тот же миг. Посмотришь, как нежно мы отблагодарим тебя за роль, о, режиссёр», – обещали они, сияющие, ласковые…
И тогда, от летнего восторга, от этой готовности как можно скорее свистнуть юным актрисам, я заявился домой и сообщил постылой своей Марине, что развожусь.
Жена отозвалась милицейским воем, который, по счастью, пронёсся так же быстро, как жёлтая машина с мигалкой. Буквально на следующей неделе я снова был холост и полон надежд. Родители погоревали и успокоились, а добрая Вовка сказала, что Марина ей никогда не нравилась.
Мне горько вспоминать о следующих пяти годах. «Режиссура народных зрелищ» оказалась примерно тем же металловедением, только в области искусства. Учились там люди взрослые и некрасивые: мешкообразные девицы, напористые тридцатилетние мужички из глухой провинции, директора местечковых клубов, просто нуждающиеся в пресловутой дипломной «корочке».
Актёрское мастерство ограничилось развитием дикции, и первые полгода «на мели мы лениво налима ловили». Преподаватель сценического мастерства учил отвешивать звонкие пощёчины и кланяться. Уроки акробатики сделали бы честь любому дому отдыха – кувырок назад, кувырок вперёд, полушпагат, руки врозь. На режиссуре мы разыгрывали сценки с «оправданным молчанием». Конфликты между водолазами, шпионами в засаде, поссорившимися супругами, то есть логично молчащими героями, неизбежно оказывались надуманными глухонемыми корчами.
По второму разу я взялся за социологию, философию, психологию и навеки иностранный английский. Из нового добавились невнятная педагогика, культурология и литературоведение.
После первой сессии в деканате я узнал: перевестись на драму не получится, только «на платной основе». Это известие так пришибло меня, что следующие три года я безропотно позволял лепить из себя затейника-массовика с жестянкой на голове и носом-морковкой.
Мне бы честно, громогласно покаяться перед мечтой и бежать из гнилого логова, а я вдруг начал чудовищно лгать окружающим и себе, будто очень доволен учёбой.
Я практиковал самообман. Вовка и Славик домучили свой институт, маленький Ваня посещал детский сад. Вскоре Славик удачно пристроился в фирме, занимающейся продажей офисной мебели, а Вовка снова забеременела и осчастливила всех нас вторым младенцем – Ильёй, так что и ей со Славиком, и родителям прибавилось радостных хлопот…
К четвёртому курсу пелена спала с глаз. Был намечен запоздалый план спасения – перевестись с дневного факультета на заочный и немедля устроиться в студенческий клуб. Стремглав побежал я в мою осмеянную альма-матер просить места – и опоздал. Никто уже не помнил создателя фильма «Наш любимый Политех». Ректор ушёл на пенсию, за растрату погнали Диму Галоганова, и должность начальника клуба давно занял достойный человек.
Охваченный паникой двадцатишестилетний перестарок, я перевёлся на заочный и в поисках работы обил пороги всех городских ДК. Меня с презрением оттолкнули и «строители», и «железнодорожники». Приют дал местный телеканал, где из невнятного текста-сырца я тачал сценарии. Потом втиснулся в какое-то малолитражное радио и редактировал там позорную юмористическую передачу.
В двадцать семь лет я получил мой второй диплом. В сентябре поучаствовал в зрелищно-массовой халтуре, называемой «День города». Худрук оказался ушлым и вороватым. Мы предоставили горисполкому внушительную смету на всякие народные костюмы, караваи, рушники и гонорары участвующим коллективам, сами обошлись малым и остаток поделили между нашей творческой группой.
Телеканал и радио платили унизительные копейки. Денег не хватало. В конце декабря меня позвали дедморозить, и я, потеряв стыд, нацепил ватную бороду и брови, закинул на плечи мешок и пошёл по детским садам. Жалкое трио – Дед Мороз, Снегурочка и аккордеонист – мы собирали малышей, скоропостижно разучивали «В лесу родилась ёлочка» и «Вместе весело шагать по просторам». Тем, кто громче «припевал хором», вручались гостинцы. После утренников, рассчитавшись с аккордеонистом, я, пьяный, блудил с моей Снегурочкой, может, не особо красивой, но покладистой.
Благодаря институтским связям мне досталась роль в новогодней мистерии, проводимой в бывшем Доме пионеров. Обряженный в расклешённые штаны, розовую рубашку и галстук, сквозь дыру в папье-маше, изображающую волчью пасть, я хрипло выкрикивал «О!» при виде Зайца, если быть точным – Зайчихи, неуклюже гонялся за ней по сцене: «Ну, погодииииии!» – широко расставив ноги, спотыкался и плашмя, как шкаф, падал, ушибая колени.
По сюжету мы со старухой Шапокляк строили положительным персонажам всякие каверзы – воровали сундучок со сказками, нас изобличали, мы раскаивались и, прощённые, вместе с липкорукими детьми водили хоровод вокруг красавицы-ёлки.
Унижение закончилось скромным фуршетом, а любвеобильная Зайчиха увлекла меня ночевать в свою нору.
Наследство
А на Рождество пришло извещение о смерти дяди Максима. Милицейский протокол сообщал, что Вязинцева М. Д. обнаружили мёртвым с множественными ушибами и ножевыми ранениями. В приложенной квитанции указывался сектор и ряд с дядиной могилой на 2-м городском кладбище. В наше зарубежье письмо пришло с большим опозданием – спустя месяц после похорон.
Мы были очень расстроены этим трагическим известием, папа, прижав кулак к губам, шептал: «Ой, Максим, Максим», и мама всплакнула – она всегда жалела нашего беспутного дядю. Помню, она семь лет назад ещё хотела пригласить его на Вовкину свадьбу, но папа отговорил: «Максим напьётся, устроит дебош». В итоге мы его не позвали. И вот дяди не стало.
Насколько мы поняли, убийцу никто не нашёл и, наверное, не искал. Дядина былая репутация подразумевала, что он пал жертвой своих асоциальных знакомых. Это было странным, ведь, если верить рассказам, дядя уже сколько лет не пил. Так или иначе, в милиции его просто списали в утиль и кремировали. Папа всё собирался поехать к нему на могилу, но дальше разговоров это не продвинулось.
Стыдно признаться, но смерть дяди Максима из стадии горя довольно скоро переросла в рутину получения наследства, главным пунктом которого являлась двухкомнатная квартира. Семьи дядя не имел, мы были единственными кровными родственниками. Этим стоило заняться. Надежд, что я заработаю себе на жильё самостоятельно, не было никаких.
Когда я женился, все решили, что вопрос моего пристанища исчерпан. Квартиру наших покойных стариков мы сразу отдали Вовке с мужем. Когда-то родители приобрели за городом дачный участок с поросячьим домиком а-ля Ниф-Ниф. Отец всё пытался сделать из этой халупы полноценный дом, но тщетно. Через год я удружил с разводом и вернулся в родные пенаты. С мая по октябрь мать с отцом уезжали на дачу, но зимовали-то мы вместе, и нам было тесно…
И вот у меня появилась надежда обзавестись наконец своим углом. Загвоздка лишь была в том, что дядя не оставил завещания. А это влекло за собой кучу утомительных бумажных формальностей.
По закону, если в течение полугода со дня смерти не поступало заявления о принятии наследства, квартира отходила городу, и выбивать её пришлось бы через суд.
Мы вышли на государственную нотариальную контору по месту жительства дяди, списались с российским консульством. Оснований отказывать нам не было. В марте мы получили бумагу, по которой с первого июня отец как кровный родственник вступал в наследство. Нужно было только доплатить какие-то сборы или налоги.
На семейном совете мы постановили, что улаживать дела отправлюсь я. Взваливал я на себя задачу непростую – продать дядину квартиру. Предполагалось, что если найдётся потенциальный покупатель, то на выручку – в прямом и переносном смысле – приедет отец, чтобы всё проконтролировать и не дать нас обмануть.
Мы всерьёз обсуждали проблему перевоза денег через границу и даже рассмотрели вариант транспортировки их в урне с дядиным прахом. Мама сразу выступила против такой кощунственной конспирации и сказала, что лучше она приедет вместе с отцом, и тогда втроём в одном купе мы безопасно перевезём деньги. Но в любом случае отец хотел захоронить урну с дядей рядом с могилами деда и бабушки.
Мы оформили доверенность, по которой я мог решать все юридические вопросы, и я собрался в дорогу, надеясь в считанные недели покончить с продажей и начать обустраивать свою дырявую жизнь.
Путь занял без малого три унылых дня. Ехал я в плацкартном вагоне – так билет был не особенно дорогим. Седая, похожая на добрую учительницу женщина робко попросила меня обменяться с ней местами. Я уступил нижнюю полку, и благодарная «учительница» пичкала меня домашними пирожками с картошкой.
Напротив нас восседала краснощёкая девица колхозного вида. Она везла большой клетчатый баул, который не влез под сиденье. Днём девица зорко его стерегла, а ночью для страховки опускала с полки крепкую обутую ногу и клала на баул.
Над девицей расположился юркий, как мышь, востроносый мужичок с фанерным чемоданчиком. Мужичок пил чай, рассказывал девке о своей нелёгкой доле, всякий раз приговаривая: «Бедняк есть бедняк». Этой фразой он уже успел разжалобить проводницу, и получил задаром матрас, и сам бегал то и дело подливать себе в стакан кипятку, потому что заварку он вёз собственную.
Я старался быть молчаливым и на вопрос «доброй учительницы»: «Куда едешь?» – коротко ответил: «Погостить к дяде», – ловко уткнулся в книгу и не позволил втянуть себя в беседу.
Первой ночью мы пересекли таможню. В вагоне подобралось с десяток храпунов, спал я плохо, накрывал голову подушкой, но это слабо помогало.
Утром поезд застрял возле небольшой станции Желыбино. Окно оказалось напротив мемориальной доски, привинченной к облупившейся вокзальной стене: «Здесь пали смертью храбрых сержант Гусев Степан Яковлевич, ефрейтор Усиков Иван Матвеевич, рядовые Хазифов Хамир Хафунович, Фёдоров Павел Кузьмич и Аликперов Хусейн Измаилович». Через час я выучил наизусть этот погибший список, и поезд наконец тронулся. В полдень мы проехали Москву.
В вагоне было жарко. Я долго смотрел на бегущую пейзажную карусель. Небо горело яркой синевой, вспыхивали бликами озерца. Вот птица, сорвавшись с дерева, полетела в траву, и ветер унёс её, закружив, как клочок бумаги. Вырастали сопки щебня, сменялись зелёным редколесьем, в котором дырой расползался луг, полный одуванчиков. За выпрыгнувшим сосновым бором тянулись рыжие болота, из воды торчали сгнившие берёзовые стволы. Потом начался ельник, оборвался мостом. По другую сторону реки огородился тополями современного вида посёлок с трёхэтажными панельными домами. За ними раскидывалось заросшее сорной травой поле с ржавыми футбольными воротцами и пятнистой козой, привязанной к ним.
Глядя на заброшенные ворота, я почему-то воображал несчастье: как дети играли в футбол и мяч улетел на рельсы, ребёнок не заметил поезда. В тон моим грустным мыслям появлялось кладбище и пряничная церковь.
Проносились похожие на посадочные полосы платформы станций, такие быстрые, что я не успевал прочесть названия. Один за другим сменялись уездные города с милыми простыми именами: Позырев, Лычевец. Вокзалы там часто были просто двухколейными. Пока мы стояли, по вагонам слонялись местные коробейники, предлагая прессу, пиво и нехитрую снедь – семечки, беляши, воблу.
На третий день я уже порядком устал от дороги и был рад, когда утром мы миновали Колонтайск. Спустя несколько часов за окном серой водой разлилась громада Урмутского водохранилища, а за ним, словно шахматные башни, встали дымящие жерла АЭС, потянулись бесконечные бараки технических комбинатов с закопчёнными витражными стенами.
Старое здание вокзала напоминало храм с высоким куполом, в глубине которого потускневшие советские фрески изображали былое социалистическое счастье.
Вываливших на вокзальную площадь пассажиров обступили настырные, точно цыганки, таксисты, настойчиво предлагая моторные услуги. Я спросил наименее, на мой взгляд, корыстного, как мне добраться на улицу Чкалова. Таксист пошевелил губами, прикидывая в уме прибыль, и назвал цену, приемлемость которой я всё равно не мог оценить – я путался из-за разницы в рублях и украинских гривнах. В рублях звучало дороже.
Я извинился, сказал, что у меня немного денег, и не подскажет ли он, как доехать туда на общественном транспорте. Таксист, минуту поколебавшись, сжалился, выдал маршрут и махнул рукой в направлении видневшейся за крышами мачты «Макдоналдса» с неоновой «М» на верхушке.
Обойдя дома, я увидел троллейбусный круг и стоянку маршруток. Я на всякий случай переспросил у какой-то интеллигентной старушки насчёт Центрального рынка, и она подтвердила слова таксиста – «пять остановок» – и в свою очередь спросила меня, не помню ли я, что в этом году распустилось раньше, ольха или берёза, и пояснила: «Если берёза, то лето будет хорошее, тёплое. А если ольха опередила, то всё, дожди будут и холодина».
Город мне нравился уже потому, что светило праздничное солнце, и даже сквозь открытые окна троллейбуса дурманяще чадила цветущая сирень. Преобладали дореволюционные постройки с большими окнами, вычурной, чуть обвалившейся лепниной на стенах и широкими парадными. Эту средней руки купеческую благость портили многочисленные ларьки с аляповатыми надписями: «Пирожки», «Мороженое» или «ООО Ирина». Очень радовала меня буква «ы», встречающаяся в названиях магазинов «Продукты», «Соки. Воды», «Сигареты». В моих краях, где девятый год свирепствовала «незалежнiсть», этой буквы совсем не осталось.
Центр был зелёным и просторным. Пересечение проспектов Гагарина и 50-летия ВЛКСМ образовывало небольшую площадь с бронзовым трёхметровым Лениным. Справа от памятника стоял броневик времён Гражданской войны, слева – танк Т-70, точно Ленину предлагалось сделать выбор в пользу современной боевой техники, а Ленин, не замечая намёка, упрямо тянул вперёд руку, пытаясь тормознуть на проспекте иномарку.
Рядом был уютный сквер. Над клумбами поднимался гранитный постамент с гаубицей. Под золотыми цифрами «1941–1945» лежали венки и цветы, видно, ещё от празднования 9 Мая. За сквером возвышался собор с рыжими самоварными куполами и шпиль колокольни, покрытый тусклой изумрудно-мшистой патиной.
Троллейбус остановился возле старинной, проросшей травой кирпичной стены, опоясывающей собор. Я спустился по небольшой утопающей в липах улочке и вышел прямо к металлической ограде рынка. Там начинались рыбные ряды и пахло речной плесенью.
Я спросил у женщин с набитыми сумками, где остановка восемнадцатого автобуса. Мне разъяснили, что по другую сторону рынка, но сам автобус отсоветовали – «ходит плохо», лучше было подождать здесь маршрутку, которая тоже идёт до улицы Чкалова.
Нужное мне бюро «Доверие» я обнаружил в цоколе холёной, выложенной плиткой девятиэтажки, между гастрономом и парикмахерской.
Внутри царил скромный евроремонт. Мебель из чёрного кожзаменителя, белые жалюзи и ползучие цветы в горшках вполне располагали к доверию.
Передо мной была всего одна бабка, но радовался я напрасно – просидела она у нотариуса аккурат до обеденного перерыва, так что я ещё битый час вынужденно листал местные газеты.
Когда были проставлены печати и я выстоял очередь в кассу, заплатил положенные сборы, занёс нотариусу квитанцию об уплате, день уже клонился к вечеру.
В гастрономе я купил бутылку «Абсолюта» и большую подарочную коробку шоколадных конфет. Неизвестно, какого пола бюрократическая особь повстречается в дядином жэке. Гостинцы были нужны разноплановые.
Коминтерновский микрорайон оказался совершенной окраиной, панельными пятиэтажными трущобами. Жилищная контора № 27 как сквозь землю провалилась. Злой и уставший, я неоднократно обращался за помощью к аборигенам – никто не знал, где она находится. Наконец какая-то женщина с помойным ведром вызвалась проводить меня.
Словно в насмешку, металлическую дверь жэка с косо налепленным графиком отключения воды на июнь пересекал засов. Никаких ободряющих записок типа «Скоро буду» не имелось.
Женщина изучила график, и подглазья у неё вмиг налились чёрной тоской. Она с укором посмотрела на меня, точно это я был виноват в грядущем отключении, и, качая головой, ушла; ведро в её руке жалобно поскрипывало.
В эту секунду я понял, что мне предстоит либо поиск дешёвой гостиницы, либо ночёвка на улице. В бессильном отчаянии я принялся колотить по двери, загудевшей, как театральный гром.
Из ближайшего окна на втором этаже высунулся дедок в растянутой майке, с татуированным худым плечом и седыми кудрями на груди. Он дружелюбно обматерил меня – так, чтоб я не нагрубил ему в ответ, а вступил в беседу.
Я объяснил, что приехал из другого города, мне нужно попасть в квартиру, иначе хоть на улице ночуй, а ключи в жэке.
Дед ненадолго задумался, исчез в комнате. Когда я решил, что он просто удовлетворил любопытство, дед вышел из подъезда, на ходу заправляя майку в спортивные, с лампасами, штаны.
«Подожди здесь», – сказал он и бодро зашлёпал тапками к соседней многоэтажке. Спустя десять минут дедок возвратился, и не один. За ним плелась пухлая женщина лет сорока, в платье в горох, с чёрным лакированным поясом вокруг живота. Полные икры были сплошь в комариных укусах, поэтому она изредка останавливалась и страстно почёсывала ноги. Мне она кокетливо улыбнулась, показывая золотые зубы, похожие на кукурузные зёрна: «Сладкая женщина, вот комары и любят…» – а потом назвалась Антониной Петровной.
За стальной дверью была тюремного образца решетка, сквозь которую виднелся небольшой коридор, покрытый зашарканным линолеумом, и ржавая бочка с надписью «Песок». На стене у входа висели огнетушитель и старый плакат с кудлатым, похожим на спаниеля Валерием Леонтьевым.
Дед цыкнул мелким плевком на плакат и глубокомысленно произнёс: «Обладает всеми достоинствами человека, за исключением его недостатков».
Я выложил на стол паспорт, стопку документов и доверенность, надеясь, что моя небритая физиономия не вызывает подозрений. На всякий случай пояснил: «Только с поезда. Трое суток добирался».
Антонина Петровна бегло просмотрела документы и паспорт – фамилия у нас с дядей всё-таки была общая, – открыла сейф и, порывшись там, извлекла связку ключей.
Я сказал: «Вам за беспокойство», – и протянул Антонине Петровне коробку конфет. Бутылку водки я вручил деду, и он со словами: «А вот это лишнее», – опустил её в карман штанов, сразу под литровой тяжестью оползших.
От Антонины Петровны я узнал, что о смерти прежнего жильца на АТС никто не сообщал. Она советовала, чтобы сохранить телефон, обратиться туда и побыстрее оплатить долги.
Дом, где раньше жил дядя, – облезлая хрущёвская пятиэтажка по улице имени Гвардейцев Широнинцев, – стоял совсем на отшибе, прямо возле затопленного строительного карьера, поросшего болотной осокой. Если бы не тополиная посадка, дом через несколько лет наверняка съехал бы под откос. Я огорчился, прикинув, сколько можно выгадать за квартиру в таком неухоженном месте.
Ведомый Антониной Петровной, я прошёл по дорожке мимо беседующей пары – мужчины и женщины, оба средних лет. До меня долетел обрывок фразы: «Я бы Ельцина, суку, лично крючьями разорвал». А женщина добавила: «И не его одного».
Мужчина был крупный, мясисто-молочный, с бегущей в атаку лысиной. Он ещё воинственно жестикулировал длинным бумажным свёртком. Женщина сжимала какой-то огородный инвентарь – металлический наконечник был обмотан тряпкой. Выглядела женщина так, словно вернулась с дачи, – вылинявшая штормовка, косынка. В ногах стояла сумка, из которой торчала пластиковая бутылка.
Подъезд жалко оскалился двумя сидящими друг напротив друга, как пара подгнивших зубов, старухами. Опередив их любопытство, Антонина Петровна сказала: «Вот племянник покойного Вязинцева».
Мне показалось, болтающая пара тоже заметила нас – женщина оглянулась, а мужчина и так смотрел в нашу сторону. На миг он замолчал, потом принялся ещё активнее размахивать свёртком, видимо, замышляя новые казни отставному президенту.
Мы поднялись на пятый, последний этаж. Антонина Петровна сорвала пластилиновую, с ниткой, пломбу. Я расписался в бумаге, и Антонина Петровна, пожелав мне удачи, грузно потопала вниз.
Наперво я заперся в туалете и справил накопившуюся за день нужду. Спуская воду, я подумал, что квартира мной, как зверем, помечена. Затем я обошёл свои двухкомнатные угодья.
Телефон не работал. Окна ещё с зимы были законопачены бумагой, которую я сразу ободрал, а в гостиной настежь распахнул балконную дверь, чтобы выветрить дух затхлости.
Горизонт розовел, низкое солнце превратилось в медленный желток. Сильный ветер создавал ощущение полёта, усиленное далёкими, где-то за карьером и трассой, высотками. Казалось, мой пятый этаж находится на одной линии с их крышами. Вдоль балкона, как две струны, тянулись провода для просушки белья, а на них, похожие на пескарей, висели деревянные прищепки. Рассохшиеся перила густо оплёл дикий виноград.
В целом дядино жильё мне понравилось. Прихожая была оклеена когда-то модными обоями «под кирпич». В гостиной громоздились раздвижной диван, два кресла, торшер на латунной ноге, журнальный столик и вишнёвая стенка с посудой, хрусталём, книгами и радиолой в глубокой стеклянной нише.
Я исследовал выдвижные ящики на предмет «сокровищ». Обнаружились вороха квитанций, коробка с позолоченными чайными ложками, стетоскоп, тонометр и куча мятых упаковок с лекарствами.
В спальне, кроме кровати, находились письменный стол, этажерка с книгами и платяной ореховый шкаф. Среди одежды я, к моему удивлению, нашёл мотоциклетный шлем, здоровенный молоток и широкие куски протектора, вырезанные из покрышки матёрого грузовика, – в назначении этих аккуратных пластов резины я, честно говоря, не разобрался.
А вот в боковом пенале между простынями и полотенцами дядя прятал два порнографических журнала, оба на непонятном европейском языке, может, голландском или шведском. С щемящим сердцем я подумал, каким одиноким был дядя Максим.
Ещё более тяжело подействовала на меня ванная комната. Там перед зеркалом на умывальнике, возле зубной щётки и тюбика с пастой, лежала безопасная бритва с засохшей щетиной на лезвии – всё, что осталось от дяди Максима…
Кухня была небольшая, едва хватало места для плиты, холодильника «Север», стола, табуреток и навесного шкафчика над мойкой. На подоконнике стоял маленький переносной телевизор.
Квартира хоть и не выглядела убитой, безусловно, нуждалась в ремонте. Я прикинул свои силы и умения и констатировал, что один не управлюсь с обоями и кое-где облетевшей плиткой, – придётся нанимать рабочих, чтобы квартира приобрела товарный вид.
Я тщательно почистил ванну содой, вымылся розовым обмылком, который отковырял от умывальника. В дядиных кухонных запасах нашлись макароны, консервы сайры и зелёного горошка. Ужин я скрасил просмотром неизвестно какой серии «Вечного зова».
Ночевал я на раздвижном диване в гостиной. Хоть и был я измотан, но заснуть долго не получалось. Покоя не давали мысли об отключенном телефоне, без которого квартира наверняка упадёт в цене, и ещё одолевали мечты, что сразу обнаружится щедрый покупатель, который, не торгуясь, предложит мне тысяч шесть. А потом я представлял себе плохого покупателя, жадного и хитрого, который больше трёшки не даёт и норовит надуть. Я ворочался и скрежетал зубами.
С утра я попил чаю и побежал в почтовое отделение – я его приметил ещё во вчерашних скитаниях по району. В переговорном пункте я позвонил домой и отчитался отцу о проделанной работе.
Там же на почте я спросил, где находится местная АТС. Напрасно я себя готовил к каким-то трудностям. Мне выдали квитанцию, которую следовало проплатить в сберкассе (насчитали незначительную, даже с учётом пени, сумму), пообещав подключить телефон в течение недели. Я лишь порадовался, как легко всё разрешилось, и сразу поехал к дяде на кладбище.
В кремационном секторе не было могил, только бетонные стены, в которые замуровывались урны. Дядю разместили поближе к земле. Мне пришлось сесть на корточки, чтобы прочитать гравировку на латуни: «Вязинцев Максим Данилович. 1952–1999». И чуть помельче: «Вечная память».
Разговор с кладбищенским начальством по поводу урны я отложил, пока не выяснится с продажей квартиры.
Покупатель
А дома ждал сюрприз. В двери торчала записка – вчетверо сложенный тетрадный лист. Ко мне обращался некий Колесов Вадим Леонидович. Он писал, что в жилищной конторе № 27 от заведующей Мухиной он, Колесов, узнал, что я собираюсь продавать квартиру, и как весьма заинтересованное лицо желает со мной увидеться. У него неподалёку проживают престарелые родители, и приобретение жилья именно в этом месте было бы идеальным, и он просит позволения зайти вечером, около десяти.
Любезный тон письма предполагал человека деликатного. У меня, правда, мелькнула мысль – я вроде бы ничего особенного не сообщал Антонине Петровне, но мне было проще убедить себя, что, уставший, я не придал значения обыденному в такой ситуации вопросу: «Что думаете с квартирой делать?» – и ответил механически, сам того не заметив.
Конечно, всё складывалось как-то слишком хорошо, но после череды житейских неудач маленькая поблажка судьбы виделась вполне оправданной.
Быстрая продажа как нельзя больше соответствовала планам поскорее вернуться домой. Я взволнованно перечитал послание, сунул листок в карман, обещая себе в случае удачной сделки подарить Антонине Петровне презент более существенный, чем коробка конфет.
У меня оставалось полдня в запасе, я прилёг отдохнуть, затем прибирался, мыл полы и на полчаса выскочил в продуктовый магазин. На улице перед домом я опять увидел вчерашнюю беседующую пару – лысого мужика со свёртком и дачницу в косынке. Когда я возвращался, к ним присоединились ещё двое: усатый дядька, тоже, видимо, огородник – жилистыми руками он опирался на черенок лопаты, и чубатый парень в потёртой монтёрской робе, со слесарным ящиком. Парень отпускал простенькие шуточки в адрес дачницы, а жилистый дядька с лопатой громко смеялся.
На скамейке у подъезда пожилая женщина в роговых очках, отложив вязание, сурово спросила меня: «Молодой человек, вы к кому?»
Я вежливо сказал: «К себе. Я – племянник покойного Вязинцева», – и строгая женщина, удовлетворённая ответом, снова взялась за спицы.
До прихода Колесова я с увлечением перебрал дядины закрома. На антресолях, кроме консервации и всякого строительного хлама, были фотоувеличитель, коробка с электробритвой «Харьков», диапроектор, целая стопка старых журналов «Кругозор» с голубыми пластинками-вкладышами. Таких я уже лет пятнадцать не видел. Я даже хотел что-нибудь поставить, но в колонках радиолы отходил контакт, и звук прерывался. Пока я лазил за шкаф и вытаскивал провода, в дверь позвонили.
Нужно признаться, Колесов совсем не напоминал взращённого мечтой идеального покупателя – стеснительного отца малогабаритного семейства: жена и дочка лет пяти. Вадим Леонидович был костляв, долговяз, с ярко-чёрными зализанными волосами и крупными, как у Микки-Мауса, залысинами. Он постоянно улыбался, жестикулировал и смотрелся очень ушлым, а ушлый человек, по идее, не должен был бы интересоваться моей квартирой.
Вместо жены и белокурой дочки Колесов взял приятеля по имени Алик – Вадим Леонидович его представил и сразу же рассыпался горохом в дробных извинениях: дескать, сам нагрянул и ещё сослуживца привёл. Вроде этот Алик – субъект с красным, как солнечный ожог, лицом – любезно подвёз Вадима Леонидовича на своей машине. Алик, запихнув кулаки в карманы кожаного пиджака, стоял на одном месте, пружинисто покачивался туда-сюда, словно кресло-качалка, с пятки на носок, и лишь однажды попросил воды.
Вадим Леонидович прытко, как паук, обежал гостиную, мельком заглянул на кухню, и вскоре из дядиной спальни раздался его радостный крик:
– Алик, Алик, иди скорее сюда!
– Что там такое? – буркнул хмурый Алик, но тем не менее подошёл на зов.
Колесов, стоя перед этажеркой, восторженно листал какую-то книгу:
– Ну надо же, а?! – Он встретился глазами с Аликом, и тот кашлянул. – «Тихие травы»!.. Читали?! – Колесов впился в меня внимательным цепким взглядом.
– Нет, – сухо ответил я. Эта беготня Колесова и пустые выклики мне порядком надоели. – Стоит прочесть?
– Не думаю, – он заулыбался. – Книжонка – чепуха. Просто у меня с ней связано одно романтическое воспоминание, словами не передать. Коктебель, море… Вот, Алик знает. Если захотите, расскажу…
Я взял из его рук книгу и бегло осмотрел. Издание конца семидесятых. Тощий корешок был наполовину затёрт – непонятно, как вообще Колесов обнаружил «романтическое воспоминание» на дядиной этажерке.
– Слушайте! – вдруг вскрикнул он. – Вам же книжка не нужна. Продайте, а?
Я сдержанно сказал: если мы договоримся, то я подарю ему эту макулатуру.
Вадим Леонидович засуетился:
– Разве я не говорил, меня всё устраивает, и я готов выложить э-э-э… восемь тысяч зелёных. Что скажете? – он тревожно замер.
Это было на две тысячи больше моих самых смелых прогнозов. Я, внутренне ликуя, для солидности глубокомысленно помолчал, вроде прикидывая все плюсы и минусы, и согласно кивнул.
От чая Вадим Леонидович отказался и порадовал меня тем, что выудил из кармана рулетку и промерил стены, с выводом: «Гарнитур как влитой станет». Затем, подтверждая серьёзность намерений, Колесов сообщил, что хотел бы начать оформление с завтрашнего дня. Я напомнил, что в субботу всё будет закрыто, он досадливо цыкнул, перенёс нашу встречу на понедельник и продиктовал свои номера: рабочий и домашний.
Я заверил его, что неполадки с моим телефоном возникли из-за неуплаты, я с этим разобрался, и связь будет уже на следующей неделе.
«Тихие травы» Вадим Леонидович всё-таки у меня выклянчил: «Ну пожалуйста, мы же договорились», – шутливо канючил он, и я решил не проявлять копеечную мелочность.
Вадим Леонидович прижал книгу к груди, сказал, мол, именно эта «счастливая находка» всё определила, это был для него добрый знак в отношении квартиры. Он спохватился, что в машине их ждёт товарищ и ужасно невежливо заставлять его ждать. Раньше Вадим Леонидович не говорил ни о каком третьем…
Теперь я понимаю – покладистость спасла меня. Кто знает, что было бы, откажи я Колесову в подарке.
Как-то само собой получилось, наверняка из-за тянущегося разговора, но я вышел вслед за гостями. Пока мы спускались, Колесов смеялся и счастливо говорил, что он давно искал эти «Тихие травы», и вот помог случай.
За те несколько часов, с момента, когда я возвратился из магазина, а потом принимал Колесова, полностью стемнело. Двор был пуст. Женщина с вязанием у подъезда, болтливые дачники, лысый мужик с пакетом и монтёр разбрелись по домам.
В машине – «Жигули» шестой модели – сидели два человека: водитель и пассажир рядом. При нашем появлении они вышли, и Вадим Леонидович помахал им книжкой, после чего шофёр расслабленно облокотился о кузов, а его сосед двинулся нам навстречу.
Я только успел подумать, что мои посетители были даже не втроём, а вчетвером…
Засада
Далее покатились стремительные и кровавые события, с которых началась моя иная жизнь. Всё произошло буквально за секунды.
Человек, шедший к нам, вдруг содрогнулся, рухнул на колени, держась рукой за висок, а рядом с ним глухо шмякнулся о землю короткий ломик, кем-то брошенный из темноты. Возле водителя «Жигулей» уже находился давешний ненавистник Ельцина, лысеющий здоровяк с бумажным пакетом. Он сделал колющее движение, и свёрток неожиданно погрузился в живот противника, так что бумага сжалась в гармошку возле его кулака. Он резко вытащил руку, и я увидел длинный прямой клинок. Лысый повторно воткнул оружие в бок водителю, тот, бездыханный, ополз на землю. Убийца же расторопно вытер смятой бумагой лезвие.
Колесов успел отбежать на пару метров, но был настигнут фальшивыми дачниками. Я услышал шорох борьбы.
Алик попытался что-то сказать, но вместо слов отрыгнул кровью. Из горла Алика торчало остриё вязальной спицы. За его спиной стояла пожилая женщина, та самая, что раньше вязала на скамейке. Алик дёрнулся, и сквозь его ладонь, прикрывающую кадык, прошла вторая спица.
Появился монтёр, подобрал упавший ломик и резким ударом по затылку добил умирающего, после чего сообщил пожилой женщине, прикончившей спицами краснолицего Алика:
– Этот готов, Маргарита Тихоновна.
Мне он заговорщицки подмигнул и со словами: «Не шуметь!» – заткнул ломик себе за пояс.
С выключенными фарами подкатил тёмный «раф», из которого выскочили двое и начали проворно закидывать трупы в кузов. Люди действовали быстро и слаженно.
Очкастая Маргарита Тихоновна, то и дело удостаивая меня беспокойным взглядом, шептала:
– Тихо, тихо, всё хорошо, главное, тихо…
К ней подбежала дачница. Огородный инвентарь оказался короткой пикой. Дачница протянула отнятую книжку, шёпотом позвала:
– Пал Палыч, скорее!
Усатый мужик приволок связанного Колесова с кляпом во рту и грубо закинул в «раф».
Лысый сказал Маргарите Тихоновне:
– Я с Палычем на их машине, за вами следом.
– Нет, Игорь Валерьевич, вы давайте к нам, а Пал Палыч и сам справится, – она бережно положила книгу за обшлаг своего жакета и скомандовала: – Исчезаем!
Лысый, деликатно подталкивая меня в спину, усадил на боковое кресло и сам примостился на соседнем. Монтёр и женщины тоже влезли в салон, хлопнула дверь, и «раф» тронулся в темноту.
Надо сказать, когда происходила расправа, я стоял не шелохнувшись, точно одеревенел, и если бы захотел издать крик, то вряд ли смог бы – шок надёжно закупорил мне горло.
Перед моими глазами проносились кадры криминальных сводок о бандитах, прознающих через наводчиков о квартирных сделках. Если бы Колесов сам не находился в довольно плачевном состоянии, я бы предположил, что всё подстроил он, но поскольку мы не подписывали документов, в таком поступке не было смысла.
Кошмарные вопросы, как обезумевший пчелиный рой, гудели в моей голове: «Неужели бандиты ошиблись, поторопились? Что будет со мной? Меня оставили в живых и не тронули даже пальцем. Но почему или, лучше сказать, до какого времени? Пока не выяснится, что денег нет и продажи не было?».
На трясущемся полу «рафа» ворочался на трупах связанный Колесов. Я подумал, что у него есть все предпосылки считать, будто я подставил его, хотя это и представлялось абсурдным – никто не берёт с собой деньги при осмотре жилья.
Из людей, окружающих меня, за настоящего налётчика вполне мог сойти монтёр – очень уж наглое у него было лицо. Лысый здоровяк, похожий на базарного мясника, тоже производил зловещее впечатление. Глядя же на Маргариту Тихоновну и дачницу, не верилось, что эти интеллигентного вида женщины оказались хладнокровными убийцами.
Пожилая сразу отчитала монтёра:
– Саня, у тебя ум есть? А если бы лом на асфальт упал, сколько звону было бы!
Парень извинялся:
– Маргарита Тихоновна, ей богу, я хотел вначале киянкой бросить, а потом побоялся – он вон какой здоровый был. – Монтёр пнул мертвеца ногой. – Вдруг бы не оглушило…
– Не ругайте Сашу, – вступилась за подельника дачница, – по-моему, всё прошло просто отлично.
– Точно, – согласился водитель, – без сучка без задоринки.
– Танечка, я знаю, что говорю, – возразила Маргарита Тихоновна. – И второе, ребята, я же просила, на задании – вслух никаких имён! А вы, будто дети малые, «Маргарита Тихоновна, Пал Палыч»… – передразнила она. – Что это такое?!
Дачница и монтёр виновато заулыбались.
– Да будет вам, Маргарита Тихоновна, – вмешался лысый, – они же шёпотом… И вы сами, между прочим, ко мне обратились по всей форме, разве фамилию не назвали, – он усмехнулся.
– Простите, Игорь Валерьевич. Значит, и меня нужно списывать, – удручилась Маргарита Тихоновна. – Тем не менее, молодёжь, в следующий раз будьте осмотрительней.
Монтёр, сидевший понурясь, перестал изображать раскаяние и неожиданно протянул мне ладонь:
– Сухарев, Александр.
– Вязинцев, Алексей, – выдавил я.
– Очень приятно, – улыбнулся монтёр. На вид он был мой ровесник, может, чуть младше. – Ну, ты как? Штаны, небось, полные до краёв? – доверительно спросил он.
Пока я обдумывал ответ на фамильярное заявление, Маргарита Тихоновна первой осадила монтёра:
– Прекрати, Саша! – Глубоко вздохнула и сказала необычайно торжественно: – Алексей… Уважаемый Алексей Владимирович. Я могу лишь представить, какое мнение у вас сложилось об увиденном. Но вы должны знать: в нашем обществе вам ничего не угрожает. Хотя бы потому, что мы все, – при этих словах монтёр, дачница, лысый Игорь Валерьевич, водитель и его штурман синхронно закивали, – любили и уважали вашего дядю, Максима Даниловича Вязинцева… Клянусь светлой его памятью, мы не хотели вас испугать, но, увы, предупредить тоже не могли. Слишком многое пришлось бы объяснять, вы могли бы нам не поверить, и преступники ушли бы от наказания. Надеюсь, в скором времени вы сами во всём разберётесь и не осудите нас за расправу. Полгода назад эти… нелюди, – голос её дрогнул, – подстерегли и злодейски убили Максима Даниловича…
Лысый перевернул бездыханного Алика (вязальная спица торчала из горла, удерживая пробитую насквозь кисть), откинул кожаный борт его пиджака и достал очень длинное и тонкое, словно игла, шило, спрятанное по рукоять в узкую пластиковую трубку.
– Вот, полюбуйтесь, – обратился он ко мне, – чтобы у вас не возникало сомнений насчёт этих личностей. Штука фирменная. Они их специально в сургуче закаливают, жало крепкое, как алмаз, проткнёт что угодно.
– У, суки! – монтёр Саша Сухарев схватил Колесова за шиворот, несколько раз тряхнул и снова бросил на трупы, сопроводив тяжёлым ударом по почкам. Тот застонал.
Маргарита Тихоновна без тени сочувствия наблюдала за этой сценой, затем с издёвкой помахала перед носом Колесова отнятой книгой:
– Ну? Как там вас звать-величать? Вадим Леонидович? Что же вы так сплоховали, а?
Связанный Колесов заворочался, мокро блеснул его глаз, полный муки и страха.
– Теперь слушайте внимательно. Ваш осведомитель Шапиро задержан. Поэтому я надеюсь, вы проявите на допросе должную разговорчивость… Кстати, жизнь вам я не гарантирую. Но даже при худшем раскладе до субботы вы дотянете. Вы что-то хотите сказать?
Монтёр Сухарев приподнял Колесова, сорвал с его рта пластырь и вытащил напитавшийся кровью бурый кляп. Колесов булькнул: «Я никого не убивал. Я ни при чём… Это Марченко приказы отдавал», – и кляп снова запечатал ему рот.
– Значит, вы готовы к сотрудничеству? – жёстко спросила Маргарита Тихоновна. – Или… вы погибли при задержании? Нам в принципе и Шапиро хватит, как вы думаете, Игорь Валерьевич?
Лысый приставил к боку Колесова отнятое шило, и несчастный Вадим Леонидович согласно затряс головой. Что он мог ещё сделать? На его месте я бы тоже принял любые условия.
Монтёр обшаривал трупы, а лжедачница Таня не сводила с меня умилённых глаз, потом вдруг произнесла:
– Алексей Владимирович, вы держались прекрасно, и вы очень, очень похожи на Максима Даниловича…
– Факт, – на миг обернулся водитель. – Я тоже заметил. Одно лицо.
– Даже не верится, – сказал штурман. – Весь в дядю…
– Алексей Владимирович, – Маргарита Тихоновна осторожно коснулась моего колена, – я понимаю, вы взволнованы, шокированы. Если вы хотите собраться с мыслями, помолчать – пожалуйста. Отдыхайте, приходите в себя.
У меня-то как раз было много вопросов: «За что убили дядю Максима?», «Кто эти люди, его предполагаемые убийцы?». И, наконец, самое главное: «Что будет со мной?». Но, повинуясь категоричному заявлению Маргариты Тихоновны, я остаток пути смотрел в чёрное окно, за которым бежала беспокойная кардиограмма придорожных огней.
В дороге обсуждалось, куда меня везти. Маргарита Тихоновна зазывала к себе, а лысый Игорь Валерьевич настаивал, что лучше к нему, поскольку адрес Маргариты Тихоновны, возможно, известен недоброжелателям. Это оказалось решающим аргументом, «раф» вильнул с освещённой улицы, запетлял среди безликих панельных застроек – Игорь Валерьевич, как выяснилось, жил где-то неподалёку.
Возле подъезда компания разделилась. Водитель и штурман, получив приказ сторожить Колесова, сразу уехали вместе со своим мёртвым грузом.
Первая ночь. Первый день
Сказать, что это была самая страшная ночь в моей жизни, я сейчас не могу. Скорее всего, одна из череды страшных.
Мы поднялись наверх, Игорь Валерьевич с порога радушно предложил мне чувствовать себя «как дома». Остальным особого приглашения не потребовалось. Таня ушла на кухню хозяйничать, Сухарев, насвистывая, заперся в уборной, Маргарита Тихоновна провела меня в гостиную, а Игорь Валерьевич указал на смежную комнату: «Алексей, на ночь спальня в полном вашем распоряжении».
От чая я вежливо отказался: вдруг в чашку чего-то намешали. Страх мой чуть поутих, ноги перестали быть ватными, хотя живот всё ещё горел от адреналиновой интоксикации. Я пытался держаться с достоинством, но голос выдавал моё состояние, и я предпочитал отмалчиваться и ограничивался кивком «да» или трясущимся вправо-влево «нет».
Маргарита Тихоновна не забывала повторять: «Алексей Владимирович, главное, помните: вы среди друзей и в полной безопасности», – но мне не особо верилось.
Ещё улыбаясь, Маргарита Тихоновна села за телефон. Слова, прозвучавшие в трубке, напрочь вышибли её из былого состояния спокойствия.
– Как сбежал, когда?!. – жалобно вскричала Маргарита Тихоновна. – Да успокойтесь, Тимофей Степанович! Никто вас не обвиняет!.. Что с остальными? Да вы меня без ножа… Нет слов… Хорошо, пусть ищут… Да, приезжайте немедленно. Мы у Игоря Валерьевича!
Положив трубку, она произнесла, с трудом скрывая волнение:
– Товарищи, только спокойно. У нас огромная неприятность. Сбежал Шапиро. Вадик Провоторов ранен…
Повисла напряжённая тишина. Затем об стол грохнул кулак Игоря Валерьевича. Подлетели, дребезжа, чашки. Ахнула Таня. Сухарев заметался по комнате, матерясь.
– Эмоции прекратить! – приказала Маргарита Тихоновна. – Как вы себя ведёте? Постыдитесь хотя бы Алексея Владимировича!
Сухарев сразу умолк, плюхнулся в кресло, шумно сопя.
Игорь Валерьевич горько произнёс:
– Вот уж точно, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь…
– Может, ещё поймают? – робко спросила Таня.
– Сомневаюсь, – Маргарита Тихоновна вздохнула. – Шапиро уже лёг на дно и, самое скверное, предупредил Марченко.
Игорь Валерьевич поднял слетевшее со стола блюдце:
– Значит, срочно выходите на связь с Терешниковым, или кто там сейчас у них ответственный, и….
– Игорь Валерьевич…
– Иначе Марченко сделает это первым. Если ещё не сделал. – Заметив нерешительность Маргариты Тихоновны, он добавил: – Марченко всё равно был в курсе планов Шапиро, и диверсионная группа тоже действовала с его ведома. Он бы через день сам забил тревогу.
Маргарита Тихоновна сочувственно посмотрела на меня:
– Как бы хотелось, Алексей Владимирович, всё вам рассказать, чтобы вы наконец успокоились… Но это долгий, непростой разговор. Лучше мы перенесём его на другое время. Вы, наверное, поняли, у нас возникли непредвиденные сложности…
Следующие минут пятнадцать Маргарита Тихоновна обзванивала необходимых людей, я же ловил каждое слово, надеясь облечь его в смысл и прояснить собственную судьбу.
– Добрый вечер, товарищ Терешников. Селиванова беспокоит, из широнинской читальни. У нас ЧП… Необходимо собрание, завтра… Двадцать ноль-ноль, как обычно. Поймите, дело не терпит отлагательств!.. Если они сегодня отправятся на вокзал, то к завтрашнему вечеру успеют… Не нужно с этим тянуть… Намекаю, у нас имеется то, что может протухнуть… Да, в трёх экземплярах. Четвёртый жив и готов рассказать о гореловской читальне… Поражаюсь вашей проницательности… Да, пожалуйста, сообщайте Лагудову и Шульге… И не пугайте меня Советом библиотек…. Да хоть в Верховный совет! И не смейте говорить со мной в подобном тоне! Я вам не девочка! Мне, слава богу, шестьдесят три! Да!.. Всего хорошего!.. Какой мерзавец! – последнее было сказано, когда трубка брякнула об аппарат.
Впрочем, с другими Маргарита Тихоновна говорила намного приветливее:
– Товарищ Буркин, здравствуйте… Я сейчас говорила с Терешниковым. Назначили сбор на субботу. Вы как, поддержите? Ну спасибо огромное… Василий Андреевич, в двух словах и не опишешь… В общем, будем выводить гореловских на чистую воду… Поймали с поличным… Да… Три четверти уничтожено, одна четверть с битой мордой находится связанная под охраной… Да ничего хорошего! У нас Шапиро сбежал… Выясняем… Я и сама не рада… Да, спасибо…
– Жанночка Григорьевна… Добрый вечер… Как здоровье?.. Тут без вас завтра никак… Собрание… Гореловские прокололись… Сегодня… Троих мы ликвидировали. А вот поздравлять нас с удачей рановато – важнейший свидетель, он же обвиняемый, сбежал… Да, тот самый Шапиро… Что думаю? В воскресенье, думаю, будет жарко… Да… Жанночка Григорьевна, я всегда рассчитывала на вас… Спасибо, родная, на добром слове…
– Товарищ Латохин, добрый вечер. Это Селиванова. В субботу собрание… Миленький, я понимаю, что как снег на голову… Звонила Терешникову… Завтра расставим все точки над «i»… Наша инициатива… Устроили мы тут охоту на лис… С переменным успехом… Самого главного упустили. Сбежал, прямо из-под венца… Пилипчук был за старшего, Тимофей Степанович… Ну, винит себя, убивается… Нам ещё инфаркта не хватало… А я что? Я, товарищ Латохин, как та курочка Ряба, всех успокаиваю: не плачь, дед, не плачь, баба… Да… Терешников? Он в своей манере, Советом библиотек стращает… Благодарю, товарищ Латохин, в вас мы не сомневались…
Суть происходящего я понял. Бегство некоего Шапиро полностью смешало планы моих похитителей, и разбойное нападение на Колесова и его товарищей оборачивалось серьёзными проблемами. Маргарита Тихоновна довольно часто употребляла слова «библиотека», «читальня», «совет», но мне показалось, что в контексте у них было несколько иное значение.
– Всё, что от меня зависит, я сделала. Буркин, Симонян и Латохин на нашей стороне, другого я и не ожидала, – подытожила Маргарита Тихоновна.
Резко и требовательно затрещал дверной звонок. Потом постучали.
– Это Тимофей Степанович, – встрепенулась Маргарита Тихоновна, – во всяком случае, я надеюсь…
Игорь Валерьевич, прихватив нож, пошёл открывать. Через несколько секунд в прихожей раздался кашляющий голос пришедшего: