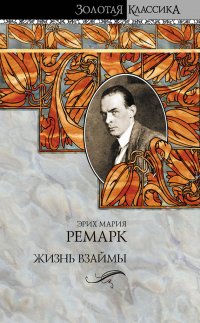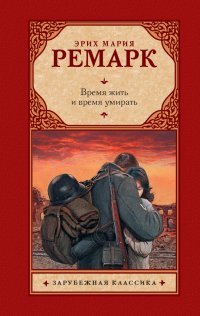
Читать онлайн Время жить и время умирать бесплатно
- Все книги автора: Эрих Мария Ремарк
Erich Maria Remarque
ZEIT ZU LEBEN UND ZEIT ZU STERBEN
Серия «Зарубежная классика»
Печатается с разрешения The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis.
© The Estate of the Late Paulette Remarque,1954
© Перевод. Н. Н. Федорова, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
* * *
1
В России смерть пахла не так, как в Африке. В Африке, под мощным огнем англичан, трупы тоже нередко подолгу лежали непогребенные между позициями, но солнце работало быстро. Ночью вместе с ветром долетал запах, сладковатый, душный, тяжелый, – мертвецы, вспученные газом, призрачно поднимались в свете чужих звезд, словно вновь сражались, молча, без надежды, каждый в одиночку, но уже на следующий день начинали съеживаться, припадать к земле, бесконечно усталые, как бы стремясь зарыться в нее; когда же позднее удавалось их вынести, иные были уже легкими и ссохшимися, а от тех, кого случайно находили недели спустя, оставались едва ли не одни скелеты, гремевшие в неожиданно чересчур просторных мундирах. Там смерть была сухая, в песке, на солнце и ветру. В России же – грязная, зловонная.
Уже много дней кряду лил дождь. Снег таял. Месяцем раньше сугробы были куда выше – метра на два с лишним. Разрушенная деревня, которая поначалу состояла будто из одних только обугленных крыш, ночь за ночью беззвучно вырастала из оседающего снега. Выползли на свет оконные наличники, еще несколько ночей спустя – дверные рамы, потом ступеньки, ведущие в гнилую белизну. Снег таял и таял, и мало-помалу появлялись мертвецы.
Давние мертвецы. Деревня несколько раз переходила из рук в руки – в ноябре, в декабре, в январе и теперь, в апреле. Ее занимали и оставляли, оставляли и занимали снова, налетавшие метели заносили трупы снегом, за несколько часов нередко наметало такие сугробы, что многих санитары уже не могли отыскать, а затем едва ли не каждый день набрасывал на разорение новый слой белизны, как медсестра набрасывает простыню на окровавленную постель.
Сперва появились январские мертвецы. Они лежали поверх остальных и обнаружились в начале апреля, вскоре после того, как снег начал оплывать. Их тела замерзли в камень, а лица были серые, восковые.
Хоронили их, как доски. На бугре за деревней, где снег был не очень глубокий, его раскидали и кирками долбили могилы в заледенелой земле. Утомительная работа.
Возле декабрьских мертвецов находили оружие, принадлежавшее январским. Винтовки и ручные гранаты погружались глубже, чем тела, иногда попадались и каски. У этих трупов было легче срезать из-под френчей личные знаки – талая вода успела размягчить ткань. Эта вода стояла в открытых ртах, словно мертвецы утонули. У некоторых частично оттаяли и тела. Когда их уносили, тело еще оставалось окоченевшим, но рука уже свисала с носилок и покачивалась, будто он размахивал ею, до ужаса равнодушно и почти непристойно. У всех, когда они лежали на солнце, сперва оттаивали глаза. Теряли стеклянный блеск, делались студенистыми. Лед в них таял и медленно вытекал, словно слезы.
Внезапно на несколько дней опять сильно подморозило. Снег покрылся ледяной коркой наста. Перестал оседать. Но потом снова задул неприятный, сырой ветер.
Сначала в блеклой белизне завиднелось серое пятно. Часом позже это была рука, судорожно тянувшаяся вверх.
– Еще один, – сказал Зауэр.
– Где? – спросил Иммерман.
– Вон там, у церкви. Попробуем откопать?
– Зачем? Ветер сам его откопает. Снег там пока что глубокий, не меньше одного-двух метров. Чертова деревня лежит в низине. Или тебе позарез надо зачерпнуть сапогами лишнюю порцию ледяной воды?
– Да нет, конечно. – Зауэр глянул в сторону кухни. – Не знаешь, что нынче дадут пожрать?
– Капусту. Капусту со свининой, картошкой и водой. Насчет свинины промашка.
– Капуста! Понятно! Третий раз на этой неделе. – Зауэр расстегнул брюки и начал мочиться. – Год назад получалось классно, – горько пояснил он. – Лихо, по-военному, чин чинарем. Самочувствие отличное. Жратва первый сорт! Наступление, каждый день продвигались на столько-то километров! Я думал, скоро вернусь домой. А теперь мочусь как штатский, уныло и без удовольствия.
Иммерман сунул руку под френч, стал не спеша почесываться.
– А по мне, без разницы, как мочиться, лишь бы опять на гражданку.
– По мне тоже. Но, по всему видать, мы навек останемся в солдатах.
– Ясное дело. Герои, пока не сдохнем. Только СС пока лихо мочится.
Зауэр застегнул брюки.
– Еще бы. Мы делаем грязную работу, а эта братва загребает почести. Мы две-три недели деремся за какой-нибудь паршивый город, а в последний день заявляется СС и победоносно вступает туда впереди нас. Ты глянь, как о них пекутся! Всегда самые теплые шинели, самые лучшие сапоги и самый большой кусок мяса!
Иммерман ухмыльнулся:
– Теперь и СС города не занимает. Отходит. Как и мы.
– Не как мы. Мы не сжигаем и не расстреливаем всех и все что ни попадя.
Иммерман перестал чесаться.
– Что с тобой сегодня? – удивленно спросил он. – Вдруг человеческий тон! Смотри, как бы Штайнбреннер не услыхал, не то живо загремишь в штрафную роту. Глянь-ка, снег у церкви просел! Уже и часть плеча видно.
Зауэр посмотрел в ту сторону.
– Если и дальше так будет таять, завтра он повиснет на каком-нибудь кресте. Он там, где надо. Аккурат над кладбищем.
– Это кладбище?
– А как же. Ты чего, не помнишь? Мы ведь тут уже бывали. При последнем наступлении. В конце октября.
Зауэр подхватил свой котелок.
– Вон полевая кухня! Быстрей, не то нам одна жижа достанется.
Рука все росла, росла. Казалось, не снег тает, а она как бы медленно вырастает из земли, словно смутная угроза и оцепенелая мольба о помощи.
Ротный остановился.
– Что это там?
– Какой-то русский, господин лейтенант.
Раэ присмотрелся. Разглядел линялый рукав.
– Это не русский, – сказал он.
Фельдфебель Мюкке пошевелил пальцами в сапогах. Он терпеть не мог ротного. Конечно, стоял перед ним навытяжку, по уставу, – дисциплина превыше всех личных чувств, – но, чтобы дать выход презрению, незаметно шевелил пальцами в сапогах. Болван, думал он. Брехун!
– Распорядитесь откопать его, – сказал Раэ.
– Слушаюсь.
– Пошлите прямо сейчас несколько человек. Неприглядное зрелище.
Слабак, думал Мюкке. В штаны наклал! Неприглядное зрелище! Будто мы первый раз мертвеца видим!
– Это немецкий солдат, – сказал Раэ.
– Так точно, господин лейтенант. Последние четыре дня мы находили только русских.
– Откопайте его. Тогда и посмотрим, кто он. – Раэ зашагал к своей квартире.
Чванливая обезьяна, подумал Мюкке. У него и печка есть, и теплый дом, и Железный крест на шее. А у меня ЖК-один и то нету. Хоть я и заслужил его точно так же, как этот все свои побрякушки.
– Зауэр! – крикнул он. – Иммерман! Сюда! С лопатами! Кто тут еще? Гребер! Хиршман! Бернинг! Штайнбреннер, вы за старшего! Вон та рука! Откопать и похоронить, если это немец! Бьюсь об заклад, что нет.
Штайнбреннер прогулочным шагом подошел ближе.
– Спорим? – спросил он. Голос у него был высокий, мальчишечий, и он тщетно старался держать его пониже. – А на сколько?
Секунду помедлив, Мюкке ответил:
– На три рубля. На три оккупационных рубля.
– Пять. На меньшее не согласен.
– Ладно, пускай пять. Но только деньги на бочку.
Штайнбреннер рассмеялся. Зубы блеснули в неярком солнце. Ему было девятнадцать, блондин с лицом готического ангела.
– Само собой, деньги на бочку! Как же иначе, Мюкке?
Мюкке недолюбливал Штайнбреннера, но боялся его и соблюдал осторожность. Каждый знал, что тот махровый нацист.
– Ладно, ладно. – Мюкке извлек из кармана черешневый портсигар с выжженным на крышке цветочным узором. – Сигарету?
– А то.
– Фюрер не курит, Штайнбреннер, – невозмутимо обронил Иммерман.
– Заткнись.
– Сам заткнись.
– У тебя, похоже, не житуха, а лафа. – Штайнбреннер приподнял длинные ресницы, искоса глянул на него. – Подзабыл уже кое-что, да?
Иммерман рассмеялся:
– Я не очень-то забывчив. И знаю, куда ты клонишь, Макс. Но и ты не забывай, чту я сказал. Фюрер не курит. Вот и все. Тут четыре свидетеля. И фюрер правда не курит, это каждый знает.
– Хватит болтать! – прицыкнул Мюкке. – Начинайте откапывать. Приказ ротного.
– Ну, тогда за дело! – Штайнбреннер закурил сигарету, которой его угостил Мюкке.
– С каких это пор в наряде курят? – спросил Иммерман.
– Это не наряд, – раздраженно бросил Мюкке. – Кончайте треп и откапывайте русского. Хиршман, вы тоже.
– Там не русский, – сказал Гребер. Он единственный проложил вверх по сугробу несколько досок и начал отгребать снег вокруг руки и груди. Теперь стал отчетливо виден сырой френч.
– Не русский? – Штайнбреннер быстро и уверенно, как танцор, прошел по шатким доскам, присел на корточки рядом с Гребером. – А ведь правда! Обмундирование немецкое. – Он обернулся. – Мюкке! Это не русский! Я выиграл!
Мюкке подошел тяжелой походкой. Уставился в яму, куда с краев медленно стекала вода.
– Не понимаю, – проворчал он. – Без малого неделю одних только русских находили. Должно быть, этот из декабрьских, просто провалился в глубину.
– А может, и из октябрьских, – сказал Гребер. – Здесь тогда наш полк проходил.
– Чепуха. Не может быть, чтоб из тех.
– Может. Здесь у нас был ночной бой. Русские отступали, и мы сразу двинули дальше.
– Так и есть, – кивнул Зауэр.
– Чепуха! Наш обоз наверняка подобрал и похоронил всех убитых. Наверняка!
– А вот я не уверен. В конце октября уже были сильные снегопады. А мы в ту пору еще быстро наступали.
– Второй раз повторяешь. – Штайнбреннер взглянул на Гребера.
– Можешь и еще разок послушать, если охота. Мы тогда пошли в контрнаступление и продвинулись больше чем на сто километров.
– А теперь отступаем, да?
– Теперь мы опять здесь.
– Стало быть, отступаем… или нет?
Иммерман предостерегающе толкнул Гребера локтем.
– А что, разве наступаем? – спросил Гребер.
– Мы сокращаем свои позиции.
Иммерман насмешливо посмотрел Штайнбреннеру в лицо:
– Уже целый год. Стратегическая необходимость, чтобы выиграть войну. Это ж всякий знает.
– На руке-то кольцо, – вдруг сказал Хиршман. Он продолжал копать, отрыл другую руку покойника.
Мюкке наклонился к яме.
– Верно. Даже золотое. Обручальное кольцо.
Все тоже стали смотреть.
– Ты поосторожнее, – шепнул Греберу Иммерман. – Иначе этот гад оставит тебя без отпуска. Донесет как на критикана. Только того и ждет.
– Просто нос задирает. Ты лучше сам остерегайся. Он больше за тобой следит, чем за мной.
– Да мне плевать. Я в отпуск не собираюсь.
– Значки нашего полка, – сказал Хиршман. Он продолжал раскапывать снег руками.
– Стало быть, уж точно не русский, а? – Штайнбреннер послал ухмылку нагнувшемуся Мюкке.
– Да, не русский, – с досадой бросил фельдфебель.
– Пять марок! Жаль, на семь не поспорили. Ну, гони монету!
– У меня нет с собой денег.
– А где ж они? В Имперском банке? Давай гони!
Мюкке злобно глянул на Штайнбреннера. Потом достал спрятанный на груди мешочек и отсчитал деньги.
– Нынче все наперекосяк! Черт побери!
Штайнбреннер сунул деньги в карман.
– По-моему, это Райке, – сказал Гребер.
– Что?
– Лейтенант Райке из нашей роты. Его погоны. А на правом указательном пальце недостает верхней фаланги.
– Чепуха. Райке был ранен, его вынесли. Так мы после слыхали.
– Это Райке.
– Откопайте лицо.
Гребер и Хиршман копали дальше.
– Осторожно! – крикнул Мюкке. – Голову не заденьте лопатами.
Из снега проступило лицо. Мокрое и какое-то странное, с глазницами, еще полными снега, будто скульптор не вполне доделал маску, оставил ее слепой. Меж синими губами поблескивал золотой зуб.
– Я его не узнаю, – сказал Мюкке.
– Наверняка он. Других офицеров мы здесь не теряли.
– Протрите ему глаза.
Гребер секунду помедлил. Потом рукавицей осторожно смахнул снег:
– Да, это он.
Мюкке заволновался. И теперь стал командовать сам. Офицер, решил он, а значит, командовать должен старший по званию.
– Поднимайте! Хиршман и Зауэр – за ноги, Штайнбреннер и Бернинг – за руки. Гребер, следите за головой! Ну, все вместе: раз, два, взяли!
Тело шевельнулось.
– Еще разок! Раз, два, взяли!
Труп опять шевельнулся. Глухой вздох вырвался из-под него, из снега, когда туда проник воздух.
– Господин фельдфебель, нога отваливается, – крикнул Хиршман.
Нога в сапоге провисла. Плоть внутри сгнила из-за талой воды и уступила.
– Опустите! Ниже! – крикнул Мюкке. Но было уже поздно. Тело сползло наземь, в руках у Хиршмана остался сапог.
– Нога там? – спросил Иммерман.
– Отставьте сапог и копайте дальше! – гаркнул Мюкке Хиршману. – Кто мог знать, что он уже этак размяк! А вы, Иммерман, успокойтесь. Имейте уважение к смерти!
Иммерман озадаченно посмотрел на Мюкке, но промолчал. Через несколько минут они раскидали весь снег вокруг мертвеца. В мокром френче нашли бумажник с документами. Чернила расплылись, но прочитать можно. Гребер оказался прав; это был лейтенант Райке, который осенью служил у них в роте взводным.
– Надо немедля доложить, – сказал Мюкке. – Оставайтесь здесь! Я сейчас вернусь.
Фельдфебель зашагал к дому, где жил ротный. Единственному мало-мальски целому. До революции он, вероятно, принадлежал попу. Раэ сидел в большой комнате. Мюкке с ненавистью глядел на широкую русскую печь, в которой горел огонь. На лежанке спала лейтенантова овчарка. Мюкке доложил о случившемся, и Раэ пошел с ним к церкви. Минуту-другую смотрел на Райке. Потом сказал:
– Закройте ему глаза.
– Нельзя, господин лейтенант, – возразил Гребер. – Веки уже чересчур размякли. Порвутся.
Раэ перевел взгляд на разбитую церковь:
– Отнесите его пока что туда. Гроб у нас есть?
– Гробы остались в тылу, – сообщил Мюкке. – У нас было несколько штук для особых случаев. Они достались русским. Надеюсь, пригодятся им.
Штайнбреннер хохотнул. Раэ не засмеялся.
– Можем сколотить гроб?
– Слишком много времени потребуется, господин лейтенант, – сказал Гребер. – Тело чересчур размякло. Да и подходящие доски в деревне вряд ли найдутся.
Раэ кивнул.
– Положите его на плащ-палатку. В ней и похороним. Выройте могилу и сколотите крест.
Гребер, Зауэр, Иммерман и Бернинг понесли обмякшее тело к церкви. Хиршман нерешительно пошел следом, с сапогом, в котором были остатки ноги.
– Фельдфебель Мюкке! – сказал Раэ.
– Господин лейтенант!
– Сегодня сюда доставят четверых пленных русских партизан. Завтра утром они будут расстреляны. Наша рота получила соответствующий приказ. Опросите взвод, есть ли добровольцы. Иначе людей назначит канцелярия.
– Слушаюсь, господин лейтенант!
– Одному богу известно, почему именно мы! Хотя при нынешней неразберихе…
– Я доброволец, – сказал Штайнбреннер.
– Хорошо. – Лицо Раэ не дрогнуло. По расчищенной в снегу дорожке он зашагал обратно.
Обратно к своей печке, подумал Мюкке. Слабак! Что уж тут особенного – расстрелять нескольких партизан? Будто они не укокошили сотни наших парней!
– Если русских доставят вовремя, пускай они заодно и для Райке могилу выроют, – сказал Штайнбреннер. – Тогда нам не придется пуп надрывать. Одно к одному. Верно, господин фельдфебель?
– Да как хотите! – Мюкке разозлился. Ишь, умник выискался, думал он. Тощий дылда, каланча в роговых очках. Лейтенант еще с той, первой войны. На этой в звании так и не повышен. Храбрый, конечно, ну а кто не храбрый? Но по натуре не командир.
– Какого вы мнения о Раэ? – спросил он у Штайнбреннера.
Тот недоуменно воззрился на него:
– Он же наш ротный, так?
– Ясное дело. Но вообще?
– Вообще? В каком смысле «вообще»?
– Ни в каком, – буркнул Мюкке.
– Достаточно глубоко? – спросил старший из русских, мужчина лет семидесяти, с грязными седыми усами и очень синими глазами. Он кое-как говорил по-немецки.
– Заткнись, говорить будешь, только когда спросят, – отрезал Штайнбреннер. Он здорово оживился. Глаза его следили за женщиной, которая была среди партизан. Молодая, крепкая.
– Надо поглубже, – сказал Гребер. Вместе со Штайнбреннером и Зауэром он охранял пленных.
– Для нас? – спросил русский.
Штайнбреннер быстро и легко подскочил к нему, с размаху хлестнул ладонью по щеке.
– Я же сказал, дед, заткни варежку. Тут тебе не базар!
Он ухмыльнулся. В лице не было злобы. На нем читалось лишь удовольствие, с каким ребенок отрывает лапки мухе.
– Нет, эта могила не для вас, – сказал Гребер.
Русский не двигался. Замерев, смотрел на Штайнбреннера. А Штайнбреннер смотрел на него. Выражение его лица вдруг изменилось. Стало напряженным, бдительным. Он думал, русский бросится на него, и ждал первого движения. Невелика важность, если он без разговоров пристрелит партизана, все равно ведь тот приговорен к смерти, и никто не станет докапываться, действовал ли он в порядке самообороны или нет. Но Штайнбреннер не считал, что это одно и то же. Гребер не знал, то ли он вроде как из спортивного интереса норовит разозлить русского, чтобы тот на мгновение забылся, то ли в нем еще жила частица странного педантизма, которая постоянно искала предлог, чтобы и при убийстве выглядеть перед самим собой блюстителем закона. Здесь было то и другое. Причем одновременно. Гребер частенько видел такое.
Русский не двигался. Кровь стекала из носа в усы. Гребер размышлял, как бы он сам поступил в такой ситуации – кинулся бы на противника, рискуя за ответный удар мгновенно отправиться на тот свет, или безропотно примирился бы со всем, лишь бы прожить еще несколько часов, еще одну ночь. Ответа он не находил.
Русский медленно нагнулся, поднял кирку. Штайнбреннер сделал шаг назад. Готовый выстрелить. Но русский не выпрямился. Опять начал долбить землю в яме. Штайнбреннер осклабился:
– А ну, ложись.
Русский отставил кирку, лег в яму. Лежал, не шевелясь. Несколько комьев снега упали на него, когда Штайнбреннер перешагнул через могилу.
– В длину достаточно? – спросил он у Гребера.
– Да, Райке был невысокий.
Русский смотрел вверх. Широко открытыми глазами. В них словно бы отражалась небесная синева. Мягкие волоски усов возле рта трепетали от дыхания. Штайнбреннер оставил его некоторое время лежать. Потом скомандовал:
– Вылезай!
Русский выбрался из ямы. На пиджак налипла мокрая земля.
– Та-ак, – сказал Штайнбреннер, глянув на женщину. – Теперь пойдем копать могилы для вас. Не такие глубокие. Без разницы, сожрут ли вас летом лисы.
Раннее утро. Тусклая красная полоска проступала у горизонта. Снег хрустел; ночью опять слегка подморозило. Отрытые могилы казались до жути черными.
– Черт, – сказал Зауэр. – Чего только на нас не взваливают! С какой стати мы должны этим заниматься? Почему не СД[1]? Вот кто спецы по расстрелам. С какой стати мы? Причем уже третий раз. Мы же порядочные солдаты.
Гребер небрежно держал винтовку в руке. Сталь была очень холодная. Он надел перчатки.
– СД занято дальше в тылу.
Подошли остальные. Штайнбреннер единственный выглядел вполне бодрым и выспавшимся. Кожа светилась розовым, как у ребенка.
– Слушайте, – сказал он, – тут ведь телка есть. Оставьте ее мне.
– Почему это тебе? – спросил Зауэр. – Обрюхатить ее ты уже не успеешь, времени нету. Раньше надо было пробовать.
– Он и попробовал, – сказал Иммерман.
Штайнбреннер сердито обернулся:
– Откуда ты знаешь?
– А она его не подпустила.
– Много ты понимаешь! Да если б я захотел, эта красная телка была бы моя.
– А может, и нет.
– Хватит языком молоть. – Зауэр откусил кусок табаку. – Если он про то, что ему охота самому ее пристрелить, своими руками, так, по мне, и пускай. Я лично не рвусь.
– Я тоже, – вставил Гребер.
Остальные молчали. Светлело. Штайнбреннер бросил:
– Пристрелить… Много чести для этой шайки! Патронов жаль! Повесить их надо!
– Где? – Зауэр огляделся. – Ты где-нибудь видишь дерево? Или нам сперва еще и виселицу надо строить? А из чего?
– Вон они, – сказал Гребер.
Мюкке доставил четверых русских. Под конвоем – двое солдат впереди, двое сзади. Первым шел старик, за ним – женщина, дальше двое мужчин помоложе. Не дожидаясь приказа, они стали в ряд возле могил. Женщина заглянула в яму и только потом повернулась. На ней была красная шерстяная юбка.
Лейтенант Мюллер из первого взвода вышел из дома ротного. Он замещал Раэ на экзекуции. Смешно, однако формальности нередко еще соблюдались. Каждый знал, что четверо русских, возможно, партизаны, а возможно, и нет, – но их по всей форме допросили и вынесли приговор, реальных шансов уцелеть ни один не имел. Да и что тут, собственно, устанавливать? Ведь у них, говорят, было оружие. Теперь вот их расстреляют, по всей форме, в присутствии офицера. Будто им не все равно.
Лейтенанту Мюллеру было двадцать один год, и в роту его прислали полтора месяца назад. Он внимательно оглядел приговоренных и зачитал приговор.
Гребер смотрел на женщину. Та спокойно стояла в своей красной юбке перед могилой. Крепкая, молодая, здоровая, созданная рожать детей. Она не понимала, что там читает Мюллер, но знала, что это ее смертный приговор. Знала, что через считаные минуты жизнь, кипящая в ее здоровых жилах, оборвется навсегда, и все же стояла спокойно, будто не происходило ничего особенного, будто ее лишь слегка знобило на холодном утреннем воздухе.
Гребер увидел, как Мюкке с важным видом что-то шепнул Мюллеру. Мюллер поднял глаза:
– А после никак нельзя?
– Лучше так, господин лейтенант. Проще.
– Ладно. Делайте как хотите.
Мюкке шагнул вперед.
– Скажи вон ему, пускай снимет сапоги, – велел он старику-русскому, который понимал по-немецки, и показал на одного из пленных помоложе.
Старик сказал, что требовалось. Тихим голосом, почти нараспев. Другой, тщедушный, сперва не понял.
– Живо! – рявкнул Мюкке. – Сапоги! Снимай сапоги!
Старик повторил прежний приказ. Второй русский, наконец, понял и заспешил, будто был обязан разуться как можно скорее, да замешкался. Пошатываясь на одной ноге, стягивал сапог с другой. Зачем он так спешит? – подумал Гребер. Чтобы умереть минутой раньше? Русский снял сапоги, услужливо протянул их Мюкке. Добротная обувка. Мюкке что-то буркнул, показал вбок. Русский поставил туда сапоги и вернулся в строй. Стоял на снегу в грязных портянках. Из них торчали желтые пальцы, и он смущенно их поджимал.
Мюкке оглядел остальных. Обнаружил у женщины рукавицы на меху, приказал положить их рядом с сапогами. Потом секунду-другую смотрел на красную юбку. Целая, из хорошего материала. Штайнбреннер украдкой ухмыльнулся, но Мюкке не приказал женщине снять юбку. То ли боялся Раэ, который из окна мог наблюдать за экзекуцией, то ли не знал, куда потом эту юбку девать. Шагнул назад.
Женщина что-то очень быстро проговорила по-русски.
– Спросите, чего она хочет, – сказал лейтенант Мюллер. Он был бледен. Первая казнь для него.
Мюкке передал вопрос старику.
– Ничего она не хочет. Вас проклинает, и всё.
– Что? – громко переспросил Мюллер, ни слова не разобрав.
– Вас она проклинает, – сказал русский уже громче. – Вас и всех немцев, которые топчут нашу русскую землю! Проклинает ваших детей! Желает, чтобы ее дети однажды вот так же расстреляли ваших детей, как вы сейчас расстреливаете нас.
– Какая наглость! – Мюкке уставился на женщину.
– У нее двое детишек, – добавил старик. – А у меня трое сыновей.
– Хватит, Мюкке! – нервно вскричал Мюллер. – Мы не пасторы.
Солдаты стояли не шевелясь. Гребер ощупал винтовку. Он опять снял перчатки. Сталь холодом впивалась в пальцы. Рядом с ним стоял Хиршман. Лицо пожелтело, но он не двигался. Гребер решил стрелять в русского, который стоял дальше всех слева. Вначале, когда его назначали в расстрельную команду, он палил в воздух, но сейчас уже нет. Смертникам от этого никакой пользы. Другие думали так же, как он, и случалось, почти все нарочно стреляли мимо. Расстрел поневоле повторяли, а в результате пленных казнили дважды. Раз, правда, когда пули прошли мимо, какая-то женщина пала на колени и в слезах благодарила их за лишние две-три минуты жизни, что достались ей таким образом. Он не любил вспоминать ту женщину. Да теперь такого и не случалось.
– Целься!
В прицел Гребер видел русского. Усатого старика с синими глазами. Прицел делил лицо пополам. Гребер опустил винтовку пониже. Последний раз он отстрелил кому-то нижнюю челюсть. В грудь надежнее. Он заметил, что Хиршман направил ствол выше и собирается стрелять поверх головы.
– Мюкке увидит! Держи пониже. Вбок! – пробормотал он.
Хиршман опустил ствол.
Раздалась команда:
– Огонь!
Русский как бы поднялся, шагнул Греберу навстречу. Казалось, он весь выгнулся, как в выпуклом зеркале ярмарочного балагана. Выгнулся и рухнул навзничь.
Старика отшвырнуло в могилу. Только ноги торчали из ямы. Двое других мужчин просто осели наземь, где стояли. Тот, что без сапог, в последнюю секунду вскинул руки, защищая лицо. Одна рука тряпкой висела на сухожилиях. Никого из русских не сковали и глаза им не завязали. Забыли.
Женщина упала ничком. И была жива. Оперлась на руку и, подняв голову, неотрывно смотрела на солдат. Штайнбреннер скроил довольную мину. Кроме него, никто в нее не целился.
Старик-русский что-то еще крикнул из могилы, потом затих. Только женщина так и лежала, подперев голову рукой. Широкое лицо смотрело на солдат, она что-то шептала. Старик-русский был мертв, и никто уже не мог перевести ее слова. Она лежала, опершись на локти, словно большая яркая лягушка, неспособная двинуться дальше, и все шептала, ни на миг не отводя глаз от солдат. Едва ли она заметила, как сбоку к ней подошел раздосадованный Мюкке. Все шептала, шептала и лишь в последний миг увидела револьвер. Отдернула голову, вцепилась зубами в руку Мюкке. Тот чертыхнулся и левым кулаком вмазал ей в челюсть. А когда зубы разжались, выстрелил ей в затылок.
– Чертовски хреново стреляете, – буркнул Мюллер. – Целиться не умеете?
– Это Хиршман, господин лейтенант, – сообщил Штайнбреннер.
– Нет, не Хиршман, – сказал Гребер.
– Молчать! – гаркнул Мюкке. – Ждите, когда вас спросят.
Он посмотрел на Мюллера. Тот был очень бледен и не шевелился. Мюкке нагнулся к остальным русским. Одному из тех, что помоложе, приставил револьвер к уху и выстрелил. Голова дернулась и опять замерла. Мюкке сунул револьвер в кобуру, посмотрел на свою руку. Достал платок, замотал место укуса.
– Смажьте йодом, – посоветовал Мюллер. – Где санитар?
– В третьем доме слева, господин лейтенант.
– Ступайте туда.
Мюкке ушел. Мюллер перевел взгляд на казненных. Женщина лежала ничком, уткнувшись лицом в мокрую землю.
– Положите их в могилу и закопайте, – сказал он. Неизвестно почему он вдруг жутко разозлился.
2
Ночью гул на горизонте опять усилился. Небо красное, вспышки выстрелов видны отчетливее. Десять дней назад полк отвели в тыл на отдых. Но русские приближались. Фронт перемещался каждый день. Четкой линии уже не существовало. Русские наступали. Уже который месяц. А полк уже который месяц отступал.
Гребер проснулся. Прислушался к гулу, попробовал снова уснуть. Без толку. Немного погодя натянул сапоги и вышел наружу.
Ночь ясная, не холодно. Справа, из-за леса, доносились разрывы. Парашюты осветительных ракет прозрачными медузами висели в воздухе, источая свет. Еще дальше шарили по небу прожектора, выискивали самолеты. Гребер остановился, посмотрел вверх. Луны нет, зато звезд полным-полно. Он, правда, их не замечал, видел только, что ночь в самый раз для авиации.
– Отличная погодка для отпускников, – сказал кто-то рядом с ним. Иммерман. Он стоял в карауле. Полк находился на отдыхе, но партизаны просачивались повсюду, поэтому ночью выставляли часовых.
– А ты рановато, – сказал Иммерман. – До смены еще полчаса. Иди лучше вздремни. Я тебя разбужу. В твоем возрасте всегда можно поспать. Сколько тебе? Двадцать три?
– Да.
– Ну вот.
– Я не устал.
– Отпускной мандраж, да? – Иммерман испытующе посмотрел на Гребера. – Вот ведь везуха! Отпуск!
– Я пока не в отпуску. В последнюю минуту могут все отменить. Со мной бывало такое, целых три раза.
– Верно, могут и отменить. Давно на очереди?
– Полгода уже. Все время что-нибудь да мешало. Последний раз ранение, нетяжелое, для отправки на родину не хватило.
– Н-да, осечка… но ты хотя бы на очереди. А я нет. Бывший социал-демократ. Политически неблагонадежен, шанс на героизм, и всё. Пушечное мясо и удобрение для Тысячелетнего рейха.
Гребер огляделся по сторонам.
Иммерман рассмеялся:
– Немецкий взгляд! Не боись, все дрыхнут. В том числе и Штайнбреннер.
– Да я и не думал об этом, – сердито ответил Гребер. Именно об этом он и думал.
– Тем хуже. – Иммерман опять засмеялся. – Так засело в печенках, что уже и не замечаешь. Забавно, что в нашу героическую эпоху именно доносчики кишмя кишат, как грибы после дождя! Вообще-то наводит на некоторые мысли, а?
Гребер помедлил, но потом все же сказал:
– Раз ты все так хорошо знаешь, не мешало бы тебе побольше остерегаться Штайнбреннера.
– Да плевал я на Штайнбреннера. Мне он может насолить меньше, чем вам. Именно потому, что я не осторожничаю. У таких, как я, это признак честности. Будешь не в меру вилять хвостом – бонзы только подозрительнее станут. Старое правило бывших соци, чтобы остаться вне подозрений. Или как?
Гребер подышал на руки.
– Холодно, – сказал он.
Ему не хотелось ввязываться в политический разговор. Лучше вообще ни во что не ввязываться. Он хотел получить отпуск, вот и все, и не хотел ставить его под удар. Иммерман прав: недоверие – самое распространенное качество в Третьем рейхе. Почти нигде не бываешь в полной безопасности. А если ты не в безопасности, держи рот на замке.
– Когда ты последний раз был дома? – спросил Иммерман.
– Примерно два года назад.
– Н-да, чертовски давно. Вот ты удивишься!
Гребер не ответил.
– Удивишься, – повторил Иммерман. – Сколько там всего изменилось!
– Что уж там могло измениться?
– Да много чего. Увидишь.
На мгновение Гребера обуял страх, резкий, как удар под дых. Знакомая штука, так бывало временами, внезапно и без особой причины. Неудивительно в мире, где уже давно нет безопасности.
– Откуда ты знаешь? – спросил он. – Ты же не ездил в отпуск.
– Не ездил. Но знаю.
Гребер встал. И зачем он только вышел? Говорить-то не хотел. Хотел побыть один. Только бы уехать отсюда! Прямо-таки навязчивая идея. Он хотел побыть один, один, хоть несколько недель, побыть в одиночестве и подумать, вот и всё. А подумать надо об очень многом. Не здесь – там, на родине, в одиночестве, по ту сторону войны.
– Пора сменяться, – сказал он. – Схожу за своим барахлом и разбужу Зауэра.
Гул в ночи продолжался. Гул и вспышки на горизонте. Гребер посмотрел туда. Русские… Осенью 1941-го фюрер объявил, что им конец, и казалось, так оно и есть. Осенью 1942-го он твердил то же самое, и все еще казалось, что так оно и есть. Но грянуло необъяснимое – сперва под Москвой, потом в Сталинграде. Все неожиданно застопорилось. Прямо чертовщина какая-то. У русских вдруг опять появилась артиллерия. Начался гул на горизонте, который разметал все речи фюрера и уже не прекращался, а затем погнал перед собой немецкие дивизии, погнал обратно. Они не понимали, однако внезапно поползли слухи, что целые армейские корпуса отрезаны и сдались в плен, а вскоре каждый знал, что победы обернулись бегством. Бегством, как в Африке, когда до Каира было уже рукой подать.
Гребер шагал по дороге вокруг деревни. Безлунный свет сдвигал все перспективы. Снег откуда-то выхватывал его и, рассеяв, отбрасывал. Дома, казалось, стояли дальше, а леса – ближе, чем на самом деле. Пахло чужбиной и опасностью.
Лето 1940-го во Франции. Прогулка в Париж. Вой «штукасов» над растерянной страной. Дороги, запруженные беженцами и отступающей, дезорганизованной армией. Разгар июня, поля, леса, марш через неразрушенный ландшафт, потом город с серебряным светом, улицами, кафе, распахнувшийся без единого выстрела. Разве он тогда думал? Разве тревожился? Нет. Все казалось правильным. Германия, на которую напали воинственные враги, оборонялась, вот и все. А что противник фактически не подготовлен и толком не может дать отпор, не казалось противоречием. И позднее, в Африке, когда войска большими переходами шли вперед, ночами в пустыне, полной звезд и грохота танков, разве тогда он думал? Нет, даже при отступлении не думал. Это была Африка, чужая земля, за ней было Средиземное море, потом Франция и только дальше Германия. О чем там было думать, даже если терпишь поражение? Везде побеждать невозможно.
Но потом – Россия. Россия, и поражение, и бегство. И моря теперь нет, отступление ведет прямиком в Германию. И разбили здесь не несколько корпусов, как в Африке, – здесь отступала вся немецкая армия. Вот тут он вдруг начал задумываться. Он и многие другие. И немудрено. Пока побеждали, все было в порядке, а что было не в порядке, того не замечали или оправдывали великой целью. Какой целью-то? Она же всегда имела две стороны, разве не так? И одна из этих сторон всегда была темной и бесчеловечной, верно? Почему он не видел этого раньше? Вправду не видел? Ведь частенько испытывал сомнения и гадливость, но просто отгонял то и другое?
Он услышал кашель Зауэра и обогнул развалины нескольких избенок, чтобы встретить его. Зауэр кивнул на север. Огромное тусклое зарево трепетало на горизонте. Слышались разрывы, виднелись всполохи огня.
– Там тоже русские? – спросил Гребер.
Зауэр помотал головой.
– Нет. Наши саперы. Взрывают какой-то поселок.
– Значит, продолжаем отступать.
Оба замолчали, прислушиваясь.
– Давно я не видал невредимого дома, – наконец сказал Зауэр.
Гребер кивнул на квартиру Раэ:
– Этот-то еще довольно невредимый.
– По-твоему, это называется невредимый? Сплошь дыры от пулеметных пуль, крыша сгорела, хлев обвалился! – Зауэр шумно выдохнул. – А уж невредимых улиц и дорог я вообще с незапамятных времен не видал.
– Я тоже.
– Ну ты-то скоро увидишь. До́ма.
– Да. Слава богу.
Зауэр глянул на зарево.
– Иной раз посмотришь, сколько всего мы тут в России поразрушали, так прямо страх берет. Как по-твоему, что они с нами сделают, если подойдут когда-нибудь к нашим границам? Ты об этом думал?
– Нет.
– А вот я думал. У меня мыза в Восточной Пруссии. Я еще помню, как в четырнадцатом нам пришлось спасаться бегством, когда пришли русские. Мне тогда было десять.
– До границы еще далеко.
– Это как посмотреть. Такое может произойти чертовски быстро. Помнишь, как прытко мы здесь поначалу шли вперед?
– Нет. Я тогда в Африке был.
Зауэр опять посмотрел на север. Там поднялась стена огня, затем грянуло несколько тяжелых разрывов.
– Видишь, что мы тут творим? Представь себе, что русские поступят с нами точно так же… и что тогда останется?
– Не больше, чем здесь.
– Я про то и толкую! Неужто не понимаешь? Наверняка ведь у каждого в голове этакие мысли бродят, ясное дело.
– Русские пока не у границы. Ты же слушал позавчера политический доклад, на который нас собирали. Мы-де сокращаем протяженность фронта, чтобы вывести новое секретное оружие на благоприятные для наступления исходные позиции.
– А-а, чепуха! Кто в это поверит? Для чего мы тогда сперва так рвались вперед? Я тебе вот что скажу. Как подойдем к нашим границам, надо заключать мир. Другого выхода нет.
– Почему?
– Парень, что за вопрос? Чтобы они не сделали с нами того самого, что мы сделали с ними. Неужто не смекаешь?
– Да, а вдруг они не захотят заключать мир?
– Кто?
– Русские.
Зауэр во все глаза уставился на Гребера:
– Так ведь им придется! Мы предложим мир, и они не смогут не согласиться. Мир есть мир! Тогда войне конец, и мы будем спасены.
– Они согласятся, только если мы безоговорочно капитулируем. А тогда оккупируют всю Германию, и ты останешься без своей мызы. Об этом-то ты думаешь или нет?
На миг Зауэр смешался.
– Конечно, думаю, – помолчав, сказал он. – Но все ж таки это не одно и то же… Они ведь не вправе ничего больше разрушать, если настанет мир. – Он прищурил глаза и вдруг превратился в хитрого крестьянина. – Тогда у нас все останется целехонько. И только у других разрушено. А в конце концов они рано или поздно уйдут.
Гребер не ответил. И зачем я опять ввязался в разговор? – думал он. Ведь не хотел ни во что встревать. От разговоров проку нет. Чего только за эти годы не наговорили и не перепортили говорильней! Любую веру. Разговоры не имели смысла, только грозили опасностью. А то другое, что беззвучно и медленно приблизилось, было слишком огромно, слишком туманно, а вдобавок слишком мрачно. Потому-то говорили о службе, о жратве и о морозе. Не о том другом. Не о том и не о погибших.
Он шагал обратно, через деревню. Чтобы не вязнуть в талом снегу, на дороги набросали досок. Доски двигались, когда он на них наступал, того и гляди, поскользнешься, никакой опоры внизу.
Путь вел мимо церкви. Она была маленькая, разрушенная, и там лежал лейтенант Райке. Двери открыты. Вечером нашли еще двух мертвых солдат, и Раэ распорядился утром похоронить всех троих как положено военным. Одного из солдат, ефрейтора, опознать не удалось. Лицо изъедено, личного знака при нем не обнаружили.
Гребер зашел в церковь. Внутри пахло селитрой, гнилью и мертвецами. Он посветил фонариком в углы. В одном стояли две разбитые фигуры святых, а рядом валялись рваные мешки из-под зерна – вероятно, при Советах в этом помещении хранили зерно. Обок, в снежном наносе, стоял ржавый велосипед без цепи и шин. Посредине на плащ-палатках лежали мертвецы. Суровые, неприступные, одинокие – их ничто более не трогало.
Гребер закрыл дверь, пошел дальше по деревне; тени метались вокруг развалин, и даже слабый свет казался предательским. Он поднялся на бугор, где были могилы. Ту, что вырыли для Райке, расширили, чтобы похоронить вместе с ним и двух мертвых солдат.
Слышалось тихое журчание воды, сбегавшей в яму. Холмик земли тускло поблескивал. К нему прислонен крест с именами. Так что у желающих несколько дней будет возможность узнать, кто там лежит. Не дольше – скоро деревня вновь станет районом боевых действий.
С бугра Гребер оглядел окрестности. Голая, безотрадная, обманчивая местность; свет вводил в заблуждение, он увеличивал и скрадывал, и все казалось незнакомым. Все было чужое, пронизанное ледяным одиночеством незнакомого. Не за что зацепиться, нет ничего, что бы дарило тепло. Все бесконечно, как эта земля. Без границ, совершенно чуждо. Чуждо, внешне и внутренне. Гребер поежился. Вот оно. Вот что с ним стало.
Комок земли оторвался от кучи, с глухим стуком упал в яму. Интересно, уцелели ли черви в этой каменной, промерзшей земле? Возможно… если заползли достаточно глубоко. Но способны ли они жить на метровой глубине? И чем там существуют? С завтрашнего дня пищи у них на время будет в достатке, если они еще живы.
В последние годы они не бедствовали, думал он. Повсюду, где были мы, жратвы им хватало с лихвой. Червям Европы, Азии и Африки мы обеспечили золотой век. Оставили им армии трупов. В своих преданиях многие поколения червей будут славить нас как добрых богов изобилия.
Он отвернулся. Мертвецы… их было непомерно много. Сперва чужие, главным образом чужие… но потом смерть стала все больше и больше вторгаться в собственные ряды. Полки приходилось вновь и вновь пополнять; товарищей, которые воевали рядом с самого начала, оставалось все меньше, теперь их вообще по пальцам перечтешь. Из давних друзей вовсе один-единственный – Фрезенбург, командир четвертой роты. Остальные либо погибли, либо в лазарете, либо, если повезло, признаны негодными к военной службе и отправлены в Германию. Когда-то все обстояло совершенно иначе. И называлось тоже иначе.
Он услыхал шаги Зауэра, тот поднимался на бугор.
– Что-нибудь произошло? – спросил Гребер.
– Ничего. Мне было что-то послышалось. Но оказалось, крысы в хлеву, где лежат русские. – Зауэр глянул на холмик, под которым похоронены партизаны. – У этих хотя бы могила есть.
– Да. Сами себе вырыли.
Зауэр сплюнул.
– Вообще-то, можно понять этих бедолаг. Мы ведь уничтожаем их землю.
Гребер посмотрел на него. Ночью думаешь не так, как днем, но Зауэр был старый солдат и избытком сентиментальности не грешил.
– Как ты до этого додумался? – спросил он. – Из-за отступления?
– Конечно. Представь себе, вдруг они учинят такое с нами!
Гребер помолчал. Я-то чем лучше его? – подумал он. Тоже все отодвигал подальше такие мысли, пока мог.
– Странно, других начинаешь понимать, когда сам со страху в штаны кладешь, – наконец сказал он. – Когда все хорошо, ни о чем таком не думаешь, верно?
– Ясное дело. Это каждый знает!
– Да. Но никого это не оправдывает.
– Оправдывает? Да какие уж тут оправдания, когда речь идет о собственной шкуре? – Зауэр смотрел на Гребера со смесью удивления и злости. – Эх вы, гимназисты ученые! Чего только не напридумываете! Мы с тобой войну не начинали и за нее не в ответе. Мы только исполняем свой долг. А приказ есть приказ. Разве нет?
3
Залп быстро заглох в серой вате огромного неба. Вороны, сидевшие на стенах, даже не взлетели. Только каркнули раза два-три, чуть ли не громче стрельбы. Они привыкли к другому шуму.
Три плащ-палатки наполовину тонули в талой воде. Та, в которой лежал человек без лица, была завязана. Райке лежал посередине. Размокший сапог с остатками ноги приставили куда надо, но пока несли от церкви на бугор, он сдвинулся, съехал книзу. Никто уже не захотел его поправлять. Только с виду теперь казалось, будто Райке хочет зарыться поглубже в землю.
Они засыпали покойников мокрыми комьями. Когда могила наполнилась, осталась еще куча земли. Мюкке посмотрел на Мюллера:
– Утоптать?
– Что?
– Утоптать, господин лейтенант. Могилу. Тогда можно насыпать поверх оставшуюся землю и придавить камнями. От лис и волков.
– Они сюда не сунутся. Могила достаточно глубокая. К тому же… – Мюллер подумал, что лисам и волкам и без того хватит пищи, не понадобится им раскапывать могилы. – Ерунда. С чего вы взяли?
– Такое случалось.
Мюкке без всякого выражения смотрел на Мюллера. Очередной наивный болван, думал он. Офицерами всегда становятся не те. А те, настоящие, погибают. Как Райке. Мюллер покачал головой:
– Сделайте из оставшейся земли холмик. Вполне к месту будет. И воткните в головах крест.
– Слушаюсь, господин лейтенант.
Мюллер дал роте команду строиться и возвращаться в расположение. Командовал он громче, чем надо. Никак не мог отделаться от ощущения, что старики не принимают его всерьез.
Да так оно и было. Зауэр, Иммерман и Гребер сделали из остатков земли холмик.
– Таким манером крест долго не простоит, – сказал Зауэр. – Земля слишком рыхлая.
– Ясное дело.
– И трех дней не простоит.
– Ты что, родственник Райке? – спросил Иммерман.
– Заткнись! Он был хороший малый. Что ты в этом понимаешь!
– Будем втыкать крест или нет? – спросил Гребер.
Иммерман обернулся.
– А-а, отпускник. Спешит!
– А ты бы не спешил, да? – спросил Зауэр.
– Мне отпуска не дадут, ты же прекрасно знаешь, навозник.
– А то. Потому что ты бы не вернулся.
– Может, и вернулся бы.
Зауэр сплюнул.
Иммерман презрительно хохотнул:
– Может, даже добровольно попросился бы обратно.
– Да, может быть. Никогда ведь неизвестно, что у тебя на уме. Ты много чего рассказать можешь. Кто знает, какие у тебя секреты.
Зауэр поднял крест. Продольная рейка внизу была заострена. Он воткнул ее в землю и несколько раз пристукнул лопатой. Острие вошло глубоко в землю.
– Вот увидишь… – сказал он Греберу. – Трех дней не простоит.
– Три дня – долгий срок, – отозвался Иммерман. – Дам тебе совет, Зауэр. Через три дня снег на кладбище так осядет, что можно будет подойти. Принеси оттуда каменный крест и поставь тут. Тогда твоя верноподданная душа угомонится.
– Русский крест?
– А что? Бог интернационален. Или и он уже нет?
Зауэр отвернулся.
– Все шутишь, да? Ишь, шутник нашелся, интернациональный!
– Я здесь стал таким. Стал, Зауэр. Раньше был другим. А насчет креста – твоя идея. Сам вчера предлагал.
– Вчера! Вчера! Тогда мы думали, он русский! Зачем ты все переворачиваешь?
Гребер поднял лопату:
– Я ухожу. Мы ведь вроде закончили, да?
– Да, отпускник, – ответил Иммерман. – Да, осторожный ты наш! Здесь мы закончили.
Гребер промолчал. Пошел вниз по склону бугра.
Отделение квартировало в подвале, который освещался через дыру в потолке. Четверо, сидя под дырой, играли на ящике в скат. Еще несколько человек спали по углам. Зауэр писал письмо. Подвал был большой и более-менее сухой – наверно, принадлежал партийной шишке.
Вошел Штайнбреннер.
– Слыхали последние известия?
– Радиоприемник не фурычит.
– Вот свинство! Надо бы починить.
– Возьми да почини, молокосос, – сказал Иммерман. – Тот, кто за ним следил, две недели назад остался без головы.
– А что там не фурычит-то?
– Батареек у нас больше нету.
– Батареек?
– Ага. – Иммерман осклабился Штайнбреннеру в лицо. – Может, заработает, если ты втыкнешь провода себе в нос, у тебя ж вечно полная башка электричества. Попробуй.
Штайнбреннер пригладил волосы.
– Некоторые не могут заткнуться, пока не обожгут пасть как следует.
– Кончай темнить, Макс, – спокойно отозвался Иммерман. – Ты уже не раз на меня стучал. Все знают. Ты парень шустрый. Это твой плюс. К несчастью, я хороший механик и метко стреляю из пулемета. А здесь сейчас больше в цене именно такие, куда больше, чем ты. Поэтому тебе так и не везет. Кстати, сколько тебе лет?
– Заткнись!
– Около двадцати, да? Или только девятнадцать? Зато какая жизнь у тебя за плечами! Пять-шесть лет кряду ты гонялся за евреями и врагами народа. Снимаю шляпу! Когда мне было двадцать, я только за девчонками гонялся.
– Оно и видно!
– Верно, – кивнул Иммерман. – Оно и видно.
В дверях возник Мюкке.
– Что тут опять стряслось?
Никто не ответил. Мюкке все считали недоумком.
– Что тут происходит, я спрашиваю!
– Ничего, господин фельдфебель, – ответил Бернинг, который оказался ближе всех. – Мы просто разговаривали.
Мюкке устремил взгляд на Штайнбреннера:
– Что случилось?
– Десять минут назад передавали последние известия.
Штайнбреннер выпрямился, посмотрел по сторонам. Интереса никто не выказывал. Только Гребер прислушался. Картежники продолжали игру. Зауэр не поднял головы от письма. Спящие продолжали ровно похрапывать.
– Внимание! – крикнул Мюкке. – Вы что, оглохли? Последние известия! Внимание! Это приказ!
– Так точно! – ответил Иммерман.
Мюкке бросил взгляд на него. Лицо Иммермана выражало внимание, а больше ничего. Картежники отложили карты на ящик, рубашками вверх. Не стали их смешивать. Так они экономили секунду, чтобы сразу же продолжить игру. Зауэр поднял глаза от письма. Штайнбреннер расправил плечи:
– Важные новости! Переданы в «Час нации». В Америке мощные забастовки. Сталелитейная промышленность парализована. Большинство фабрик боеприпасов стоят. Саботаж в авиационной промышленности. Повсюду демонстрации с требованием немедленно заключить мир. Правительство в замешательстве. Ожидают переворота.
Он сделал паузу. Никто ничего не говорил, спящие проснулись и почесывались. Из дыры в потолке капала в подставленное ведро талая вода. Мюкке громко перевел дух.
– Наши подводные лодки блокируют все американское побережье. Вчера потоплены два крупных транспорта с войсками и три грузовых парохода с боевой техникой, только за эту неделю в общей сложности тридцать четыре тысячи тонн. Англия в руинах, мрет с голоду. Морские сообщения повсюду перекрыты нашими подводными лодками. Новое секретное оружие готово. В том числе телеуправляемые бомбардировщики, способные без экипажа совершать беспосадочные перелеты в Америку и обратно. Атлантическое побережье превращено в огромную крепость. Если противник попробует высадиться, мы загоним его в океан, как уже было в сороковом году.
Игроки опять взялись за карты. Ком снега с плеском шлепнулся в ведро.
– Хотелось бы посидеть в приличных условиях, – буркнул Шнайдер, здоровяк с короткой рыжей бородкой.
– Штайнбреннер, – спросил Иммерман, – а про Россию у тебя новостей нету?
– А что?
– Мы-то здесь. Кой-кому из нас интересно. Например, нашему товарищу Греберу. Отпускнику.
Штайнбреннер несколько смешался. Он не доверял Иммерману. Но партийное чутье победило.
– Сокращение фронта почти завершено, – объявил он. – Русские измотаны огромными потерями. Подготовлены новые, укрепленные позиции для контрнаступления. Подтянуты резервы. С новым оружием контрнаступление будет неотразимо.
Он приподнял было руку, но сразу опустил. Насчет России трудно сказать что-нибудь воодушевляющее; каждый сам слишком хорошо видел, что происходит. Штайнбреннер вдруг оказался в роли этакого ретивого школяра, который спешит спасти проваленный экзамен.
– Это, конечно, далеко не все. Важнейшие новости строго секретны. Их даже в «Час нации» нельзя разглашать. Но совершенно ясно, что противник будет уничтожен еще в этом году. – Он уже без особого энтузиазма повернулся, чтобы отправиться в следующую квартиру.
Мюкке пошел следом.
– Видали жополиза?! – сказал один из засонь, снова лег и захрапел.
Картежники продолжили игру.
– Будет уничтожен, – сказал Шнайдер. – Мы его каждый год по два раза уничтожаем. – Он глянул на свой листок. – Объявляю двадцать.
– Русские – прирожденные мошенники, – вставил Иммерман. – В финскую войну они показали себя куда слабее, чем на самом деле. Подлый большевистский трюк.
Зауэр поднял голову.
– Может, уймешься наконец? Больно много знаешь, да?
– Само собой. Ведь еще несколько лет назад они были нашими союзниками. А насчет Финляндии так высказался наш рейхсмаршал Геринг собственной персоной. Ты что, возражаешь?
– Ребята, хорош спорить, – сказал кто-то у стены. – Что вообще сегодня происходит?
Стало тихо. Только карты по-прежнему шлепали по ящику да капала вода. Гребер сел на свое место. Он знал, что происходит. Так бывало всегда после расстрелов и похорон.
Ближе к вечеру толпами повалили раненые. Часть сразу же отправляли дальше. В окровавленных повязках они шли с серо-белой равнины и уходили в другую сторону, навстречу блеклому горизонту. Казалось, никогда они не отыщут госпиталь, утонут где-то в бесконечной серой белизне. Большинство молчало. Все хотели есть.
Для остальных – тех, кто не мог идти и для кого уже не было санитарного транспорта, – в церкви устроили временный лазарет. Разбитую кровлю залатали, прибыл смертельно усталый врач с двумя санитарами и начал оперировать. Дверь стояла настежь, пока не стемнело, то и дело вносили и выносили носилки. Белый свет над операционным столом – точно светлый шатер в золотистом сумраке помещения. В углу валялись остатки фигур святых. Дева Мария протягивала руки, обрубки, без кистей. У Христа не было ног; казалось, распят человек, перенесший ампутацию. Раненые кричали редко. У врача еще были наркотические средства. Вода кипела в котлах и никелированных мисках. Ампутированные конечности медленно наполняли цинковую ванну из дома ротного. Откуда-то прибежала собака. Держалась возле дверей и возвращалась, сколько ее ни прогоняли.
– Откуда она взялась? – спросил Гребер. Они с Фрезенбургом стояли неподалеку от дома, где раньше жил поп.
Фрезенбург смотрел на дрожащую кудлатую животину, которая тянула морду вперед.
– Из леса, наверно.
– Что она забыла в лесу-то? Там для нее жратвы нет.
– Наоборот. Вполне достаточно. И не только в лесу. Повсюду.
Они подошли ближе. Собака настороженно повернула голову, готовая убежать. Оба остановились. Собака была голенастая, тощая, с рыжевато-серой шкурой и длинной, узкой головой.
– Псина не крестьянская, – сказал Фрезенбург. – Хорошая, породистая.
Он тихонько причмокнул. Собака насторожила уши. Фрезенбург снова причмокнул и заговорил с ней.
– Думаешь, она ждет, что ее накормят? – спросил Гребер.
Фрезенбург помотал головой.
– Жратвы и в лесу полно. Она не поэтому прибежала. Здесь светло и вроде как дом. По-моему, она ищет общества.
Из церкви вынесли носилки. На них лежал кто-то, умерший во время операции. Собака отскочила на несколько метров. Отскочила без усилия, будто отброшенная мягкой пружиной. Потом остановилась, посмотрела на Фрезенбурга. Тот опять заговорил, медленно шагнул к ней. Собака тотчас бдительно прянула назад, но остановилась и чуть заметно повиляла хвостом.
– Боится, – сказал Гребер.
– Да, конечно. Но собака хорошая.
– И питается человечиной.
Фрезенбург обернулся.
– Как и мы все.
– Почему это?
– Потому. И думаем мы, как она, считаем себя пока что хорошими. И, как она, ищем немножко тепла, и света, и дружбы.
Фрезенбург усмехнулся половиной лица. Вторая половина из-за широкого рубца почти не двигалась, казалась мертвой, и Греберу всегда было странно видеть эту усмешку, замиравшую у барьера на лице. Будто бы не случайно.
– Мы такие же, как и остальные люди. Идет война, вот и все.
Фрезенбург покачал головой, тростью стряхнул снег с гамаш.
– Нет, Эрнст. Мы потеряли меру. Десять лет нас держали в изоляции – в изоляции ужасной, вопиющей, бесчеловечной и смехотворной заносчивости. Нас объявили расой господ, народом, которому другие должны служить как рабы. – Он горько засмеялся. – Раса господ… подчиняться каждому дураку, каждому шарлатану, каждому приказу, – при чем тут раса господ? Вот все это здесь – ответ. И, как всегда, бьет он больше по невинным, чем по виновным.
Гребер неотрывно смотрел на него. Здесь, на фронте, Фрезенбург был единственный, кому он по-настоящему, полностью доверял. Они выросли в одном городе и давно знали друг друга.
– Раз ты все это знаешь, – наконец сказал он, – почему же ты здесь?
– Почему я здесь? Почему не сижу в концентрационном лагере? Или не расстрелян за неподчинение?
– Я не об этом. Но ведь в тридцать девятом ты по возрасту не подпадал под призыв? Почему же в таком случае пошел добровольцем?
– В ту пору я и правда под призыв не подпадал. С тех пор ситуация изменилась. Теперь призывают и тех, кто старше меня. Но дело не в этом. Это не оправдание. Да и проблемы не разрешились оттого, что я здесь. Тогда мы внушали себе, что не хотим бросать отечество на произвол судьбы, когда оно воюет, и не имеет значения, что случилось, кто виноват и кто начал эту войну. Отговорка, конечно. Такая же, как и прежняя, что мы-де участвуем, только чтобы предотвратить худшее. Ведь и это была отговорка. Перед самими собой. И больше ничего! – Он резко ударил тростью по снегу. Собака бесшумно убежала, скрылась за церковью. – Мы искушали Бога, Эрнст… понимаешь?
– Нет, – ответил Гребер. Он не хотел понимать.
Фрезенбург помолчал и уже спокойнее добавил:
– Ты и не можешь понять. Слишком молод. Кроме истерической свистопляски да войны мало что видал. А я еще на первой войне побывал. И время между войнами пережил. – Он опять усмехнулся, одна половина лица улыбалась, вторая осталась неподвижна. Улыбка набегала на нее, точно усталая волна, но преодолеть не могла. – Хотел бы я быть оперным певцом. Пустоголовым тенором с убедительным голосом. Или стариком. Или ребенком. Нет, не ребенком. Не ради того, что еще грядет. Война проиграна, это ты хотя бы понимаешь?
– Нет.
– Любой генерал, сознающий свою ответственность, давно бы ее прекратил. Мы сражаемся тут ни за что. – Он повторил: – Ни за что. Даже не за сносные условия мира. – Он махнул рукой в сторону темнеющего горизонта. – С нами уже не станут вести переговоры. Мы тут хозяйничали как Аттила или Чингисхан. Нарушили все договоры и человеческий закон. Мы…
– Это же всё эсэсовцы, – с отчаянием сказал Гребер.
Он встретился с Фрезенбургом, потому что не хотел встречаться с Иммерманом, Зауэром и Штайнбреннером, думал поговорить с ним о старинном мирном городе на реке, о липовых аллеях и о юности, а теперь все стало только еще хуже. Прямо заклятье какое-то. От других он помощи не ждал, но ждал ее от Фрезенбурга, которого в сумятице отступления давно не видел, – и как раз от него выслушивал теперь то, что покуда не желал признавать, о чем хотел поразмыслить только дома, чего более всего боялся.
– Эсэсовцы, – презрительно бросил Фрезенбург. – Мы только за них сейчас и воюем. За СС, за гестапо, за лжецов и спекулянтов, за фанатиков, убийц и безумцев… чтобы они еще на год остались у власти. За них… а больше ни за что. Война давно проиграна.
Стемнело. Дверь церкви закрыли, чтобы свет не проникал наружу. В окнах виднелись темные фигуры, занавешивающие проемы одеялами. Входы в подвалы и блиндажи тоже маскировали. Фрезенбург глянул в ту сторону.
– Мы стали кротами. В том числе и душевно, черт побери. Больших успехов достигли, ох больших.
Гребер достал из кармана френча початую пачку сигарет, предложил Фрезенбургу. Тот отказался:
– Кури сам. Или забери с собой. У меня курева хватает.
Гребер покачал головой:
– Возьми!..
Фрезенбург бегло усмехнулся и взял сигарету.
– Когда едешь?
– Не знаю. Отпуск пока не подписан. – Гребер глубоко затянулся, выпустил дым. Хорошо, когда есть сигареты. Иногда они даже лучше друзей. Сигареты не сбивают с толку. Они безмолвны и добры. – Не знаю. С некоторых пор я вообще ничего не знаю. Раньше все было ясно, а теперь сплошная неразбериха. Эх, уснуть бы и проснуться в другие времена. Легко сказать, да только так не бывает. Я чертовски поздно начал думать. И гордиться тут нечем.
Тыльной стороной руки Фрезенбург потер шрам на лице.
– Не казнись. Последние десять лет нам крепко забивали уши пропагандой, трудно было расслышать что-нибудь другое. В особенности то, что не имеет зычного голоса. Сомнение и совесть. Кстати, ты знал Польмана?
– Он преподавал у нас историю и религию.
– Будешь дома, зайди к нему. Может, жив еще. Передай от меня привет.
– Почему бы ему не жить? Он же не солдат.
– Верно.
– Тогда наверняка жив. Ему ведь не больше шестидесяти пяти.
– Передай от меня привет.
– Конечно.
– Мне пора. Будь здоров. Пожалуй, мы больше не увидимся.
– Да, до моего возвращения. А это недолго. Всего три недели.
– Точно. В общем, будь здоров.
– Ты тоже.
Фрезенбург зашагал по снегу прочь, к своей роте, которая стояла в соседней разрушенной деревне. Гребер провожал его взглядом, пока он не исчез в сумраке. Потом пошел обратно. Возле церкви он заметил темный силуэт собаки. Дверь открылась, на миг блеснула узенькая полоска света. Вход завесили плащ-палатками. Эта чуточка света казалась теплой, едва ли не домашней, если не знаешь, зачем она нужна. Он подошел к собаке. Та метнулась в сторону, и Гребер увидел в снегу возле церкви разбитые фигуры святых. Рядом валялся сломанный велосипед. Их вынесли вон, там, внутри, каждый сантиметр пространства был на счету.
Он пошел дальше, к подвалу, где обретался его взвод. Тусклая вечерняя заря висела за руинами. Чуть в стороне от церкви лежали покойники. В талом снегу нашли еще троих, октябрьских. Они размякли и выглядели уже почти как земля. Рядом лежали другие, скончавшиеся в церкви сегодня под вечер. Эти были еще бледные, враждебные, чужие и пока что непокорные.
4
Они проснулись. Подвал трясло. В ушах гул. Сверху сыпался мусор. Зенитки за деревней неистово громыхали.
– Выходим отсюда! – крикнул кто-то из недавнего пополнения.
– Спокойно! Свет не зажигать!
– Валим из этой крысоловки!
– Идиот! Куда? Спокойно! Черт побери, вы все еще новобранцы?
Глухой удар снова сотряс подвал. В темноте что-то рухнуло на пол. С треском полетели осколки камней, грязь и щепки. Тусклые молнии мелькали в отверстии над головой.
– Там людей засыпало!
– Спокойно! Всего-то кусок стены обрушился.
– Валим! Пока нас тут всех не похоронило!
На фоне бледного подвального входа виднелись фигуры.
– Болваны! – крикнул кто-то. – Оставайтесь здесь! Здесь нет осколков.
Но его не слушали. Не доверяли неукрепленному подвалу. И были правы, как и те, кто оставался. Это ведь дело случая – тебя может и завалить, и с тем же успехом убить осколком.
Они ждали. Под ложечкой сосало, дышали осторожно. Ждали следующего разрыва. Наверняка поблизости. Но не дождались. Вместо этого несколько раз кряду долбануло гораздо дальше.
– Черт! – выругался кто-то. – Где наши истребители?
– Над Англией.
– Молчать! – гаркнул Мюкке.
– Над Сталинградом, – сказал Иммерман.
– Молчать!
В паузах меж выстрелами зениток послышался рев моторов.
– Вот они! – крикнул Штайнбреннер. – Наши!
Все навострили уши. Сквозь вой снаружи просачивалась трескотня пулеметов. Затем три разрыва, один за другим. Прямо за деревней. Блеклая вспышка метнулась через подвал, и в ту же секунду внутрь стремительно ворвался свет, белый, красный, зеленый, земля вздыбилась и раскололась бурей грома, молний и тьмы. В утихающих раскатах доносились крики наверху и треск обвалившихся стен подвала. Гребер ощупью выбрался из-под дождя известки. Церковь, подумал он, чувствуя себя настолько опустошенным, будто состоял из одной только кожи, все остальное из него дочиста выдавили. Вход в подвал уцелел, возник серым пятном, когда ослепленные глаза снова начали видеть. Гребер пошевелился. Он был невредим.
– Черт побери! – сказал Зауэр, совсем рядом. – Прямо под боком. По-моему, весь подвал разнесло.
Они поползли к выходу. Снаружи опять загрохотало. В промежутках слышались команды Мюкке. Упавший камень раскроил фельдфебелю лоб. В мерцающем свете кровь черным ручьем текла по его лицу.
– Живо! Все сюда! Раскапывать! Кого недостает?
Никто не ответил. Вопрос был чересчур идиотский. Гребер и Зауэр принялись убирать мусор и камни. Дело продвигалось медленно. Мешали железные прутья и крупные глыбы. Оба почти ничего не видели. Лишь блеклое небо да пламя разрывов.
Гребер отгреб штукатурку и пополз вдоль рухнувшей части подвала. Лицо он держал почти вплотную к обломкам, руками шарил вокруг. Напряженно прислушивался, чтобы сквозь грохот различить крики или стоны, а одновременно ощупывал обломки – вдруг наткнется на человека. Так лучше, чем действовать наобум. При контузиях главное – время.
Внезапно он почувствовал руку, она шевельнулась.
– Нашел одного! – крикнул он. Принялся раскапывать обломки, разыскивая голову. Не мог найти, подергал руку. – Где ты? Скажи что-нибудь! Давай! Где ты?
– Здесь, – прошептал контуженый прямо возле его уха, когда стрельба на миг умолкла. – Не тяни. Меня зажало. – Рука опять шевельнулась. Гребер отчаянно разгребал штукатурку. Нашел лицо. Нащупал рот.
– Сюда! – позвал он. – Помогите мне!
В углу хватало места всего для трех-четырех человек, иначе работать невозможно. Гребер услышал голос Штайнбреннера:
– Давай сюда! Следи, чтобы лицо опять не засыпало! Начнем вон оттуда!
Гребер посторонился. Остальные торопливо копали в темноте.
– Кто это? – спросил Зауэр.
– Не знаю. – Гребер наклонился. – Ты кто?
Контуженый что-то сказал. Но Гребер не сумел разобрать. Рядом с ним работали другие. Выворачивали и оттаскивали обломки.
– Он еще жив? – спросил Штайнбреннер.
Гребер провел ладонью по лицу. Оно не двигалось.
– Не знаю, – сказал он. – Несколько минут назад был жив.
Грохот возобновился. Гребер нагнулся к лицу контуженого.
– Сейчас мы тебя достанем! – крикнул он. – Ты меня понимаешь?
Ему показалось, он вроде как чувствует на щеке дыхание, но уверенности не было. Рядом пыхтели Штайнбреннер, Зауэр и Шнайдер.
– Он перестал отвечать.
– Дальше не пробиться. – Зауэр ткнул в завал лопатой, раздался звон. – Тут стальные балки, а камни слишком большие. Нужен свет и инструменты.
– Какой еще свет! – завопил Мюкке. – Кто включит фонарь, будет расстрелян!
Они и сами понимали, что во время воздушного налета свет означает самоубийство.
– Вот сволочь! – выругался Шнайдер. – Все-то он знает!
– Дальше не пробиться. Надо ждать, пока развиднеется.
– Да.
Гребер привалился к стене. Смотрел в небо, с которого в подвал обрушивался рев. Он ничего не различал. Только слышал невидимую, яростную смерть. Обычное дело. Он уже не раз вот так ждал, бывало и хуже.
Он осторожно провел ладонью по незнакомому лицу. Теперь оно было свободно от грязи и пыли. Нащупал рот. Потом зубы. Ощутил пальцами слабый укус. Зубы куснули сильнее, потом разжались.
– Он еще жив, – сказал Гребер.
– Скажи ему, двое пошли искать инструмент.
Гребер еще раз провел ладонью по губам. Они уже не шевелились. Разыскал в обломках руку и крепко ее стиснул. Рука тоже не ответила. Гребер не выпускал ее, больше он ничего сделать не мог. Сидел и ждал, когда кончится налет.
Принесли инструмент, контуженого откопали. Это оказался Ламмерс. Тщедушный человек в очках. Очки тоже нашлись. Лежали метром дальше на полу, даже не разбились. Но Ламмерс умер.
Гребер со Шнайдером заступили в караул. Мглистый воздух пах разрывами. Церковь с одного боку обвалилась. Как и дом ротного. Гребер спросил себя, жив ли Раэ. Потом увидел в сумраке за домом его тощую, долговязую фигуру; он наблюдал за расчисткой завалов у церкви. Часть раненых засыпало. Остальные лежали снаружи. Прямо на земле, на одеялах и плащ-палатках. Никто не стонал. Глаза смотрели в небо. Не в ожидании помощи, а со страхом. Гребер миновал свежие воронки. Зловонные, на фоне снега они казались непроглядно-черными, словно не имели дна. Неподалеку от бугра с могилами тоже была воронка, поменьше размером.
– Можно использовать ее вместо могилы, – сказал Шнайдер. – Покойников у нас достаточно.
Гребер покачал головой:
– Где взять землю, чтобы ее засыпать?
– Сроем с краев.
– Без толку. Яма все равно останется глубже, чем все вокруг. Проще выкопать новые могилы.
Шнайдер поскреб рыжую бородку.
– Могилы обязательно должны быть с холмиком?
– Наверно, нет. Просто мы так привыкли.
Они зашагали дальше. Гребер заметил, что креста на могиле Райке больше нет. Взрывы зашвырнули его куда-то в ночь.
Шнайдер неожиданно замер и прислушался.
– Плакал твой отпуск, – сказал он.
Оба навострили уши. Фронт вдруг ожил. У горизонта зависли осветительные ракеты. Артиллерийская канонада стала сильнее и ритмичнее. Загромыхали фугасы.
– Шквальный огонь, – сказал Шнайдер. – Иначе говоря, нас опять двинут на передовую. Накрылся отпуск!
– Да.
Они продолжали прислушиваться. Шнайдер не ошибся. То, что они слышали, не походило на частную атаку. Это была мощная артиллерийская подготовка на беспокойном фронте. Вероятно, на рассвете начнется общее наступление. Поднявшийся за ночь туман становился все гуще. Под его прикрытием русские пойдут вперед, как две недели назад, когда рота потеряла сорок два человека.
Отпуск тю-тю. Гребер и так-то не верил в него по-настоящему. Даже родителям не написал. С тех пор как стал солдатом, домой он ездил всего дважды, последний раз, казалось, был так давно, что утратил всякую реальность. Без малого два года миновало. Или двадцать лет. Все едино. Он даже разочарования не чувствовал. Только пустоту.
– В какую сторону пойдешь? – спросил он у Шнайдера.
– Мне без разницы. Направо?
– Ладно. Тогда я налево.
Быстро сгущаясь, наплывал туман. Бредешь как в мутном молочном супе. Он достигал уже до подбородка, клубился холодом, бурлил. Голова Шнайдера уплывала на нем прочь. Гребер зашагал налево, по широкой дуге вокруг деревни. Время от времени погружался в туман с головой. Потом снова выныривал и видел на краю молочного колыхания разноцветные вспышки фронта. Стрельба усиливалась.
Он не знал, сколько прошел, когда услыхал несколько одиночных выстрелов. Шнайдер, подумал он. Вероятно, занервничал. Потом опять послышались выстрелы, но теперь еще и крики. Он пригнулся, затаился в тумане и ждал, с автоматом на изготовку. Крики приближались. Кто-то звал его по имени. Он ответил.
– Ты где?
– Здесь! – На секунду он высунул голову из тумана и из осторожности отпрыгнул в сторону. Никто не стрелял. Теперь голос был совсем близко, хотя ночью и в тумане расстояние оценить трудно. Секундой позже он увидел Штайнбреннера.
– Сволочи! Шнайдера достали. Пуля в голову!
Партизаны. Подкрались в тумане. Рыжая борода Шнайдера, видимо, оказалась хорошей мишенью, не промажешь. Вероятно, они ожидали застать роту спящей, но им помешали работы на завалах; однако Шнайдера все-таки прикончили.
– Бандиты! И преследовать их в этом окаянном супе невозможно!
Лицо у Штайнбреннера было мокрое от тумана. Глаза блестели.
– Будем патрулировать по двое, – сказал он. – Приказ Раэ. И далеко не заходить.
– Ладно.
Они держались почти рядом, чтобы не терять друг друга из виду. Штайнбреннер, внимательно вглядываясь в туман, осторожно крался вперед. Он был хороший солдат.
– Вот бы сцапать хоть одного, – прошептал он. – Уж тут-то, в тумане, я б ему показал, где раки зимуют. Кляп в пасть, чтоб никто не услыхал, связать по рукам и ногам – и вперед! Ты не поверишь, как далеко можно вытянуть глаз из глазницы и не оторвать. – Он сделал жест, словно что-то медленно раздавливает.
– Я верю, – сказал Гребер.
Шнайдер, думал он. Пойди он налево, а не направо, они бы прикончили меня. При этой мысли он ничего особо не чувствовал. Такое случалось нередко. Солдат жив случайностью.
Искали они до самой смены караула, но никого не нашли. Канонада на фронте поутихла. Утро. Началось наступление.
– Пошла заваруха, – сказал Штайнбреннер. – Сейчас бы на передний край! В таком наступлении всегда требуется много пополнения. Через день-другой станешь унтер-офицером.
– Или будешь раздавлен танком.
– Брось! У вас, у стариков, непременно сразу плохое на уме! Таким манером ничего не добьешься. Не все же погибают.
– Конечно, нет. Иначе бы вообще не воевали.
Они заползли в подвал. Гребер лег, попытался заснуть. Но не смог. Слушал гул фронта.
День выдался серый и сырой. Фронт неистовствовал. В сражение двинули танки. На юге позиции уже оттеснили. Ревели самолеты. Транспорты катили по равнине. Возвращались раненые. Рота ждала приказа выступать на передовую.
В десять Гребера вызвал Раэ. Ротный сменил квартиру. Перебрался в другой угол кирпичного дома, пока что целый. Рядом располагалась канцелярия.
Комната Раэ находилась внизу. Трехногий стул, большая разбитая печь, на которой лежали несколько одеял, походная койка и стол – вот и вся обстановка. За разбитым окном видна воронка. Окно залатали картоном. В комнате холодно. На столе – спиртовка с кофейником.
– Вам разрешен отпуск, – сказал Раэ. Налил кофе в пеструю чашку без ручки. – Да-да, разрешен. Вы удивлены, а?
– Так точно, господин лейтенант.
– Я тоже. Отпускной билет в канцелярии. Заберете там. И немедленно уезжайте. Попробуйте пристроиться на какую-нибудь машину. Я с минуты на минуту ожидаю, что отпуска отменят. А вы если уедете, то уедете, ясно?
– Так точно, господин лейтенант.
Раэ словно бы хотел сказать что-то еще, но раздумал, обошел вокруг стола, подал Греберу руку:
– Всего наилучшего. И уезжайте отсюда поскорее. Вам ведь давно пора в отпуск. Вы заслужили.
Лейтенант отвернулся, отошел к окну. Для него оно располагалось слишком низко. Чтобы посмотреть наружу, ему надо нагнуться.
Гребер повернулся кругом, пошел в канцелярию. Мимоходом увидел в окне ордена Раэ. Головы не видно.
Писарь подвинул к нему отпускной билет, подписанный, с печатью.
– Повезло тебе, – проворчал он. – Ты даже не женат, а?
– Да. Зато это мой первый отпуск за два года.
– Повезло, – повторил писарь. – Отпуск в такую заваруху.
– Не моими стараниями.
Гребер вернулся в подвал. Он уже не верил в отпуск и потому вещи не собирал. Да и собирать-то особо нечего. Он быстро покидал свое барахло в ранец. В том числе русскую икону с эмалью, которую хотел подарить матери. Нашел где-то по дороге.
Ему удалось примоститься на санитарной машине. Эта машина, полная раненых, угодила в яму со снегом, второго водителя вышвырнуло из кабины, и он сломал руку. Гребер занял его место.
Машина ехала по дороге, обозначенной столбиками и пучками соломы; описав дугу, она еще раз проходила мимо деревни. Гребер увидел свою роту, построенную на деревенской площади возле церкви.
– На передовую пойдут, – сказал шофер. – Прямо в бой. Ничего себе свистопляска! Слышь, откуда у русских взялось столько артиллерии?!
– Н-да…
– И танков у них много. Откуда?
– Из Америки. Или из Сибири. У них там, говорят, уйма заводов.
Шофер объехал завязший грузовик.
– Россия велика. Слишком велика, скажу я тебе. Запросто сгинешь.
Гребер кивнул, поправил тряпки, которыми обернул сапоги. На миг он почувствовал себя дезертиром. Рота темной массой стояла на деревенской площади, а он уезжал. Один. Другие остались, а он уезжал. Они уходили на фронт. Я заслужил, думал он. И Раэ так сказал. Но почему я об этом думаю? Просто боюсь, что кто-нибудь догонит меня и вернет обратно.
Несколькими километрами дальше они наткнулись на машину с ранеными, которую занесло в сугроб. Остановились, проверили своих. Двое скончались. Они вынесли их, взяли троих раненых из второй машины. Гребер помог погрузить их. Двое с ампутацией, у третьего лицевое ранение, этот мог сидеть. Оставшиеся кричали и бранились. Лежачие, для которых не было места. Как все раненые, они боялись, что в последнюю минуту их все же догонит война.
– Что случилось? – спросил водитель у шофера застрявшей машины.
– Ось сломалась.
– Ось? В снегу?
– Иной раз и, ковыряя в носу, палец ломают. Что, никогда о таком не слыхал, новичок?
– Слыхал. Но тебе хотя бы повезло, что настоящая зима миновала. Иначе они бы все у тебя замерзли.
Поехали дальше. Водитель откинулся на спинку сиденья.
– Два месяца назад я попал в такую передрягу, – сказал он. – Коробка передач забарахлила. Пришлось ехать шагом. Люди на носилках замерзали. А я ничего поделать не мог. Когда добрались до места, шестеро еще были живы. Правда, отморозили носы, ноги, руки. Быть раненым в России зимой – дело нешуточное. – Он достал плитку жевательного табаку, откусил. – А те, что могли идти! Шли пешком. Ночью, в стужу. Хотели штурмом взять нашу машину. Облепили дверцы и подножки, как пчелиный рой. Пришлось спихивать.
Гребер рассеянно кивнул, огляделся по сторонам. Деревня уже исчезла из виду. Скрылась за сугробом. Ничего кругом – только небо да равнина, по которой они ехали на запад. Полдень. Солнце смутно просвечивало сквозь серую мглу. Снег тускло поблескивал. И вдруг что-то в нем прорвалось, горячо и стремительно, и он впервые почуял, что избежал смерти, уезжал от нее прочь, прочь, прочь, вот с этим чувством он неотрывно смотрел на разъезженный снег, исчезающий под колесами, метр за метром, и метр за метром ведущий навстречу безопасности, на запад, на родину, навстречу непостижимой жизни за спасительным горизонтом.
Водитель, переключая скорость, толкнул его локтем. Гребер вздрогнул. Пошарил в карманах, выудил пачку сигарет:
– Держи…
– Мерси, – ответил водитель, не глядя. – Я не курю. Только жую.
5
Поезд узкоколейки остановился. Солнце озаряло замаскированный вокзальчик. Дома вокруг лежали в развалинах; вместо них соорудили несколько бараков, крыши и стены которых были выкрашены в камуфлирующие цвета. На путях стояли железнодорожные вагоны. Пленные русские перегружали их содержимое. Узкоколейка соединялась здесь с более крупной линией.
Раненых отвели в один из бараков. Те, что могли ходить, расселись по грубо сколоченным скамейкам. Подошли еще несколько отпускников. Они старались привлекать к себе как можно меньше внимания. Опасались, что их увидят и отошлют обратно.
Утомительный день. Блеклый свет играл сам с собой на снегу. Издали доносился рокот самолетных моторов. Не сверху, просто где-то неподалеку, наверно, спрятан аэродром. Позднее над вокзалом пролетела эскадрилья, стала набирать высоту, пока не превратилась в стайку жаворонков. Гребер задремал. Жаворонки, думал он. Мир.
Разбудили их двое полевых жандармов:
– Документы!
Жандармы были здоровые, крепкие парни, и держались они с решительностью людей, которым не грозит опасность. Безупречные мундиры, вычищенное оружие, да и весил каждый минимум фунтов на двадцать больше, чем любой из отпускников.
Солдаты молча предъявили отпускные билеты. Жандармы досконально их изучили, потом вернули обладателям. Велели предъявить и солдатские книжки.
– Питание в третьем бараке! – наконец сказал старший. – И приведите себя в порядок. Что у вас за вид! Хотите заявиться на родину как свиньи?
Отпускники отправились к третьему бараку.
– Ищейки чертовы! – буркнул один, с лицом, заросшим черной щетиной. – Горазды куражиться, вдали-то от фронта! Мы для них ровно преступники.
– Под Сталинградом они десятками расстреливали как дезертиров тех, кто потерял свой полк, – сказал другой.
– Ты был под Сталинградом?
– Если б я был под Сталинградом, то сейчас не сидел бы здесь. Из котла никто не вышел.
– Слышь, – сказал немолодой унтер-офицер, – на фронте можешь говорить что угодно. Но здесь дело другое. Лучше держи рот на замке, коли смекаешь, как для тебя полезнее, ясно?
Они стали в очередь, каждый со своим котелком. Ждать пришлось час с лишним. Ни один не сходил с места. Мерзли, но ждали. По привычке. Наконец им выдали по черпаку супа, в котором плавало немножко мяса с овощами и картошкой.
Тот, что не был в Сталинграде, осторожно огляделся по сторонам:
– Не поверю, что жандармы жрут то же самое.
– Мне бы твои заботы! – презрительно бросил унтер-офицер.
Гребер хлебал суп. По крайней мере, горячий, думал он. Дома еда будет другая. Мама приготовит. Может, даже сардельки с луком и картошкой и малиновый пудинг с ванильным соусом на сладкое.
Ждать пришлось до ночи. Жандармы дважды проверяли у них документы. Прибывали новые и новые раненые. С каждой новой партией отпускники все больше нервничали. Боялись, что их оставят здесь. Наконец, уже после полуночи, собрали эшелон. Похолодало, на небе высыпали крупные звезды. Все их ненавидели, ведь они означали хорошую видимость для авиации. Природа и погодные условия как таковые давно не имели значения, считались хорошими или плохими лишь с точки зрения войны. Как защита или как опасность.
Начали грузить раненых. Троих сразу же снова вынесли. Скончались они. Носилки так и оставили на платформе. Те, что с покойниками, без одеял. Света нигде не было.
Затем настал черед ходячих раненых. Их тщательно проверяли. Нас не возьмут, думал Гребер. Слишком их много. Эшелон полон. Он тупо смотрел в ночь. Сердце стучало. Над головой незримо урчали самолеты. Он знал, что это свои, немецкие, но все равно боялся. Боялся куда больше, чем на фронте.
Наконец объявили:
– Отпускники!
Они устремились к эшелону. Там опять стояли жандармы. Днем, при последней проверке, каждый получил бирку, которую теперь надлежало сдать. Они поднялись в вагон. Там уже сидело несколько раненых. Отпускники толкались, распихивали друг друга. Кто-то во всю глотку командовал. Снова пришлось выходить и строиться. Затем их отвели к следующему вагону, где тоже были раненые. Разрешили войти. Гребер нашел место в середине. Не хотел сидеть возле окна. Знал, что́ могут натворить осколки.
Эшелон не трогался. В купе темно. Все ждали. Снаружи стало тихо, но эшелон по-прежнему стоял. За окном двое жандармов уводили под конвоем какого-то солдата. Мимо прошел отряд русских, они тащили ящики с боеприпасами. Потом появились несколько эсэсовцев, которые громко разговаривали между собой. Эшелон все стоял. Первыми начали ругаться раненые. Имели право. С ними пока что ничего уже случиться не могло.
Гребер откинул голову назад. Попробовал уснуть, чтобы проснуться, когда эшелон тронется, но не мог. Прислушивался к каждому звуку. Видел в потемках глаза остальных. Они поблескивали в тусклом отсвете снега и звезд. Лиц не разглядишь, слишком темно. Только глаза. Вагон был полон темноты и беспокойных глаз, а кое-где мертвенно белели бинты.
Состав дернулся и тотчас опять замер. Послышались возгласы. Немного погодя захлопали двери. Двое носилок вынесли на платформу. Еще два покойника. Еще два места для живых, подумал Гребер. Лишь бы в последнюю минуту не привезли новых, а нас не высадили! Все думали об одном и том же.
Состав опять дернулся. Платформа медленно заскользила мимо. Жандармы, пленные, эсэсовцы, штабеля ящиков – а затем вдруг равнина. Все потянулись к окну. Еще не верили. Небось опять станет. Но эшелон продолжал движение, и мало-помалу резкий перестук обрел ровный ритм. Снаружи мелькали танки и орудия. Солдаты, провожающие взглядом вагоны. Гребер вдруг ощутил огромную усталость. Домой, думал он. Домой. О господи, я даже радоваться не смею.
Утром пошел снег. На одной из станций эшелон остановился, подвезли кофе. Станция располагалась на окраине маленького городка, от которого мало что уцелело. Выгрузили умерших. Эшелон переформировали. Гребер с суррогатным кофе бегом поспешил к своему купе. Сходить за хлебом не рискнул.
По эшелону шел патруль, вылавливая легкораненых, которым надлежало остаться в здешнем госпитале. Новость быстро облетела весь вагон. Люди с плечевыми ранениями кинулись прятаться в уборные. Дрались за место. В ярости и отчаянии вышвыривали друг друга, не давая захлопнуть дверь.
– Идут! – крикнул кто-то с улицы.
Комок распался. Двое втиснулись в уборную, захлопнули дверь. Третий – он упал в потасовке – смотрел на свою руку, помещенную в лубки. По бинтам расползалось красное пятно. Четвертый открыл дверь, выходившую в противоположную от платформы сторону, с трудом выбрался наружу, в снежную круговерть, и прижался к вагону. Остальные так и сидели на своих местах.
– Дверь закройте, – сказал кто-то. – Не то они сразу смекнут, что к чему.
Гребер закрыл дверь. На секунду внизу, в вихре снега, мелькнуло белое лицо скорченного раненого.
– Я хочу домой, – сказал раненый с промокшей повязкой. – Дважды попадал в полевой госпиталь, пропади он пропадом, и каждый раз сразу обратно на фронт, без отпуска на выздоровление. Я хочу на родину.
Он с ненавистью обвел взглядом здоровых отпускников. Никто ему не ответил. Патруль подошел нескоро. Двое обходили купе, еще несколько охраняли снаружи выявленных легкораненых. Одним из патрульных был молодой фельдшер. Он бегло просматривал документы раненых и, глядя уже на следующий документ, равнодушно бросал:
– Выходите.
Один не встал. Маленький, невзрачный мужчина.
– На выход, дедуля, – сказал патрульный жандарм. – Разве не слышали?
Тот не шевелился. У него было забинтовано плечо.
– Живо! На выход! – повторил жандарм.
Раненый не шевелился. Крепко сжал губы и смотрел в пространство перед собой, будто ничего не понимает. Жандарм стоял перед ним, широко расставив ноги.
– Что, особого приглашения ждешь? Встать!
Раненый по-прежнему будто и не слышал.
– Встать! – прогремел жандарм. – Не видите, что к вам обращается старший по званию? В трибунал захотели?
– Спокойствие, – сказал фельдшер. – Только спокойствие.
Лицо у него было розовое, без ресниц.
– У вас кровотечение, – обратился он к солдату, который подрался возле уборной. – Нужна перевязка. Выходите.
– Я… – начал тот. Но увидел, что подошел второй жандарм, который вместе с первым подхватил невзрачного солдата под здоровую руку и поставил на ноги. Солдат тонко закричал, с неподвижным лицом. Второй жандарм обхватил его за талию и, точно легкий сверток, выдвинул из купе. Проделал он все это деловито, без грубости. Солдат больше не кричал. Исчез в толпе на платформе.
– Ну? – спросил фельдшер.
– А после перевязки я поеду дальше, господин военврач? – спросил человек с окровавленной повязкой.
– Посмотрим. Возможно. Сначала вас надо перевязать.
Солдат вышел, очень расстроенный. Он назвал фельдшера военврачом, но и это не подействовало. Жандарм подергал дверь уборной.
– Конечно, – презрительно сказал он. – Больше им ничего в голову не приходит. Вечно одно и то же. – И скомандовал: – Открывайте! Живо!
Дверь открылась. Один из солдат вышел.
– Всех перехитрили, да? – рявкнул жандарм. – Зачем запираетесь? В прятки играете?
– Понос у меня. Думаю, уборная как раз для этого.
– Вот как? Именно сейчас? И я должен поверить?
Солдат слегка распахнул шинель. Все увидели Железный крест первого класса. А он посмотрел на пустую грудь жандарма и спокойно произнес:
– Да, должны.
Жандарм побагровел. Но фельдшер опередил его, сказал, не глядя на солдата:
– Будьте добры, выходите.
– Вы не проверили, что со мной.
– Я вижу по повязке. Выходите, пожалуйста.
Солдат бегло усмехнулся:
– Ладно.
– В таком случае здесь мы закончили, так? – нервно спросил фельдшер у жандарма.
– Так точно. – Жандарм взглянул на отпускников. Каждый из них держал в руке свои документы. – Так точно, закончили. – Следом за фельдшером он вышел из вагона.
Дверь уборной беззвучно открылась. Ефрейтор, который тоже сидел там, протиснулся в купе. Лицо у него было мокрое от пота. Он сел на лавку и немного погодя шепотом спросил:
– Ушел?
– Вроде да.
Ефрейтор долго молчал. Только обливался потом.
– Я буду за него молиться, – наконец сказал он.
Все так и уставились на него.
– Что? – недоверчиво спросил кто-то. – Еще и молиться будешь за эту жандармскую сволочь?
– Нет, не за этого гада. За того парня, что был со мной в уборной. Он посоветовал мне остаться; дескать, сам все уладит. Где он?
– На улице. Уладил, ничего не скажешь. Так обозлил жирную сволочь, что тот дальше проверять не стал.
– Я буду за него молиться.
– Да пожалуйста, молись, сколько хочешь.
– Непременно. Моя фамилия Лютьенс. Я непременно буду за него молиться.
– Ну и хорошо. А теперь заткнись. Завтра помолишься. Или подожди хотя бы, чтоб эшелон тронулся, – сказал кто-то.
– Буду молиться. Мне надо домой. Если попаду в здешний госпиталь, отпуск на родину не получу. А мне позарез надо в Германию. У жены рак. Ей всего-навсего тридцать шесть лет. Тридцать шесть сравнялось в октябре. Уже четыре месяца не встает с постели.
Затравленным взглядом он обвел купе. Никто слова не сказал. Слишком уж будничная история.
Через час эшелон продолжил путь. Солдат, который вылез за дверь, не вернулся. Вероятно, сцапали его, подумал Гребер.
В полдень зашел унтер-офицер:
– Кого побрить?
– Что?
– Побрить. Я парикмахер. Мыло у меня превосходное. Еще из Франции.
– Побрить? На ходу?
– Конечно. Только что брил в офицерском вагоне.
– А сколько стоит?
– Пятьдесят пфеннигов. Полрейхсмарки. Дешево, если учесть, что сперва придется обстричь вам бороды.
– Ладно. – Один достал деньги. – Но если порежешь, не получишь ни гроша.
Парикмахер поставил мыльницу, достал из кармана ножницы и гребень. С собой он прихватил и большой бумажный пакет, куда бросал волосы. Потом принялся намыливать. Работал у окна. Пена была такая белая, будто и не мыло вовсе, а снег. Действовал он ловко, сноровисто. Побриться вызвались трое. Раненые отказались. Гребер сел четвертым. Посмотрел на троих, уже выбритых. Выглядели они странно. Щеки и лоб от непогоды красные, в пятнах, подбородки же сияли белизной. Лица наполовину как у солдат, наполовину как у записных домоседов. Гребер слышал, как скребет лезвие. От бритья он повеселел. Оно уже было частицей родины, особенно потому, что занимался бритьем старший по званию. А ты сам вроде как уже был в штатском. Под вечер – новая остановка. На вокзале стояла полевая кухня. Все пошли за харчами. Только Лютьенс не двинулся с места. Гребер видел, как он торопливо шевелил губами. И здоровую руку держал так, будто сплетал ее с незримой второй рукой. Левая, забинтованная, лежала за пазухой. Им раздали капустный суп. Чуть теплый.
До границы добрались вечером. Всех высадили из вагонов. Отпускников строем повели на дезинсекцию. Они сдали одежду и нагишом сидели в бараке, чтобы вши на теле передохли. В помещении было тепло, вода горячая, выдали и мыло, сильно пахнувшее карболкой. Впервые за много месяцев Гребер очутился в действительно теплой комнате. На фронте, правда, печки у них иногда были, но тогда грелся всегда только тот бок, что ближе к огню, другой мерз. Здесь же теплой была вся комната. Кости наконец-то могли оттаять. Кости и череп. Череп мерз намного дольше.
Они сидели, искали и давили вшей. Головных вшей у Гребера не было. Лобковые и платяные вши на голове не живут, это давний закон. Вши уважали свои территории, между собой не воевали.
В тепле его клонило в сон. Он видел бледные тела товарищей, пятна обморожений на ступнях, красные борозды шрамов. Они вдруг перестали быть солдатами. Их обмундирование где-то прожаривали паром, а они были просто голыми людьми, которые ловили вшей, и разговоры их вдруг изменились. О войне никто уже не заикался. Все рассуждали о харчах и о женщинах.
– У нее родился ребенок, – сказал один, по имени Бернхард. Он сидел рядом с Гребером, и в бровях у него ползали вши, а он, глядя в зеркальце, их ловил. – Я два года дома не был, а ребенку четыре месяца. Она говорит, ему четырнадцать месяцев, и он от меня. Но мать мне написала, что он от русского. Да и писать об этом она начала только десять месяцев назад. До тех пор ни слова. Как ваше мнение?
– Бывает, – равнодушно сказал лысый мужик. – В деревнях много детишек от пленных.
– Вот как? Но мне-то что делать?
– Я бы такую бабу выгнал, – сказал кто-то, меняя бинты на ногах. – Это ведь свинство.
– Свинство? Почему же свинство? – возмутился лысый. – В войну дело обстоит иначе. Понимать надо. А ребенок кто? Мальчик или девочка?
– Мальчик. Она пишет, на меня похож.
– Если мальчик, то можно его оставить. Пригодится. В деревне всегда нужны помощники.
– Так ведь он наполовину русский…
– Ну и что? Русские – арийцы. А стране нужны солдаты.
Бернхард отложил зеркальце.
– Не так-то все просто. Тебе легко говорить. С тобой такого не случалось.
– Может, ты бы предпочел, чтобы ребенка твоей жене заделал какой-нибудь жирный боров из тех, что по брони дома отсиживаются?
– Ну уж нет.
– Вот видишь.
– Могла бы меня дождаться, – тихо и смущенно сказал Бернхард.
Лысый пожал плечами.
– Одни дожидаются, другие нет. Чего уж тут качать права, раз годами дома не появляешься!
– Ты сам-то женат?
– Нет. Слава богу, нет.
– Русские не арийцы, – вдруг сказал похожий на мышь человек, остролицый, с маленьким ртом. До сих пор он молчал.
Все воззрились на него.
– Тут ты ошибаешься, – отозвался лысый. – Арийцы они. Мы же с ними были союзниками.
– Недочеловеки они, большевистские недочеловеки. Никакие не арийцы. Так про них пишут.
– Ошибаешься. Поляки, чехи и французы – недочеловеки. Русских мы освобождаем от коммунистов. Они арийцы. За исключением коммунистов, понятно. Может, и не из лучших, не из господ, как мы. Обычные арийцы-работяги. Но истреблению не подлежат.
Мышь уперся:
– Они всегда были недочеловеками. Я точно знаю. Самые что ни на есть недочеловеки.
– Все давно изменилось. Как с японцами. Нынче и они тоже арийцы, с тех пор как стали нашими союзниками в войне. Желтые арийцы.
– Оба вы неправы, – пробасил невероятно волосатый мужчина. – Русские не были недочеловеками, пока мы с ними были союзниками. Зато теперь недочеловеки. Вот как обстоит дело.
– Так что ж ему делать с ребенком-то?
– Сдать куда надо, – снова веско сказал Мышь. – Легкая милосердная смерть. Что еще?
– А жена?
– Это дело властей. Заклеймить позором, обрить наголо, концлагерь, тюрьма или виселица.
– Ее пока что не трогали, – сказал Бернхард.
– Вероятно, они пока не в курсе.
– В курсе. Моя мать сообщила.
– Тогда, значит, власти продажные и халатные. Им тоже место в концлагере. Или на виселице.
– Слышь, отстань ты от меня, – неожиданно со злостью сказал Бернхард и отвернулся.
– Вообще-то француз, пожалуй, был бы лучше, – заметил лысый. – Согласно последним исследованиям, они только наполовину недочеловеки.
– Середнячки-вырожденцы. – Бас взглянул на Гребера. Тот обнаружил на его крупной физиономии легкую усмешку.
Кривоногий парень с куриной грудью, беспокойно сновавший по комнате, остановился.
– Мы – раса господ, – сказал он. – А все прочие – недочеловеки, это ясно… но, собственно, кого тогда считать простыми людьми?
Лысый задумался, потом сказал:
– Шведов. Или швейцарцев.
– Дикарей, – объявил бас. – Конечно же, дикарей.
– Так ведь белых дикарей давно уже не существует, – сказал Мышь.
– Да ну? – Бас пристально посмотрел на него.
Гребер задремал. Он слышал, как остальные снова принялись рассуждать о женщинах. Сам он мало в этом разбирался. Отечественные расовые теории не вязались с его представлениями о любви. Он отказывался думать о племенном отборе, о родословной и плодовитости. А солдатом разве что свел знакомство с несколькими шлюхами в тех странах, где воевал. Они выказывали такую же практичность, как члены Союза немецких девушек, но, по крайней мере, это была их профессия.
Они получили назад свои вещи, оделись. И вдруг опять стали рядовыми, ефрейторами, фельдфебелями и унтер-офицерами. Тот, что с русским ребенком, оказался унтер-офицером. Бас тоже. Мышь – обозным солдатом. Он совершенно сник, увидев, что другие – унтер-офицеры. Гребер осмотрел свое обмундирование. Оно было еще теплое и пахло кислотами. Под пряжками подтяжек обнаружилась колония беглых вшей. Все дохлые. Отравлены газом. Он сковырнул их ногтем. Потом всех отвели в барак. Политофицер произнес речь. Стоя на трибуне, позади которой висел портрет фюрера, он разъяснил, что теперь, когда едут на родину, они берут на себя огромную ответственность. О фронтовом времени нельзя говорить ни слова. Ни слова о позициях, населенных пунктах, армейских частях, передвижениях войск и местах дислокации. Повсюду подстерегают шпионы. Поэтому главное – молчать. Болтуна ждет суровое наказание. Ненадлежащая критика тоже приравнивается к измене родине. Войну ведет фюрер, он знает, что делает. Положение блестящее, русские совершенно истощены, они понесли катастрофические потери, а мы готовим контрнаступление. Продовольственное снабжение первоклассное, дух в войсках отличный. Еще раз: указывать названия каких-либо населенных пунктов – измена родине. Нытье тоже.
Офицер сделал паузу. После чего, уже другим тоном, сказал, что фюрер, несмотря на колоссальную занятость, заботится обо всех своих солдатах. Он распорядился, чтобы каждый отпускник привез на родину подарок. С этой целью ему выдадут продуктовый пакет, который дома следует вручить родственникам в доказательство, что на фронте все как нельзя лучше и солдаты даже могут привезти подарки. Тот, кто вскроет пакет по дороге и съест сам, понесет наказание. Проверка в пункте назначения все покажет. Хайль Гитлер!
Они стояли навытяжку. Гребер ожидал «Германии превыше всего» и «Хорста Весселя»; Третий рейх – большой мастер по части песен. Но ничего такого не произошло. Раздался приказ:
– Отпускники в Рейнскую область, три шага вперед!
Несколько человек вышли из строя.
– Отпуска в Рейнскую область запрещены, – объявил офицер. И обратился к ближайшему: – Куда хотите поехать вместо этого?
– В Кёльн.
– Я же только что сказал, Рейнская область под запретом. Куда хотите поехать взамен?
– В Кёльн, – недоуменно повторил тот. – Я из Кёльна.
– В Кёльн ехать нельзя, неужели непонятно? В какой другой город вы хотите поехать?
– Ни в какой. В Кёльне у меня жена и дети. Я работал там слесарем. Отпускной билет выписан в Кёльн.
– Вижу. Но туда вы поехать не можете. Поймите наконец! В настоящее время Кёльн для отпускников под запретом.
– Под запретом? – спросил бывший слесарь. – Почему?
– Вы с ума сошли? Кто тут задает вопросы? Вы или власти?
Подошел какой-то капитан, что-то шепнул офицеру. Тот кивнул. Потом скомандовал:
– Отпускники в Гамбург и в Эльзас, шаг вперед!
Никто не вышел.
– Рейнцам остаться здесь! Остальные, не в ногу, налево кругом! Шагом марш за пакетами!
Они снова стояли на платформе. Немного погодя подошли рейнцы.
– Что стряслось-то? – спросил бас.
– Ты же слыхал.
– В Кёльн тебе нельзя? Куда теперь поедешь?
– В Ротенбург. Сестра у меня там. Но что мне делать в Ротенбурге? Я живу в Кёльне. Что случилось в Кёльне? Почему мне нельзя в Кёльн?
– Осторожно! – сказал кто-то, глядя на двух эсэсовцев, которые, скрипя сапогами, протопали мимо.
– Плевал я на них! На кой мне в Ротенбург? Где моя семья? Они были в Кёльне. Что там стряслось?
– Может, твоя семья тоже в Ротенбурге.
– Нету ее там. Там нету места. И жена с моей сестрой друг дружку терпеть не могут. Что же стряслось в Кёльне? – Слесарь смотрел на остальных. В глазах у него стояли слезы. Толстые губы дрожали. – Почему вам можно домой, а мне нет? Столько времени прошло! Что случилось? Что с моей женой и детьми? Старшего Георгом звали. Одиннадцать лет. Что же там такое?
– Послушай, – сказал бас. – Ты ничего сделать не можешь. Отбей жене телеграмму. Пусть едет в Ротенбург. Иначе ты вообще ее не увидишь.
– А поездка? Кто ее оплатит? И где ей жить?
– Если тебе нельзя в Кёльн, то и жену твою оттуда не выпустят, – сказал Мышь. – Наверняка. Таковы предписания.
Слесарь открыл рот, но ничего не сказал. Лишь немного погодя обронил:
– Почему не выпустят?
– А ты сам прикинь.
Слесарь обвел взглядом всех вокруг.
– Быть не может, чтобы все было разрушено! Немыслимо это!
– Скажи спасибо, что тебя обратно на фронт не отсылают, – вставил бас. – А ведь могли бы.
Гребер молча слушал. Чувствовал, что его знобит и что озноб идет не снаружи. Неуловимое, призрачное вернулось, оно давно уже витало вокруг, и толком не поддавалось разумению, ускользало, и возвращалось, и смотрело на тебя, и имело сотни размытых лиц, и было безлико. Он посмотрел на рельсы. Они вели на родину, в прочное, теплое, ожидающее, мирное, единственное, что еще осталось. А теперь вот оказывается, то самое, с фронта, кралось следом, зловеще дышало рядом, и прогнать его невозможно.
– Отпуск, – с горечью сказал слесарь из Кёльна. – Это называется отпуск? Что дальше?
Остальные смотрели на него и уже не отвечали. Казалось, на нем вдруг зримо проступила доселе спрятанная хворь. Он ни в чем не виноват, но словно отмечен странной печатью, и все незаметно отодвинулись от него. Радовались, что эта чаша их миновала, но и сами пока не были в безопасности – потому и отодвинулись. Несчастье заразительно.
Эшелон медленно вкатился под дебаркадер. Черная его громада поглотила остатки света.
6
Утром ландшафт выглядел иначе. Отчетливо проступал из мягкой рассветной дымки. Теперь Гребер сидел у окна, прижавшись лицом к стеклу. Он видел поля, еще в пятнах снега, но уже заметны и оставленные плугом ровные черные борозды, и юные нежно-зеленые всходы. Ни воронок от снарядов. Ни разрушений. Плоская, гладкая равнина. Ни окопов. Ни блиндажей. Сельский край.
Потом возникла первая деревня. Церковь, на которой сверкал крест. Школьное здание, на крыше которого медленно поворачивался флюгер. Пивная, возле которой толпился народ. Открытые двери домов, работницы с метлами, повозка, первый отблеск солнца в целехоньких окнах. Невредимые кровли, неразрушенные дома, деревья, у которых все сучья на месте, дороги, которые вправду были дорогами, и дети, идущие в школу. Детей Гребер не видал давным-давно. Он глубоко вздохнул. Вот чего он ждал. Оно существует. Все-таки существует!
– Здесь все на вид совершенно по-другому, верно? – сказал унтер-офицер у соседнего окна.
– Совершенно по-другому.
Дымка редела. На горизонте вырастали леса. Видно далеко-далеко. Вдоль путей тянулись телеграфные провода. То выше, то ниже – нотные линейки бесконечной, неслышимой мелодии. Птицы вспархивали с них, как песни. Тихий, спокойный край. Рык фронта умолк. Уже никаких самолетов. Греберу казалось, будто он в пути не одну неделю. Даже воспоминания о товарищах вдруг поблекли.
– Какой сегодня день? – спросил он.
– Четверг.
– Та-ак, четверг, значит.
Конечно. Вчера была среда.
– Как думаешь, кофе нам где-нибудь дадут?
– Наверняка. Тут ведь все как раньше.
Несколько человек достали из ранцев хлеб, принялись жевать. Гребер ждал, хотел запить свой хлеб кофе. И думал о домашнем завтраке, до войны. У матери была скатерть в сине-белую клетку, кофе пили с медом, булочками и горячим молоком. Пела канарейка, а летом солнце освещало герани на окне. Он часто растирал пальцами темно-зеленый листок, вдыхал диковинный крепкий аромат и думал о дальних странах. Дальних стран он с той поры успел навидаться, но не так, как мечтал тогда. Снова выглянул в окно. И вдруг преисполнился надежды. За окном стояли сельхозрабочие, смотрели на эшелон. В том числе женщины в косынках. Унтер-офицер опустил свое окно, помахал рукой. Никто не ответил.
– Ну и не надо, дурачье, – разочарованно сказал унтер-офицер.
Через несколько минут – другое поле с людьми, и он опять замахал рукой. На сей раз высунувшись далеко в окно. И опять никто не ответил, хотя люди выпрямились и смотрели на эшелон.
– Вот за кого мы воюем, – сердито бросил унтер-офицер.
– Может, тут пленные работают. Или иностранные рабочие.
– А женщины? Вон их сколько. Они-то хотя бы могли помахать.
– Может, они русские. Или польки.
– Чепуха. Вид у них не такой.
– Мы санитарный эшелон, – сказал лысый. – Тут никто не машет.
– Ослы! – бросил унтер-офицер. – Простофили деревенские и коровницы. – Он рывком опустил окно.
– В Кёльне народ не такой, – заметил слесарь.
Эшелон шел дальше. Однажды два часа простоял в туннеле. Света не было, в туннеле тоже царила кромешная тьма. И хотя они привыкли жить в земле, туннель через некоторое время стал действовать на нервы.
Они курили. Огоньки сигарет светлячками летали в черноте вверх-вниз.
– Вероятно, машина вышла из строя, – предположил унтер-офицер.
Все прислушивались. Самолетов не слышно. Разрывов тоже.
– Кто-нибудь из вас бывал в Ротенбурге? – спросил кёльнец.
– Говорят, старинный город, – сказал Гребер.
– Ты там бывал?
– Нет. А ты? Неужто не бывал?
– Надо было тебе в Берлин двинуть, – сказал Мышь. – Отпуск один раз дают. А в Берлине куда интересней.
– Нет у меня денег на Берлин. Где я там буду жить? В гостинице? Я хочу к семье.
Эшелон дернулся.
– Наконец-то, – сказал бас. – Я уж думал, нас тут похоронят.
В темноту просочился серый свет. Засеребрился, и вот снова возник ландшафт. Приветливый, как никогда. Все теснились у окон. Вечер пьянил, словно вино. Все невольно искали свежие воронки. Но не нашли.
Через несколько станций бас сошел. Дальше сошли унтер-офицер и еще двое. А часом позже Гребер начал узнавать местность. Смеркалось. Голубая пелена висела в кронах деревьев. Узнаваемым было не что-то определенное – не дома, не деревни, не холмы, – нет, просто сам ландшафт вдруг заговорил. Он надвигался со всех сторон, сладостный, удивительный, полный нежданных воспоминаний. Неясный, никак не связанный с реальностью, не более чем предчувствие возвращения, не само возвращение, но как раз поэтому обладающий могучей силой. Сумеречные аллеи мечтаний жили в нем, и конца им не было.
Названия станций стали знакомыми. Мимо скользили места, знакомые по экскурсиям. В памяти вдруг возник запах земляники, и еловой смолы, и солнечного луга. Еще несколько минут – и появится город. Гребер собрал вещи. Стоял, дожидаясь первых улиц.
Эшелон остановился. За окном сновали люди. Гребер выглянул наружу. Услышал название города.
– Ну, будь здоров, – сказал кёльнец.
– Мы еще не доехали. Вокзал в центре города.
– Может, его перенесли. Лучше спроси.
Гребер открыл дверь. Увидел в полумраке входящих людей.
– Это Верден? – спросил он.
Некоторые взглянули на него, но не ответили, слишком торопились. Он вышел. Потом услыхал крик железнодорожного служащего:
– Верден! Выходите!
Он подхватил ранец за ремни, протолкался к служащему.
– Поезд не пойдет к вокзалу?
Железнодорожник устало посмотрел на него:
– Вам надо в Верден?
– Да.
– Идите направо, за платформу. Дальше автобусом.
Гребер зашагал вдоль платформы. Незнакомая. Новая, сколоченная из свежих досок. Нашел автобус.
– В Верден поедете? – спросил он у шофера.
– Да.
– Эшелон туда не пойдет?
– Нет.
– Почему?
– Потому что теперь ходит только досюда.
Гребер смотрел на шофера. Зная, что дальнейшие расспросы бессмысленны. Толкового ответа не получишь. Он медленно поднялся в автобус. В углу еще нашлось свободное место. Снаружи царил мрак. Он едва сумел разглядеть, что в темноте поблескивали вроде как новые рельсы. Уходили под прямым углом прочь от города. Эшелон уже маневрировал. Гребер забился в угол. Может, так сделали из осторожности, неуверенно подумал он.
Автобус тронулся. Старая колымага, на скверном бензине. Мотор чихал. Их обогнали несколько «мерседесов». В одном сидели офицеры вермахта, в двух других – офицеры СС. Люди в автобусе смотрели, как они промчались мимо. Никто не сказал ни слова. Вообще от начала и до конца поездки почти все молчали. Только чей-то ребенок смеялся, играя в проходе. Девочка лет двух, белокурая, с голубым бантом в волосах.
Вот и первые улицы. Неповрежденные. Гребер облегченно вздохнул. Через несколько минут автобус остановился.
– Конечная! Освободите салон!
– Где мы? – спросил Гребер у соседа.
– Брамшештрассе.
– Дальше не поедем?
– Нет.
Сосед вышел. Гребер последовал за ним.
– Я в отпуску, – сказал он. – Впервые за два года. – Он не мог не сказать кому-нибудь об этом.
Мужчина – его лоб пересекал свежий шрам, двух передних зубов недоставало – взглянул на него:
– Где вы живете?
– Хакенштрассе, восемнадцать.
– Это в Старом городе?
– На границе. Угол Луизенштрассе. Оттуда видно церковь Святой Екатерины.
– Ну… да… – Мужчина глянул на темное небо. – Что ж, дорогу вы знаете.
– Конечно. Ее не забудешь.
– А то. Всего доброго.
– Спасибо.
Гребер зашагал по Брамшештрассе. Глядя на дома. Целые и невредимые. Глядя на окна. Сплошь темные. Затемнение, думал он, понятно. Ребячество, конечно, но этого он почему-то не ожидал, думал, город будет освещен. А ведь не мог не знать заранее. Он торопливо шел по улице. Увидел булочную, где не было хлеба. В витрине стояла стеклянная ваза с бумажными розами. Дальше бакалейный магазин. Витрины заставлены пакетами, но пустыми. Потом лавка шорника. Гребер помнил ее. Раньше за стеклом стояло чучело гнедого коня. Он заглянул внутрь. Конь был на старом месте, а перед ним, подняв голову и как бы лая, по-прежнему красовалось старое чучело черно-белого терьера. На мгновение он задержался у витрины, которая, несмотря на все случившееся за последние годы, нисколько не изменилась, потом двинулся дальше. Внезапно он почувствовал себя дома.
– Добрый вечер, – сказал он незнакомцу, что стоял в дверях следующего подъезда.
– Добрый… – удивленно отозвался тот немного погодя.
Мостовая гудела под сапогами Гребера. Скоро он скинет эту тяжесть, отыщет легкие штатские ботинки. Вымоется в чистой горячей воде, наденет чистую рубашку. Он ускорил шаги. Улица под ногами, казалось, выгибалась дугой, словно живая или полная электричества. И вдруг он учуял дым.
Гребер остановился. Дым был не печной и не от костра – дым пожара. Он огляделся по сторонам. Дома вокруг целые. Крыши тоже. Небо за ними огромное, темно-синее.
Он пошел дальше. Улица вливалась в небольшую площадь со сквером. Запах гари усилился. Казалось, висел в голых кронах деревьев. Гребер принюхался, однако не смог определить, откуда шел запах. Сейчас он был повсюду, будто пеплом упал с неба.
На следующем углу он увидел первый разрушенный дом. Это было как удар. В последние годы он видел сплошные развалины и уже ничего при этом не думал; но на эту груду обломков смотрел так, будто видел разрушенное здание впервые в жизни.
Всего один дом, думал он. Один-единственный дом. Не больше. Остальные все целы. Он торопливо миновал развалины и принюхался. Запах гари шел не оттуда. Этот дом разрушен довольно давно. Возможно, случайность, забытая бомба, сброшенная наугад на обратном пути.
Он взглянул на табличку: Бремерштрассе. До Хакенштрассе еще далеко. По меньшей мере полчаса ходу. Ускорил шаги. Людей почти не видно. В какой-то темной подворотне горели маленькие синие лампочки. Они были прикрыты козырьками и создавали впечатление, будто подворотня больна туберкулезом.
Потом первый разрушенный угол. На сей раз несколько домов. Сохранились лишь две-три несущие стены. Тянулись ввысь, зазубренные и черные. Искореженные стальные балки висели меж ними как темные змеи, выползшие из камней. Часть развалин отгребли в сторону. Эти руины тоже были давние. Гребер шел вплотную к ним. Перелез через обломки на тротуаре и увидел в темноте еще более темные подвижные тени, словно там шныряли огромные жуки.
– Эй! – крикнул он. – Кто здесь?
Посыпалась штукатурка, застучали камни. Фигуры кинулись прочь. Гребер слышал тяжелое дыхание. Насторожился и тотчас сообразил, что это он сам так громко дышит. Припустил бегом. Запах гари усиливался. И разрушений становилось все больше. Он добрался до Старого города – и замер, не в силах отвести взгляд. Раньше там стояли ряды средневековых деревянных домов – здания с выступающими фронтонами, островерхими крышами и разноцветными надписями. Их больше не было. Вместо них он увидел хаос пожарища, обугленные балки, стены, груды камней, остатки улиц, над которыми висела едкая белесая мгла. Дома сгорели, как сухая стружка. Он поспешил дальше. Внезапно его охватил жуткий страх. Вспомнилось, что недалеко от родительского дома располагался медеплавильный заводик. Возможно, это и была цель бомбежки. Он заковылял по улицам, через сырые, тлеющие руины, спешил изо всех сил, натыкался на людей, бежал вперед, карабкался через кучи обломков, потом остановился. Не зная, где находится.
Знакомый с детства город так изменился, что он никак не мог сориентироваться. Привык ориентироваться по фасадам домов. А их больше не было. Спросил какую-то женщину, которая торопливо шла мимо, как пройти на Хакенштрассе.
– Что? – испуганно переспросила та. Она была грязная, прижимала руки к груди.
– На Хакенштрассе.
Женщина махнула рукой:
– Вон туда… за угол…
Он пошел туда. По одну сторону вереницей тянулись обугленные деревья. Ветки и небольшие сучья сгорели, стволы и несколько толстых сучьев еще торчали вверх. Словно огромные черные руки, устремленные из земли к небу.
Гребер пробовал сориентироваться. Отсюда он должен был видеть башню церкви Святой Екатерины. Но не видел ее. Вероятно, церковь тоже рухнула. Больше он никого не спрашивал. Кое-где видел носилки. Люди лопатами расчищали завалы. Кругом сновали пожарные. В чадном дыму хлестали струи воды. Над медеплавильным заводом стояло мрачное зарево. А потом он нашел Хакенштрассе.
7
Табличка висела на погнутом фонарном столбе. Указывала наискось вниз, в воронку, где валялись обломки стен и железная кровать. Гребер обошел воронку, зашагал дальше. Чуть впереди виднелся неразрушенный дом. Восемнадцатый, прошептал он, пусть это будет восемнадцатый! Господи, сделай так, чтобы восемнадцатый уцелел!
Он ошибся. Это был только фасад. В темноте он казался целым зданием. Подойдя, Гребер увидел, что за фасадом все обрушилось. Наверху между стальными балками застряло фортепиано. Крышку сорвало, клавиши поблескивали как огромная зубастая пасть, словно могучий доисторический зверь яростно грозил тем, что внизу. Дверь подъезда на фасаде стояла нараспашку.
Гребер побежал туда.
– Эй! – крикнул кто-то. – Осторожно! Куда вы?
Он не ответил. Вдруг не мог сообразить, где родительский дом. Все минувшие годы видел его как наяву, каждое окно, дверь подъезда, лестницу, – но теперь, нынешней ночью, все смешалось. Он даже не понимал, на какой стороне улицы находится.
– Эй, парень! – опять закричал тот же голос. – Вы что, хотите получить обломком по башке?
Гребер глянул сквозь дверь. Увидел начало лестницы. Поискал номер дома. Подошел дружинник из гражданской обороны.
– Что вы здесь делаете?
– Это дом восемнадцать? Где дом восемнадцать?
– Восемнадцать? – Человек поправил каску. – Где дом восемнадцать? Вы хотите сказать, где он был?
– Что?
– Та-ак. Вы что, слепой?
– Это не восемнадцатый!
– Был не восемнадцатый! Был! Настоящее время не существует! Только прошедшее!
Гребер схватил мужчину за лацканы. Яростно бросил:
– Послушайте! Я здесь не затем, чтобы шутить. Где восемнадцатый дом?
Дружинник посмотрел на него:
– Немедленно отпустите меня, или я вызову полицию. Вам здесь нечего делать. Это территория расчистки завалов. Вас арестуют.
– Нет, не арестуют. Я с фронта.
– Велика важность! Думаете, здесь не фронт?
Гребер разжал руки.
– Я живу в доме восемнадцать. Хакенштрассе, восемнадцать. Здесь живут мои родители…
– На этой улице никто больше не живет.
– Никто?
– Никто. Уж я-то знаю. Сам здесь жил. – Мужчина вдруг оскалил зубы и выкрикнул: – Да, жил! Жил! За две недели здесь было шесть воздушных налетов, слышите, вы, фронтовик! А вы, черт бы вас побрал, лодыря гоняли на фронте! Здоровый да бодрый, как я погляжу! А моя жена? Она вон там… – Он кивнул на дом, возле которого они стояли. – Кто ее откопает? Никто! Погибла! Смысла нет, говорят спасатели. Слишком много другой срочной работы. Слишком много поганых бумажек, и поганых контор, и поганых властей, которых надо спасать. – Он приблизил к Греберу худое лицо. – Знаете что, солдат? Человек никогда не понимает, что творится, пока его самого за горло не возьмут. А когда поймет, уже слишком поздно. Так-то, фронтовик! – Он прямо выплюнул это слово. – Храбрец-фронтовик с кучей побрякушек! Восемнадцатый дом вон там, где лопатами орудуют.
Гребер пошел прочь. Там, где лопатами орудуют, думал он. Там, где лопатами орудуют! Это неправда! Сейчас я проснусь в блиндаже, проснусь в подвале в безымянной русской деревне, с Иммерманом, который сидит и бранится, с Мюкке, с Зауэром, это Россия, а не Германия, Германия цела-невредима, она под защитой, она…
Сперва он услышал возгласы и лязг лопат, потом увидел людей на дымящихся руинах. Из пробитого водопровода по улице потоком текла вода. Поблескивала в свете замаскированных ламп. Он подбежал к человеку, который отдавал приказы.
– Это дом восемнадцать?
– Чего? Убирайтесь отсюда! Что вам здесь нужно?
– Я ищу родителей. Дом восемнадцать. Где они?
– Парень, откуда мне знать? Я что, господь бог?
– Их спасли?
– Спросите кого-нибудь другого. Нас это не касается. Мы только расчищаем завалы.
– Здесь есть засыпанные?
– Конечно, есть. По-вашему, мы ради развлечения копаем? – Старшой обернулся к своим людям. – Стоп! Тишина! Вильман, стучите!
Рабочие выпрямились. Люди в свитерах, люди с грязными белыми воротничками, люди в старых комбинезонах, люди в армейских брюках и цивильных пиджаках. Грязные, с потными лицами. Один, стоя на коленях, постучал молотком по торчащей из обломков трубе.
– Тихо! – крикнул старшой.
Настала тишина. Человек с молотком припал ухом к трубе. Слышно было только дыхание людей да шорох осыпающейся штукатурки. Вдали выли сирены санитарных и пожарных машин. Человек с молотком постучал снова. Выпрямился.
– Пока что отвечают. Стучат быстрее. Наверно, воздуха осталось совсем мало. – Он несколько раз торопливо стукнул в ответ.
– За работу! – крикнул старшой. – Давайте! Здесь, справа! Попробуем пробить трубы, чтобы к ним пошел воздух!
Гребер все еще стоял рядом с ним.
– Это бомбоубежище?
– Конечно. Что же еще? Думаете, кто-нибудь мог бы еще стучать, если б находился не в подвале?
Гребер сглотнул.
– Это здешние жильцы? Дружинник из гражданской обороны говорит, здесь никто больше не живет.
– Он совсем умом тронулся. Здесь внизу люди, они стучат, нам этого достаточно.
Гребер скинул ранец.
– Я сильный. Помогу раскапывать. – Он посмотрел на старшого. – Я должен. Возможно, мои родители…
– Кто бы возражал! Вильман, вот вам еще один на смену. Топор найдется?
Сначала появились размозженные ноги. Перебитые и придавленные балкой. Раненый еще жил. Причем был в сознании. Гребер смотрел ему в лицо. Незнакомый. Они распилили балку, подтащили носилки. Мужчина не кричал. Только закатил глаза, они вдруг разом побелели.
Расширив проем, они нашли двух мертвецов. Расплющенных в лепешку. Лица плоские, совершенно без выступов, носа нет, зубы – два ряда плоских зерен, вразброс, вкривь и вкось, как миндальные орехи в пироге. Гребер наклонился. Увидел темные волосы. Его родители белокурые. Они вытащили трупы. Плоские, странные тела лежали теперь на мостовой.
Посветлело. Всходила луна. Небо налилось мягкой, почти прозрачной, очень холодной синью.
– Когда был налет? – спросил Гребер, когда его сменили.
– Вчера ночью.
Гребер посмотрел на свои руки. В бесплотном свете они казались черными. Кровь, стекавшая с них, тоже была черной. Он не знал, его ли это собственная. Не помнил даже, что голыми руками разгребал обломки и осколки стекла. Работа продолжалась. Глаза слезились от едкой кислоты бомбовых испарений. Они утирали слезы рукавом, но те набегали снова и снова.
– Эй, солдат! – окликнул кто-то за спиной.
Он обернулся.
– Ваш ранец? – спросил человек, который размытым контуром маячил перед глазами.
– Где?
– Вон там. Кто-то аккурат смывается с ним.
Гребер хотел отвернуться.
– Крадет, – сказал человек, показывая пальцем. – Вы можете его догнать. Живо! Я вас подменю.
Гребер был неспособен думать. Просто выполнил указания голоса и руки. Побежал по улице и увидел, как кто-то карабкается через кучу обломков. Догнал. Ранец утащил какой-то старик. Гребер наступил на ремни. Старик выпустил ранец, обернулся, поднял руки и тонко, пронзительно квакнул. В лунном свете рот у него казался большим и черным, глаза поблескивали.
Подошел патруль. Двое эсэсовцев.
– Что здесь происходит?
– Ничего, – ответил Гребер, закидывая ранец на плечо. Квакающий старикан молчал. Дышал громко, со свистом.
– Что вы здесь делаете? – спросил один из эсэсовцев. Пожилой обер-шарфюрер. – Документы.
– Помогаю раскапывать завалы. Вон там. Мои родители там жили. Я должен…
– Солдатская книжка! – уже резче сказал обер-шарфюрер.
Гребер неотрывно смотрел на них обоих. Нет смысла спорить, имеет ли СС право проверять документы у солдат. Их двое, и оба вооружены. Он торопливо достал отпускной билет. Эсэсовец вытащил карманный фонарь, прочитал. Секунду-другую бумага была освещена так ярко, будто горела изнутри. Гребер чувствовал, как все его мышцы судорожно напряглись. Наконец фонарик погас, обер-шарфюрер вернул ему билет.
– Вы живете на Хакенштрассе, восемнадцать?
– Да, – в яростном нетерпении ответил Гребер. – Через дорогу. Мы как раз там копаем. Я ищу свою семью.
– Где?
– Вон там. Где копают. Вы разве не видите?
– Это не восемнадцатый дом, – сказал обер-шарфюрер.
– Что?
– Это не восемнадцатый, а двадцать второй. Восемнадцатый – вот этот. – Он показал на развалины, из которых торчали железные балки.
– Вы уверены? – пробормотал Гребер.
– Конечно. Сейчас тут все выглядит одинаково. Но восемнадцатый номер здесь, я точно знаю.
Гребер смотрел на развалины. Они не дымились.
– Этот участок улицы разбомбили не вчера, – сказал обер-шарфюрер. – По-моему, на прошлой неделе.
– Вы не знаете… – Гребер осекся, потом продолжил: – Вы не знаете, здешних жильцов спасли?
– Не знаю. Но кого-нибудь всегда спасают. Возможно, ваших родителей вообще не было в этом доме. При воздушной тревоге большинство спускается в большие бомбоубежища.
– Где я могу навести справки? Узнать, где они сейчас?
– Сегодня ночью нигде. Ратушу разбомбили, там полная неразбериха. Спросите завтра утром в окружном управлении. А что у вас произошло с этим человеком?
– Ничего. Думаете, под развалинами еще есть люди?
– Они есть повсюду. Мертвые. Чтобы откопать всех, нам надо в сто раз больше людей. Эти сволочи бомбят весь город без разбору.
Обер-шарфюрер повернулся, собираясь уходить.
– Здесь что, запретная зона? – спросил Гребер.
– Почему?
– Дружинник из гражданской обороны так сказал.
– Этот малый съехал с катушек. Он уже не на должности. Оставайтесь здесь сколько хотите. Переночевать, пожалуй, сможете на пункте Красного Креста. Там, где был вокзал. Если повезет.
Гребер искал вход. В одном месте обломки убрали, но нигде не было отверстия, ведущего в подвал. Он перелез через развалины. Посередине торчал кусок лестницы. Ступеньки и перила уцелели, но бессмысленно вели в пустоту. Позади лестницы обломки громоздились выше. Там, в нише, аккуратно стояло плюшевое кресло, словно кто-то бережно поставил его туда. Задняя стена дома наискось обрушилась в сад, накрыв остальные обломки. Там что-то мелькнуло. Гребер подумал, это давешний старик, но потом разглядел кошку. Не раздумывая, подобрал камень и швырнул в нее. В голове вдруг возникла нелепая мысль, что кошка глодала трупы. Он поспешно перебрался на другую сторону. Теперь он увидел, что дом вправду тот самый; небольшой клочок сада остался невредим, и там по-прежнему стояла деревянная беседка с лавочкой, а за ней – пень от липы. Он осторожно ощупал кору, почувствовал углубления букв, которые вырезал сам много лет назад. Обернулся. Луна поднялась над стеной разбитого дома и теперь светила во двор. Сплошные воронки, варварский, чужой ландшафт, такой можно увидеть во сне, но никак не в реальности. Он забыл, что за последние годы почти ничего другого не видал.
Двери черных лестниц казались безнадежно засыпанными. Гребер прислушался. Постучал по одной из железных балок, замер и прислушался снова. Ему вдруг почудился жалобный стон. Ветер, наверно, подумал он, не иначе как ветер. Но стон повторился. Он ринулся в сторону лестницы. Перед ним со ступенек, где схоронилась, спрыгнула кошка. Он опять прислушался. Чувствуя, что весь дрожит. А потом, как-то вдруг, уверился, что под завалами лежат родители, что они еще живы и в потемках отчаянно карябают разбитыми руками и стонут, призывая его…
Он отшвыривал в сторону камни и обломки, потом опомнился, помчался назад. Падал, обдирал колени, скользил по штукатурке и камням, выбрался на улицу, побежал к тому дому, где всю ночь помогал разбирать завалы.
– Идемте! Это не восемнадцатый дом. Восемнадцатый вон там! Помогите мне копать!
– Что? – Старшой выпрямился.
– Это не восемнадцатый! Мои родители вон там…
– Где?
– Там! Скорее!
Старшой посмотрел в ту сторону.
– Это ведь давнишний, – помолчав, сказал он очень мягко и осторожно. – Слишком поздно, солдат. Нам необходимо продолжать здесь.
Гребер сбросил с плеч ранец.
– Там мои родители! Вот! У меня есть вещи, харчи. Деньги…
Старшой устремил на него красные, слезящиеся глаза.
– И поэтому нам надо оставить умирать тех, что здесь внизу?
– Нет… но…
– Сами понимаете… эти еще живы…
– Тогда, может, позднее…
– Позднее! Вы что, не видите, люди с ног валятся от усталости?
– Я работал с вами всю ночь. Так что вы могли бы…
– Послушайте! – Старшой вдруг рассердился. – Будьте благоразумны! Копать там уже нет смысла. Неужели непонятно? Вы ведь даже не знаете, есть там кто под развалинами или нет. Вероятно, нет, иначе бы нам сказали. А теперь оставьте нас в покое!
Он взялся за кирку. Гребер так и стоял. Смотрел на спины работающих людей. Смотрел на носилки. На подошедших санитаров. Вода из пробитого водопровода заливала улицу. Он чувствовал, как силы оставляют его. Хотел помочь расчищать завалы. И больше не мог. Поплелся туда, где когда-то был дом восемнадцать.
Обвел взглядом развалины. Снова начал разгребать камни, но вскоре перестал. Невозможно. Когда он убрал обломки, перед ним оказались железные балки, бетон и каменные глыбы. Дом был построен на совесть, что делало развалины почти неприступными. Может, им и правда удалось убежать, подумал он. Может, их эвакуировали. Может, они где-нибудь в деревне в южной Германии. Может, в Ротенбурге. Может, спят где-то в кроватях. Мама. Я опустошен. У меня уже нет ни головы, ни желудка.
Он сел возле лестницы. Лестница Иакова, подумалось ему. А что же еще? Разве это не лестница, ведущая в небо? И разве по ней не восходят и нисходят ангелы? Где они, ангелы? Обернулись самолетами. Где всё? Где земля? Она теперь только для могил да окопов? Я рыл окопы и могилы, думал он, много тех и других. Что я делаю здесь? Почему мне никто не поможет? Я видел тысячи развалин. Но по-настоящему не видел их никогда. До сегодняшнего дня. До вот этих. Они не такие, как все прочие. Почему я не лежу под ними? Я должен бы лежать там.
Все стихло. Последние носилки унесли прочь. Луна поднялась еще выше, ее серп безжалостно стоял над городом. Снова появилась кошка. Долго смотрела на Гребера. В бесплотном свете ее глаза сверкали зеленым огнем. Она осторожно скользнула ближе. Несколько раз бесшумно обошла вокруг него. Потом потерлась о его ноги, выгнула спинку, замурлыкала. И улеглась рядом. Этого он уже не заметил.
8
Наступило сияющее утро. Гребер не сразу сообразил, где находится, так он привык спать среди развалин. Но память мгновенно вернулась.
Прислонясь к лестнице, он попытался думать. Кошка сидела чуть поодаль, под наполовину засыпанной ванной, и спокойно умывалась. Разрушение ее не касалось.
Гребер взглянул на часы. Идти в окружное управление еще слишком рано. Он медленно встал. Суставы онемели, руки грязные, в кровавых ссадинах. В ванне нашлось немного чистой воды – вероятно, осталась от попыток тушения или от дождя. Из воды смотрело его собственное лицо. Незнакомое. Он достал из ранца кусок мыла и принялся умываться. Вода почернела, руки опять начали кровоточить. Он подержал их на солнце, чтобы обсушить. Потом оглядел себя. Брюки порвались, френч в грязи. Намочил носовой платок, попробовал кое-как счистить грязь. Больше ничего не сделаешь.
В ранце был хлеб. Во фляжке немного кофе. Он выпил кофе, заедая хлебом. Вдруг проголодался как волк. Горло болело, словно он всю ночь кричал. Подошла кошка. Он отломил кусочек хлеба, протянул ей. Она осторожно взяла, унесла подальше и стала есть. Искоса поглядывая на него. Черная шубка, одна лапка белая. В разбитых стеклах среди развалин сверкало солнце. Гребер подхватил ранец, выбрался на улицу.
Внизу остановился, глянул по сторонам. Очертаний города не узнать. Всюду проломы, как в разбитой челюсти. Зеленый купол собора исчез. Церковь Святой Екатерины обрушилась. Ряды крыш вокруг грязные, изъеденные, словно огромные доисторические насекомые разворошили муравейник. На Хакенштрассе стояли лишь считаные дома. Город выглядел совсем не как родина, какую он ожидал увидеть; казалось, это Россия.
Дверь дома, от которого уцелел только фасад, открылась. Оттуда вышел вчерашний дружинник из гражданской обороны. Сущая фантасмагория – видеть, как он выходит из дома, от которого ничего не осталось, выходит так, будто все в порядке. Даже рукой машет. Гребер секунду помедлил. Вспомнил слова обер-шарфюрера, что он сошел с ума. Потом все-таки подошел.
Дружинник оскалил зубы:
– Что вы здесь делаете? Мародерствуете? Не знаете разве, что это запрещено…
– Послушайте! – сказал Гребер. – Бросьте вы эту хренову чепуху! Лучше скажите, не знаете ли чего о моих родителях! Пауль и Мария Гребер. Они жили вон там.
Дружинник приблизил к нему худое, заросшее щетиной лицо.
– А-а, это вы! Вчерашний фронтовик! Не кричите так, солдат! Думаете, вы единственный, кто потерял близких? Как по-вашему, что́ это вон там? – Он кивнул на дом, из которого вышел.
– Где?
– Там! На двери! Вы что, ослепли? Думаете, шуточная афиша?
Гребер не ответил. Увидел, что дверь медленно раскачивается на ветру и что изнутри филенка сплошь обклеена записками. Он поспешил туда.
Это были адреса и обращения к пропавшим. Некоторые написаны прямо на двери – карандашом, чернилами или углем, но бо́льшая часть – на листках, пришпиленных кнопками или приклеенных. «Генрих и Георг, приходите к дяде Герману. Ирма погибла. Мама» – стояло на большом линованном листе, вырванном из школьной тетрадки и прикрепленном четырьмя кнопками. Прямо под ним, на крышке от обувной коробки: «Ради бога, сообщите о Брунгильде Шмидт, Тюрингерштрассе, 4». Рядом, на почтовой открытке: «Отто, мы в Хасте, в народной школе». А совсем внизу, под адресами, написанными карандашом и чернилами, на бумажной салфетке с кружевной каемкой, цветной пастелью: «Мария, где ты?», без подписи.
Гребер выпрямился.
– Ну? – спросил дружинник. – Ваши там есть?
– Нет. Они не знали, что я приеду.
Безумец скривился, вроде как от беззвучного смеха:
– Никто ни о ком не знает, солдат. Никто! И спасаются всегда не те. Со сволочами ничего не случается. Вы это еще не усвоили?
– Усвоил.
– Тогда запишитесь! Запишитесь в горестный список! А потом ждите! Ждите, как мы все. Ждите понапрасну! – Его лицо изменилось, вдруг разорванное беспомощной болью.
Гребер отвернулся. Наклонился, поискал среди мусора что-нибудь, на чем можно писать. Нашел цветной портрет Гитлера в сломанной рамке. Оборот был белый, без текста. Он оторвал верхнюю часть, достал карандаш и задумался. Почему-то вдруг не знал, чту писать. «Прошу сообщить о Пауле и Марии Гребер, – в конце концов написал он. – Эрнст здесь, в отпуске».
– Государственная измена, – тихо сказал дружинник у него за спиной.
– Что? – Гребер резко обернулся.
– Государственная измена! Вы разорвали портрет фюрера.
– Он уже был разорван и валялся в грязи, – сердито бросил Гребер. – А теперь отстаньте от меня со своими глупостями!
Он не находил, чем бы прикрепить записку. И в конце концов вытащил две из четырех кнопок, которыми было приколото обращение матери, и пришпилил свой листок. Сделал он это нехотя, с ощущением, будто украл венок с чужого гроба. Но другого выхода не было, к тому же две кнопки держали послание матери не хуже четырех.
Дружинник смотрел ему через плечо.
– Готово! – воскликнул он, словно отдавая приказ. – А теперь зиг-хайль, солдат! Горевать воспрещается! Надевать траур тоже! Ослабляет боевой дух! Гордитесь, что можете приносить жертвы! Если б вы, сволочи, исполняли свой долг, такого никогда бы не случилось!
Он резко отвернулся и птичьей походкой удалился, переставляя длинные, тонкие ноги.
Гребер тотчас забыл о нем. Оторвал еще клочок от портрета Гитлера и записал на нем адрес, который нашел на двери. Адрес семьи Лоозе. Он их знал и решил спросить у них про родителей. Потом вытащил из рамки остатки портрета, написал на обороте то же, что повесил на дверь, и вернулся к дому восемнадцать. Там зажал записку меж двумя камнями, так что ее было хорошо видно. В результате вероятность, что его обращение заметят, возросла вдвое. Больше он пока ничего сделать не мог. Немного постоял возле груды обломков и камней, не зная, что это – могила ли, нет ли. Плюшевое кресло в нише блестело на солнце, как изумруд. Каштан рядом с ним, на улице, чудом остался совершенно невредим. Его листва нежно сияла на солнце, зяблики щебетали среди ветвей, строили гнездо.
Он посмотрел на часы. Пора идти в ратушу.
Стойка отдела пропавших была на скорую руку сколочена из новых досок. Некрашеные, они еще пахли смолой и лесом. С одной стороны комнаты потолок обвалился. Плотники ставили там опоры и стучали молотками. Повсюду стоял народ, молча и терпеливо ждал. За стойкой сидели однорукий конторщик и две женщины.
– Фамилия? – спросила женщина с правого края. У нее было плоское, широкое лицо и красная шелковая лента в волосах.
– Гребер. Пауль и Мария Гребер. Секретарь налогового ведомства. Хакенштрассе, восемнадцать.
– Как-как? – Женщина приставила ладонь к уху.
– Гребер, – повторил Гребер погромче сквозь перестук молотков. – Пауль и Мария Гребер. Секретарь налогового ведомства.
Чиновница открыла амбарную книгу.
– Гребер, Гребер… – Палец скользил по столбцу фамилий, остановился. – Гребер… ага, имя… как вы сказали?
– Пауль и Мария.
– Как?
– Пауль и Мария! – Гребер вдруг рассвирепел. Невыносимо, что он еще и кричать должен о своей беде.
– Нет. Тут только Эрнст Гребер.
– Эрнст Гребер – это я сам. В нашей семье другого нет.
– Ну, это определенно не вы. А другие Греберы у нас не значатся. – Конторщица подняла голову, улыбнулась. – Если хотите, зайдите через несколько дней. Мы еще не располагаем полными сведениями. Следующий.
Гребер не отошел.
– Где еще можно спросить?
Конторщица поправила красную шелковую ленту в волосах.
– В отделе регистрации. Следующий.
Гребер почувствовал тычок в спину. Толкнула его маленькая старушонка с руками, похожими на птичьи лапы, она стояла за ним. Он посторонился.
И еще некоторое время в нерешительности топтался возле стойки. В голове не укладывалось, что это все. Слишком уж быстро. Его утрата для этого слишком велика.
Однорукий конторщик взглянул на него и перегнулся через стойку:
– Радуйтесь, что ваших родных в наших списках нет.
– Почему?
– Это списки погибших и тяжелораненых. Пока люди здесь не числятся, они всего лишь пропавшие.
– Пропавшие? А где списки пропавших?
Конторщик смотрел на него с терпеливостью человека, который каждый день по восемь часов имеет дело с чужой бедой и не может помочь.
– Будьте благоразумны, – сказал он. – Пропавшие – они и есть пропавшие. Какой здесь толк от списков? Все равно ведь неизвестно, что с ними случилось. Будь это известно, пропавших бы не было. Верно?
Гребер неотрывно смотрел на него. Конторщик вроде как гордился своей логикой. Но рассудок и логика плохо вязались с утратой и болью. Да и что ответишь человеку, потерявшему руку?
– Вероятно, – сказал Гребер и отвернулся.
Расспрашивая встречных, он отыскал отдел регистрации. Тот располагался в другом крыле ратуши, где пахло кислотами и гарью. После долгого ожидания он очутился перед нервной женщиной в пенсне.
– Я ничего не знаю, – сразу же запричитала она. – Здесь ничего не найдешь. Вся картотека вперемешку. Часть сгорела, остальное эти болваны-пожарные загубили водой.
– Почему вы не переправили документы в безопасное место? – спросил унтер-офицер, стоявший рядом с Гребером.
– В безопасное место? А где оно? Может, вы знаете? Я не муниципалитет. Жалуйтесь туда. – Женщина безутешно смотрела на кучу мокрых бумаг. – Все уничтожено! Весь отдел регистрации! И что теперь будет? Теперь каждый может назваться как угодно!
– Вот ужас-то, да? – Унтер-офицер сплюнул и подтолкнул Гребера. – Идем, дружище. Тут они все поголовно сбрендили.
Они вышли, остановились перед ратушей. Дома вокруг сгорели дотла. От памятника Бисмарку стояли только сапоги. Стая белых голубей кружила над разрушенной башней церкви Девы Марии.
– Ох и дерьмо! – сказал унтер-офицер. – Ты кого ищешь?
– Родителей.
– А я – жену. Не написал ей, что приеду. Хотел сделать сюрприз. А ты?
– Я тоже. Не хотел понапрасну волновать родителей. Отпуск уже несколько раз откладывался. А потом вдруг разрешили. Написать я уже не успел.
– Паршиво! Что будешь делать?
Гребер обвел взглядом разрушенную Рыночную площадь. С 1933-го она называлась Гитлерплац. Раньше, после проигранной войны, – Эбертплац, еще раньше – Кайзер-Вильгельм-плац, а до того – просто Рыночная площадь.
– Не знаю, – сказал он. – Пока что я ничего не понимаю. Нельзя же просто так потеряться, здесь, посредине Германии…
– Нельзя? – Унтер-офицер посмотрел на Гребера со смесью иронии и жалости. – Голубчик, ты еще ох как удивишься! Я ищу жену уже пять дней. Пять дней, с утра до ночи, исчезла она с лица земли, словно по волшебству!
– Но как такое возможно? Где-нибудь…
– Исчезла, – повторил унтер-офицер. – Вместе с несколькими тысячами других. Часть из них вывезли. Во временные лагеря и мелкие городки. Поди найди, где они, когда почта уже толком не работает. А остальные толпами сбежали в деревни.
– Деревни, – с облегчением проговорил Гребер. – Конечно! Об этом я не подумал. В деревнях безопасно. Они наверняка там…
– Да уж, как бы не так! – Унтер-офицер презрительно фыркнул. – Много ли от этого проку? Тебе известно, что вокруг этого окаянного города почти два десятка деревень? Пока ты их обойдешь, твой отпуск кончится, понимаешь?
Гребер понимал, но ему было все равно. Единственное, чего он хотел, – знать, что родители живы. Где – уже не имело значения.
– Послушай, дружище, – уже спокойнее сказал унтер-офицер. – Ты должен взяться за дело правильно. Если начнешь метаться очертя голову, просто потеряешь время и сойдешь с ума. Надо действовать организованно. Что ты намерен сделать первым долгом?
– Пока не знаю. Думаю, надо попробовать разузнать что-нибудь у знакомых. Я нашел адрес людей, которых тоже разбомбило. С нашей улицы.
– Там много не узнаешь. Все боятся открыть рот. Я уже с этим сталкивался. Впрочем, попытка не пытка. Слушай-ка! Мы можем помочь друг другу. Там, где ты будешь наводить справки, спроси и про мою жену, а я буду спрашивать про твоих родителей, идет?
– Идет.
– Вот и хорошо. Моя фамилия Бёттхер. Имя жены – Альма. Запиши себе.
Гребер записал. Потом черкнул на бумажке имена своих родителей и отдал Бёттхеру. Тот внимательно прочитал и сунул бумажку в карман.
– Ты где живешь, Гребер?
– Нигде пока. Надо поискать, может, найду что-нибудь.
– В казарме есть жилье для разбомбленных отпускников. Сходи в комендатуру, получишь направление. Ты там уже был?
– Еще нет.
– Просись в комнату сорок восемь. Самое оно. Там и харчи получше, чем в других местах. Я тоже там. – Бёттхер достал из кармана окурок, осмотрел и снова спрятал. – Я нынче обойду больницы. А вечером можно где-нибудь встретиться. Вдруг один из нас уже сумеет что-нибудь выяснить.
– Ладно. Где?
– Лучше всего здесь. В девять?
– Согласен.
Бёттхер кивнул, потом взглянул на голубое небо.