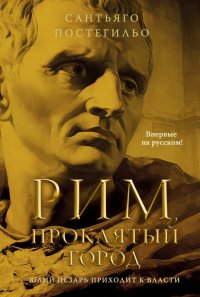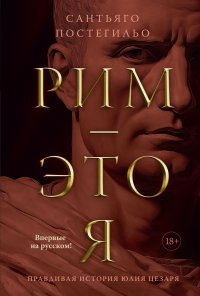
Читать онлайн Рим – это я. Правдивая история Юлия Цезаря бесплатно
- Все книги автора: Сантьяго Постегильо
Santiago Posteguillo
ROMA SOY YO
Copyright © Santiago Posteguillo, 2022
All rights reserved
Оформление обложки Егора Саламашенко
Карты выполнены Юлией Каташинской
© Н. М. Беленькая, перевод, 2024
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
Dramatis personae[1]
Юлий Цезарь (Гай Юлий Цезарь) – законник, военный трибун
Семья Юлия Цезаря
Аврелия – мать Юлия Цезаря
Корнелия – жена Юлия Цезаря
Котта (Аврелий Котта) – дядя Юлия Цезаря по матери
Юлия Старшая – сестра Юлия Цезаря
Юлия Младшая – сестра Юлия Цезаря
Юлий Цезарь-старший – отец
Марк Антоний Гнифон – наставник Юлия Цезаря
Вожди партии оптиматов и принадлежащие к ней сенаторы
Цицерон (Марк Туллий Цицерон) – законник, сенатор
Красс (Марк Лициний Красс) – молодой сенатор
Долабелла (Гней Корнелий Долабелла) – сенатор, наместник
Лукулл (Луций Лициний Лукулл) – проквестор на Востоке
Метелл (Квинт Цецилий Метелл Пий) – вождь оптиматов
Помпей (Гней Помпей) – судья, сенатор
Сулла (Луций Корнелий Сулла) – диктатор Рима
Терм (Квинт Минуций Терм) – пропретор на Лесбосе
Вожди партии популяров и принадлежащие к ней сенаторы
Цинна (Луций Корнелий Цинна) – вождь популяров, сенатор, консул, отец Корнелии
Фимбрия (Гай Флавий Фимбрия) – легат
Флакк (Валерий Флакк) – консул
Главция (Гай Сервилий Главция) – плебейский трибун, претор
Лабиен (Тит Лабиен) – друг Цезаря, военный трибун
Марий (Гай Марий) – вождь популяров, семикратный консул, дядя Юлия Цезаря по отцу
Сатурнин (Луций Апулей Сатурнин) – плебейский трибун
Серторий (Квинт Серторий) – народный вождь, доверенное лицо Гая Мария
Руф (Сульпиций Руф) – плебейский трибун
Граждане Македонии
Аэроп – отец Мирталы, знатный горожанин
Архелай – знатный юноша
Миртала – знатная девушка, дочь Аэропа
Орест – пожилой знатный македонянин
Пердикка – знатный юноша, жених Мирталы
Военные предводители с острова Лесбос
Анаксагор – сатрап Митилены
Питтак – второй по старшинству начальник на Митилене
Феофан – вождь митиленской знати
Другие персонажи
Ацилий Глабрион – зять Суллы
Анния – мать Корнелии
Гай Волькаций Тулл – центурион
Клавдий Марцелл – высокопоставленный римский военачальник
Корнелий Фагит – римский центурион
Эмилия – падчерица Суллы
Гортензий – законник
Марк – римский строитель
Метробий – актер
Митридат Четвертый – понтийский царь, заклятый враг Рима на Востоке
Муция – торговка пряностями и другими продуктами в Риме
Секст – капитан корабля
Сорекс – актер
Греческий врач
Валерия – жена Суллы
Вет – римский строитель
Тевтобод – вождь тевтонов
А также преторы, судебные служители, рабы, рабыни, управляющие, легионеры, римские военачальники, понтийские военачальники, служители при клепсидрах, безымянные римские граждане и так далее.
Principium[2]
Укачивая младенца, мать шептала ему на ухо:
– Помни о своем происхождении, об истоках, о роде Юлиев, о семье твоего отца. Я, твоя мать, принадлежу к древнему роду Аврелиев, чье имя связано с солнцем, но к моей крови примешалась кровь твоего отца. Другие знатные семьи разбогатели благодаря взяточничеству и насилию, но род твоего отца – самый благородный и самый особенный во всем Риме: богиня Венера возлегла с пастухом Анхисом, так появился Эней. Затем Энею пришлось бежать из Трои, подожженной греками. Он бежал из города с отцом, женой Креузой и сыном Асканием, которого мы, римляне, называем Юлием. Отец Энея, Анхис, и жена Креуза умерли во время долгого путешествия из далекой Азии в Италию. Здесь Юлий, сын Энея, основал город Альба Лонга. Спустя годы бог Марс овладел прекрасной принцессой Реей Сильвией из Альба Лонга, праматерью Юлия, у нее родились Ромул и Рем. Ромул основал Рим, с него все началось. Твоя семья напрямую связана с Юлием, от которого получил свое имя род Юлиев. Мир ожидает твоих первых шагов, в нем есть патриции, многие из них стали сенаторами, а некоторые, очень богатые, составили себе состояние в последние годы расцвета Рима и поэтому считают себя избранными, будто они отмечены богами. Они считают, что имеют право на все и стоят выше прочих граждан, римского народа, а также наших италийских союзников. Эти подлые сенаторы зовут себя оптиматами, лучшими из лучших, но, сын мой, только твое семейство происходит напрямую от Юлия, сына Энея, только ты кровь от крови Венеры и Марса. Только ты – особенный. Ты, мой малыш. Только ты. И я молю Венеру и Марса, чтобы они защищали тебя и оберегали как в мирное время, так и на войне. Ибо твоя жизнь будет связана с войнами, сын мой. Это твоя судьба. Будь же сильным, как Марс, и победоносным, как Венера. Помни всегда, сын мой: Рим – это ты.
Аврелия снова и снова нашептывала эту историю на ухо сыну, которому было всего несколько месяцев от роду, нашептывала ее, как молитву, слова проникали в сознание малыша и сопровождали его на протяжении многих лет. Слова Аврелии проникли в его душу и остались в памяти, словно высеченные на камне, навсегда определив судьбу Юлия Цезаря.
Prooemium[3]
Западное Средиземноморье
II и I вв. до н. э.
Рим безудержно разрастался.
После падения Карфагенской империи он стал господствовать в Западном Средиземноморье. Но этого было мало: верша судьбы Испании, Сицилии, Сардинии, различных областей Северной Африки и всей Италии, он жадно поглядывал в сторону севера, на Цизальпийскую Галлию, и в сторону востока, на Грецию и Македонию.
Благодаря этому гигантскому росту казна римского государства пополнялась, но распределение богатства и новоприобретенных земель было неравномерным: несколько аристократических семейств, сплотившихся вокруг Сената, из года в год прибирали себе землю и деньги, в то время как подавляющее большинство римлян и крестьян из соседних городов не участвовали в этом грандиозном празднестве богатства и власти: угодья оставались в руках горстки крупных землевладельцев-сенаторов, золото, серебро и рабы доставались одним и тем же патрицианским родам.
Такое неравенство породило внутренние раздоры: народное собрание во главе с его вождями, плебейскими трибунами, выступило против Сената, требуя справедливого распределения власти и богатств. Появились отважные люди, требовавшие изменения законов и передела земель. Одним из них был Тиберий Семпроний Гракх. Сын Корнелии и, следовательно, внук Сципиона Африканского, он был избран плебейским трибуном и продвигал закон о разделе земли в 133 г. до н. э., но Сенат послал десятки наемных убийц, те устроили засаду перед Капитолием и средь бела дня забили его насмерть дубинами и камнями. Тело сбросили в Тибр без погребения. Его брат, Гай Семпроний Гракх, также избранный трибуном, попытался возобновить реформы, начатые Тиберием за двенадцать лет до того. Именно тогда Сенат впервые обнародовал чрезвычайное постановление – senatus consultum ultimum, которое наделяло двух носителей верховной власти, римских консулов, правом арестовать и казнить Гая Гракха, а также любых других трибунов, которые станут выступать за перераспределение земель. В 121 г. до н. э., окруженный наемными убийцами, которых послали консулы и Сенат, Гай Гракх приказал рабу убить его, не желая попасть в руки врагов.
Сторонники преобразований сгруппировались вокруг партии так называемых популяров, отстаивавших реформы злополучного Гракха. Сенаторы, настроенные более консервативно, создали партию оптиматов, то есть «лучших», поскольку действительно считали себя лучше других. Население Рима открыто разделилось на две непримиримые стороны. К этим двум несогласным сторонам добавилась третья – жители италийских городов, союзников Рима: решения, влиявшие на их будущее, принимались римскими сенаторами или гражданами без их ведома. Эта третья группа требовала римского гражданства, а вместе с ним и права голоса, чтобы принимать участие в решениях, которые непосредственно касались их.
Народное собрание избирало новых трибунов, которые снова пытались провести в жизнь реформы, начатые Гракхами много лет назад. Но все они погибали от рук вооруженных убийц, нанятых сенаторами. Рим разделился на три части: популяры, оптиматы и союзники. Но однажды появился молодой римлянин, патриций, неравнодушный к нуждам популяров и союзников и обративший внимание на четвертую группу, которую прежде никто не замечал: провинциалы, жители присоединенных Римом стран, от Испании до Греции и Македонии, от Альп до Африки.
Этот юноша полагал, что существующее положение вещей должно измениться раз и навсегда, но ему едва исполнилось двадцать три года, и он был одинок. Мало кто обращал на него внимание до суда, состоявшегося в 77 г. до н. э., когда он, несмотря на молодость, согласился выступить в качестве обвинителя.
Подсудимым, обвинявшимся в том, что он брал взятки, будучи наместником Македонии, был всемогущий сенатор Гней Корнелий Долабелла, правая рука вождя сенаторов-оптиматов Луция Корнелия Суллы.
Судьями были сенаторы, в соответствии с законами Суллы, которые предоставляли Сенату судебные полномочия; они склонялись к оправданию Долабеллы, нанявшего, помимо прочего, двух лучших защитников: Гортензия и Аврелия Котту. Вот почему с самого начала никто не соглашался быть обвинителем по этому заведомо проигрышному делу. Только безумец или невежда согласился бы выступить с обвинением в подобных обстоятельствах.
Долабелла рассмеялся, услышав имя обвинителя. Он, как и прежде, безмятежно веселился на вечеринках и пирах, предаваясь разгулу и ожидая суда, который считал заранее выигранным.
Молодого, неопытного обвинителя звали Гай Юлий Цезарь.
Суд I
Petitio
Свободный человек подавал законнику прошение, чтобы тот стал его защитником либо обвинителем в римском суде. Если податель не был римлянином, он должен был найти римского гражданина, согласного стать его защитником, особенно если хотел привлечь к ответственности другого римского гражданина.
I
Решение Цезаря
Domus Юлиев, квартал Субура
Рим, 77 г. до н. э.
– Все, кто пытался сделать то же самое, мертвы. Тебя ждет беда. Ты не должен, не можешь принять то, что тебе предлагают. Это самоубийство. – Тит Лабиен говорил возбужденно и страстно: так вещают, пытаясь убедить друга не совершать роковую ошибку. – Мир не изменишь, Гай, и суд исходит именно из этого. Должен ли я напомнить имена всех, кто погиб, пытаясь добиться перемен и противостоять сенаторам? Они от века всем заправляли, так будет и дальше. Нельзя ничего изменить. Можно присоединиться к тем, кто распоряжается, или, напротив, держаться от них подальше, но никогда, слышишь, Гай, никогда не связывайся с сенаторами-оптиматами. Это тебя убьет. И ты это знаешь.
Цезарь внимательно слушал лучшего, самого старого друга. Он знал, что Лабиен говорит искренне. Впрочем, именно в эту минуту тот ничего не говорил.
Девятнадцатилетняя Корнелия, юная жена Цезаря, стояла в центре атриума. Цезарь расхаживал вокруг нее, обдумывая слова Лабиена и напряженно размышляя, какой ответ дать македонянам, явившимся просить о помощи.
Молчание Цезаря беспокоило Лабиена. Он начинал опасаться, что его слова недостаточно сильны, что он не сможет убедить друга. Видя, как он ходит вокруг Корнелии – очередное подтверждение того, как много значила для Цезаря жена, – Лабиен решил сделать своим орудием любовь, о которой всем было известно, и заговорил с ней:
– Корнелия, клянусь Геркулесом, ты же любишь мужа. Скажи ему, чтобы ради тебя, ради матери, ради семьи он отказался от этого безумия. Долабелла неприкосновенен. Гай чуть не погиб, замахнувшись на Суллу, но, если он выступит в суде против его правой руки, считай, что он мертв. Ради всех богов, скажи что-нибудь!
Корнелия моргала, слушая его.
Послышался плач. В атриум примчалась пятилетняя малышка Юлия, дочь Цезаря и Корнелии. За ней по пятам бежала рабыня.
– Простите, госпожа, простите, – извинялась она. – За девочкой не угонишься.
– Мама, мама! – закричала малышка и вцепилась в колени матери.
Появление Юлии избавило Корнелию от необходимости отвечать на вопрос.
– Сейчас вернусь, – сказала Корнелия, беря дочь за руку и уводя прочь. Цезарь мрачно кивнул, глядя на жену.
– Папа, – сказала девочка, проходя мимо.
Гай Юлий Цезарь улыбнулся.
Корнелия потянула дочку за собой и исчезла вместе с рабыней в дальнем конце атриума.
Теперь Лабиен должен был в одиночку убеждать друга выбросить из головы опасную затею, но он и не думал сдаваться. Он продолжал говорить, не обращая внимания на стоявших в уголке представителей Македонии, римской провинции, которые желали нанять Юлия Цезаря в качестве защитника. Пердикка, Архелай и Аэроп. Слова Тита Лабиена смущали их, но они не осмеливались вмешиваться в спор римских граждан.
– Слушай меня внимательно, Гай, – продолжал Лабиен, несмотря на враждебные взгляды македонян, – если ты согласишься, тебя сначала разгромят на суде, а затем прирежут на темной улице или прямо на Форуме, средь бела дня. Такое уже случалось. После смерти твоего дяди Мария и полной победы Суллы сенаторы-оптиматы вконец осмелели. Сейчас они сильнее, чем когда-либо прежде. Слушай меня внимательно: даже если суд вынесет решение в твою пользу, ты столкнешься с Коттой, собственным дядей, братом твоей матери, которого Долабелла нанял для защиты. Тебе это надо? Зачем твоей бедной матери выбирать между братом и сыном?
При этих словах Юлий Цезарь слегка поднял руку, как бы умоляя друга замолчать, опустил взгляд и уставился на потрескавшуюся мозаику пола.
Они принадлежали к патрициям, родовой аристократии, но после падения другого дяди Цезаря, великого Гая Мария, денег у них было куда меньше, чем хотелось бы. Сулла отнял у Юлиев, вождей и сторонников популяров, много всякого имущества. Не было средств даже на то, чтобы починить несчастную попорченную мозаику. Но юного Цезаря беспокоило другое.
– Главное – не это, – сказал он наконец.
Снова появилась Корнелия и тихо, незаметно заняла свое место в центре атриума, рядом с мужем. За малышкой снова присматривали рабыни. Юлия капризничала: она болела, но вроде бы шла на поправку. Корнелия знала, что малышка улавливает напряжение в доме и это сказывается на ее здоровье. Говорят, дети чувствуют, когда беда близка. Правда ли это? Размышления супруги Цезаря были прерваны спокойным, твердым голосом ее мужа.
– С Юлией все в порядке?
– Кажется, ей лучше. Лихорадки уже нет. Не волнуйся за нее, – быстро и четко ответила Корнелия, всегда готовая поддержать его. Не время беспокоить мужа без надобности. На кону стояли более важные дела, нежели капризы маленькой девочки.
– А что же? – Лабиен возобновил беседу с того места, где они остановились: он сказал так много всего, убеждая друга не участвовать в суде против Долабеллы, что запутался и не знал, о чем говорит Цезарь.
– Моя мать, Аврелия. – Юлий произнес ее имя громко и отчетливо: каждая буква в его устах подчеркивала огромную власть, которую мать по-прежнему имела над ним. – Как, по ее мнению, лучше поступить: стать обвинителем на суде, где мой дядя Котта выступает защитником, что, по твоему верному замечанию, чревато раздором в семье, или, напротив, не соглашаться, не вмешиваться в эти дела, даже если кровь закипает у меня в жилах? Долабелла был одним из презренных приспешников Суллы. Если хотя бы половина из того, что они говорят, правда, – добавил он, кивнув в сторону македонян, – он совершил ужасные преступления, тем более отвратительные, что сенатор должен подавать пример своим поведением, и обязан заплатить высокую цену. Долабелла – один из наших врагов. Можно ли упустить его сейчас и не предать публичному суду за все то зло, которое он нам причинил, поддержав отъем нашего имущества Суллой и присвоив себе его часть?
– У тебя не хватит сил, чтобы противостоять таким опытным защитникам, как твой дядя Котта или Гортензий, а заодно судьям, которые наверняка получат взятку, – здраво возразил Лабиен.
Подкуп судей считался в Риме обычным делом, особенно если обвиняемый был могущественным и богатым сенатором. Взяточничество в особенности расцвело после судебной реформы Суллы: отныне суды, рассматривавшие дела сенаторов, также состояли из сенаторов. Будучи консулом, Долабелла получил триумф за разгром фракийцев и сколотил огромное состояние, воспользовавшись проскрипциями диктатора Суллы. Судя по рассказам стоявших в атриуме македонян, он еще больше увеличил это состояние, и без того огромное, растратив государственные средства и вынудив жителей этой богатой провинции платить назначенную им самим дань. Деньги всегда побеждали в римских судах. Долабелла был слишком богатым сенатором, чтобы другие patres conscripti осмеливались его осудить. Размах злодеяний не имел значения. И никого не волновало то обстоятельство, что помимо кражи денег он совершал и другие преступления.
– Корнелия, ради всех богов, ради всего, что ты любишь, не дай мужу совершить это безумие, – взмолился Лабиен, глядя на Корнелию.
Наступила тишина.
Девочка больше не вбегала в атриум, и теперь ничто не могло помешать Корнелии высказаться. Лабиен знал, что, несмотря на молодость жены, ее суждение было важно для Цезаря.
Она опустила взгляд и стала рассматривать шрам на левой икре Лабиена, навсегда связавший его с Цезарем, которому он был бесконечно верен. Корнелия не любила спорить с Лабиеном, но мнение мужа было превыше всего.
– Любое решение мужа… – начала она, – любое решение мужа будет правильным. Я его поддержу. Как и он, – она посмотрела ему в глаза, – как и он всегда поддерживал меня.
Оба знали, что Корнелия имела в виду недавнее прошлое, когда любовь Цезаря подверглась суровому испытанию и ему пришлось показать, из какого теста он слеплен.
– Как ты решишь, так и будет, – повторила Корнелия и уставилась в пол. Больше она не добавила ни слова.
Цезарь был благодарен жене за то, что она не стала усложнять ему задачу. Его любовь к ней была столь велика, что при желании Корнелия могла бы склонить его в ту или иную сторону. Теперь же она дала ему свободу действий. После истории с Суллой она не нуждалась в доказательствах его любви.
В то же время слова друга звучали крайне разумно: согласие выполнить просьбу македонян было бы самоубийственным, к тому же вело к раздорам в семье. Цезарь вздохнул.
– Давай позовем Аврелию, – сказал Лабиен, довольный, что друг хотя бы задумался.
– Нет! – возразил Цезарь.
Лабиен остановился.
– Уверен, мать ждет от меня самостоятельного решения, – объяснил Цезарь. – Как и Корнелия. Моя мать… всю жизнь учила меня независимости, как бы я ни ценил ее саму и советы, которые она дает. Она хотела, чтобы я принимал важные решения в одиночку, пусть так будет и в этот раз.
Лабиен покачал головой. Зная обычаи и нрав членов семьи Цезаря, он понимал, что именно так ответила бы почтенная Аврелия, если бы ей задали вопрос. Корнелия не раз говорила: Цезарь должен решать сам. Казалось, матрона сознательно воспитывала в сыне прирожденного вождя, человека, который не остановится ни перед чем и ни перед кем. А молодая жена приняла эту особенность за его глубинное, неотъемлемое свойство. Но по мнению Лабиена, это могло привести к несчастью…
Юлий Цезарь посмотрел на македонян:
– Почему я?
Представители восточной провинции переглянулись. Аэроп, который был старше остальных, ответил:
– Мы знаем, что молодой Юлий Цезарь замахнулся на ужасного диктатора Суллу, когда многие безропотно подчинялись его прихотям, а заодно и на Долабеллу, которого мы обвиняем в краже денег наших соотечественников и прочих, еще более отвратительных злодеяниях… – Он сглотнул слюну и заговорил о своей дочери Миртале. – Бесчестье… вот что я имею в виду. Долабелла дружил с грозным Суллой. Я слышал, что во время войны и истребления противников диктатора в Риме он был его правой рукой. Только тот, кто в прошлом не испугался Суллы, сможет противостоять Долабелле с его деньгами, хитростью и жестокостью. Вот почему мы пришли умолять юного Юлия Цезаря, чтобы он, и никто другой, согласился быть нашим защитником, нашим обвинителем. По законам Рима только римский гражданин может привлечь к суду другого римского гражданина. Вряд ли мы найдем много римских граждан, которые осмелятся противостоять такому страшному человеку, как бывший наместник и консул Гней Корнелий Долабелла и…
– Признаюсь, Гай, – перебил Лабиен македонского посланца, – этот человек в чем-то прав, что меня и пугает: Долабелла действительно жесток и опасен, у него много денег, и он, не колеблясь, воспользуется ими, подкупив судей или заплатив наемным убийцам, которые прикончат тебя, если дело решится не в его пользу. Да, ты не убоялся Суллы, и это чуть не стоило тебе жизни. Богиня Фортуна покровительствовала тебе, но не стоит вновь проверять, спасут тебя боги и на сей раз или оставят. Я знаю, ты веришь, что тебя защищают Венера и Марс, но, умоляю, не испытывай их опять.
Гай Юлий Цезарь сделал глубокий вдох, несколько раз кивнул и посмотрел вначале на Лабиена, затем на македонян.
Он задержал дыхание.
Опустил взгляд.
Упер руки в бока.
Снова кивнул, глядя в пол.
Поднял глаза и устремил взгляд на македонян:
– Я согласен быть вашим защитником. Я буду обвинителем в суде.
Лабиен тяжело вздохнул.
Корнелия закрыла глаза и молча взмолилась, чтобы боги встали на защиту ее мужа.
Македоняне поклонились в знак признательности, вежливо попрощались, положив на стол тяжелый мешочек с монетами – первый взнос за услуги защитника, – и вышли, оставив в атриуме двух друзей и молодую женщину. Нет, они не спешили, просто боялись, что Юлий Цезарь еще раз хорошенько все обдумает и пересмотрит свое решение. Они предпочли поскорее убраться, имея обещание римского гражданина выступить их обвинителем против всемогущего Долабеллы. Как и жители великого города на Тибре, они по-прежнему были убеждены, что суд проигран, но, по крайней мере, хотели попытаться отомстить. На случай провала имелся еще один план: Долабелла должен был поплатиться жизнью за все, что сделал с ними. Неизвестным оставалось лишь то, скольких людей бывший консул утащит с собой в Аид – возможно, их всех, включая молодого обвинителя, который согласился за них вступиться. Но македонян это не пугало. Они шли на смерть. По своей наивности они плохо оценивали могущество противника.
В атриуме дома Юлиев, располагавшегося в сердце Субуры, стоял мрачный как туча Лабиен, погруженный в глубочайшее уныние.
Юлий Цезарь молча смотрел в пол. Он принял решение, но по-прежнему размышлял о том, что скажет мать – единственное, что беспокоило его в эту минуту. Он вспоминал ее рассказы о событиях далекого прошлого, когда ему было несколько месяцев от роду. Не повторится ли все сейчас, не станет ли он жертвой вечной распри между оптиматами и популярами? Не закончит ли он так же, как остальные?
Цезарь почувствовал, как мягкие руки жены касаются его спины.
Закрыл глаза и позволил себя обнять.
Именно сейчас ему, как никогда, была нужна ее нежность.
Memoria prima[4]
Аврелия
Мать Цезаря
II
Senatus consultum ultimum
Domus Юлиев, Рим,
99 г. до н. э., за двадцать два года до суда над Долабеллой
Это были дни выборов, а потому в городе бушевало насилие.
Жестокость, смерть и безумие вырывались на волю с приближением дней избрания тех, кому предстояло исполнять самые ответственные в Республике должности: консулов, плебейских трибунов и преторов.
Аврелия держала на руках маленького Гая Юлия Цезаря, которому было всего несколько месяцев. Весь вечер мальчик мирно спал, но из-за криков, доносившихся из атриума, проснулся и заплакал. Это привело Аврелию в ярость. Малыш засыпал с большим трудом. Он отличался беспокойным нравом, и молодая матрона была уверена, что, пока он спит, в доме должны царить спокойствие и тишина. И когда ей наконец удавалось уложить малыша, она злилась, если его будили чужие голоса. Аврелия знала о выборах и о политической напряженности в Риме, но главным для нее в то время был сон ее крошечного сына.
– Возьми его, – приказала Аврелия, осторожно передавая малыша кормилице. – Постарайся его успокоить, а я заставлю этих дикарей замолчать или, по крайней мере, говорить потише.
Аврелия решительно зашагала по коридорам дома, где жила с тех пор, как несколько лет назад вышла замуж за Гая Юлия Цезаря-старшего. Разгневанная, она уже собиралась ворваться в атриум, взывая к богам, и наброситься на мужа и его друзей, требуя вести себя тише, как вдруг отчетливо различила голос зятя Гая Мария.
Она мигом остановилась.
Марий шесть раз становился консулом, причем пять из них – без перерыва, хотя законы этого не поощряли, и Аврелию поразило, что впервые за время их знакомства в голосе Мария слышался… страх. Если даже шестикратный консул, который выходил победителем в десятках сражений с варварами, нападавшими на Рим, чего-то испугался, значит случилось нечто серьезное.
Замерев в конце коридора у входа в атриум, она напрягала слух.
– Сатурнин и Главция сошли с ума, – говорил старый консул.
Аврелия стиснула зубы. Сатурнин и Главция были тогдашними плебейскими трибунами. Она молча покачала головой. Значит, трибуны взбунтовались… Это всегда заканчивалось смертельными стычками с Сенатом, восстаниями, беспорядками и кровью на улицах Рима.
Она сделала глубокий вдох и вошла в атриум.
Аврелия не поздоровалась, хотя это было ее обязанностью. Именно так, не взывая к богам и не повышая голоса, она всегда показывала свой гнев. На самом деле ей было нужно одно: чтобы собравшиеся говорили тише.
– Почему ты утверждаешь, что Сатурнин и Главция сошли с ума? – прямо спросила она Мария, становясь рядом с мужем и коснувшись его руки в знак приветствия. – Своими криками вы разбудили ребенка. Надеюсь, сон моего сына был прерван из-за серьезной причины, а не из-за очередного вашего спора о государственных делах.
– Это не просто спор, Аврелия.
Марий посмотрел на женщину с неодобрением, заметив, что она не поздоровалась с собравшимися.
– Гай Марий знает, что у нас всегда рады ему, – внезапно сказала она в ответ на пристальный взгляд мужа, – и я уверена, что ему, как истинному военному, нравится, что я сразу перешла к делу. Не так ли, достойнейший муж и консул Рима? – спросила она с легкой улыбкой, адресованной свойственнику.
Марий действительно считал, что лучше говорить сразу и начистоту. Ему, победившему Югурту в Африке, кимвров и тевтонов – на севере, нравилась женщина, на которой женился его родственник. Аврелия была привлекательна, умна, и он был уверен, что из нее получился бы отличный полководец, не будь она женщиной.
– Незачем беспокоиться из-за поведения жены, Гай. Мы все хорошо знаем друг друга, – приветливо сказал консул и пристально посмотрел на Аврелию. – Но этот спор не похож на другие: Сатурнин и Главция заплатили наемникам за убийство Мемия, второго кандидата в консулы от оптиматов.
– Использовали насилие против насилия, – возразила Аврелия, устраиваясь в триклинии и знаком предлагая Марию и мужу последовать ее примеру.
Увидев, что оба подчинились, она повернулась к атриенсию, давая понять, что желает поднести гостю еду и вино. Аврелия желала продолжить занимательный разговор и, кроме того, была убеждена, что отдых, еда и напитки поднимут мужчинам настроение; голоса их станут тише, и малыш Цезарь наконец сможет уснуть.
– Насилие против насилия, но в таких делах Сенат всегда сильнее, – пробормотал Гай Марий.
– Пусть Сатурнин и Главция беспокоятся о том, что на их совести лежит убийство Мемия, не так ли? – сказала Аврелия и протянула Марию кубок, спешно поданный рабом. Она была милостива к расторопным слугам, но могла выплеснуть свою ярость, приказав атриенсию жестоко отхлестать раба, который не выполнял свои обязанности с должным усердием.
Марий сделал глоток вина и глубоко вздохнул. Нужно было о многом рассказать, а времени было мало: судьбоносное решение следовало принять незамедлительно. Ему нравилось общаться с Гаем Юлием Цезарем-старшим. Тот был сдержанным, скромным человеком, что было редкостью в Риме, готовым выслушать и дать дельный совет. Присутствие Аврелии, жены Гая, давало ощущение домашнего уюта. В эти времена предательства в государственных делах стали обыденностью, и пребывание в доме, где можно было спокойно поговорить, получить внимание и поддержку, было подобно живительному бальзаму. Марий очень ценил это. Он поставил кубок на стол, увидел вопрос на лице Аврелии и вкратце рассказал о происходящем в Риме, чтобы она могла поддержать беседу:
– Вернувшись с севера после победы над кимврами и тевтонами, я столкнулся с полным нежеланием признавать мои заслуги, а также с препонами в Сенате. Мои победы на севере и предшествовавший им триумф в Африке испугали сенаторов, и оптиматы, которые распоряжаются в Сенате, попытались лишить меня сторонников. Тогда я, как вы уже знаете, вступил в союз с популярами Сатурнином и Главцией, тоже преследуемыми Сенатом. Мы заключили договор, согласно которому условились занять главнейшие должности в Республике. Главция был избран претором, Сатурнин – плебейским трибуном, а я – консулом, уже в шестой раз. Сатурнин и Главция поддержали меня, приняв аграрный закон, позволявший моим ветеранам, сражавшимся в Африке и на севере, получать земельные участки к северу от реки Падус[5] и в Африке. Это вызвало недовольство не только в Сенате, но и в союзных италийских городах: союзники считают, что земли к северу от Падуса принадлежат им, поскольку они занимали их до появления кимвров и тевтонов. Сатурнин, Главция и я совместными усилиями успокоили италийцев, разрешив им заселять новые колонии в Сицилии и Македонии, но тогда встревожились римские граждане, которые полагали, что стать обитателем этих колоний нельзя, не имея гражданства. Чтобы успокоить плебс, мы втроем, Главция, Сатурнин и я, решили продавать пшеницу по сниженной цене всем римским гражданам, а это, так же как распределение земель и вопрос о поселении в колониях, крайне беспокоит сенаторов. Мои ветераны, с таким мужеством и упорством защищавшие Рим от варваров, отныне довольны, плебс спокоен, союзники-италийцы ублажены. Мы достигли сложного равновесия, в выигрыше оказались все.
– Все, кроме сенаторов-оптиматов, – рассудительно заметила Аврелия.
Марий улыбнулся: как быстро невестка научилась разбираться в тонкостях римской политики!
– Все, кроме оптиматов, – подтвердил консул. – Оптиматы видят в этом перераспределение богатства и влияния, идет ли речь о земле, хлебе или правах. Но поскольку за нами стоят простолюдины и италийцы, они не решаются снова напасть, как в прошлом, когда Сенат призывал умертвить Гракхов вскоре после побед Сципиона Африканского. Однако Сатурнин и Главция по ошибке приняли сдержанность сенаторов за слабость и теперь, когда грядут консульские выборы, приказали устранить Мемия…
– Кандидата от оптиматов, – напомнила Аврелия.
– Кандидата от оптиматов, – кивнул Гай Марий. – Столкнувшись с силой, Сенат решил действовать, и теперь весь город полон наемных убийц, но сверх того, они издали senatus consultum ultimum.
Наступила тишина. Гай Юлий Цезарь-старший погрузился в раздумья, так и не сделав ни глотка. Гай Марий воспользовался паузой и взял кусочек сыра. Он не знал, сможет что-нибудь съесть в ближайшие несколько часов или нет, а опыт подсказывал, что вступать в бой лучше на сытое брюхо.
– Разве когда Сенат велел казнить Гая Гракха, одного из первых плебейских трибунов, выступивших против сенаторов, не был принят senatus consultum ultimum? – спросила Аврелия.
– Был, – ответил Гай Юлий Цезарь-старший.
Марий жевал сыр, и Цезарь-старший, знавший больше, чем его жена, отлично понимал, почему он так делает.
– Значит, – продолжала Аврелия, – новый указ принят… чтобы покончить с Главцией и Сатурнином?
– Именно так, – повторил Цезарь-старший.
Марий не прерывал трапезу.
– Но, издав senatus consultum ultimum, Сенат обычно поручает кому-нибудь его исполнение, разве не так? – задала она следующий вопрос.
– Верно, – подтвердил ее муж.
– Кого же Сенат назначил исполнителем? – спросила Аврелия.
На этот раз Цезарь-старший не ответил и лишь покосился на свойственника.
Перестав жевать, Гай Марий быстро проглотил сыр и хлеб.
– Меня, как римского консула, – подтвердил он.
– Они стремятся вас разъединить, – чуть слышно, но отчетливо произнесла Аврелия в теперь уже притихшем атриуме. – А ведь они были твоими союзниками.
– Были, – согласился Марий, – но когда решили убить Мемия, то не посоветовались со мной.
– Понятно, – кивнула она. Разумеется, столь важное решение следовало обсудить со всеми. – Они не спросили твоего мнения относительно Мемия, потому что ты, скорее всего, был бы против.
– Совершенно верно, – ответил Марий. – Помимо нравственной ответственности за подстрекательство к убийству это еще и роковая ошибка: Сатурнин и Главция полагают, что мы побороли сенаторов, а те просто тянут время, прикидывая, как и когда нанести ответный удар, чтобы снова заполучить власть, сделать трибунами своих людей и тем самым не допустить распределения земель, богатства или прав. Это позволит полностью лишить меня сторонников, а потом нанести мне окончательный удар. Удар в образном смысле или же действительный. Сенатские наемники рыщут по всему Риму. Я все еще могу передвигаться по городу – со мной мои ветераны, и к тому же сенаторы велели не трогать меня до тех пор, пока не выяснится, на чьей я стороне: останусь ли я с Сатурнином и Главцией и буду их защищать или перейду на сторону оптиматов и стану претворять в жизнь senatus consultum ultimum. Поэтому я здесь, ведь мое решение повлияет на всю семью, а с тех пор как я женился на Юлии, вы тоже входите в нее. Если я не послушаюсь сенаторов, наемные убийцы придут за мной и, возможно, за моими родственниками и друзьями… А у меня не хватит людей, чтобы защитить вас всех.
Наступила новая, очень напряженная тишина.
– Это Сулла. – Марий возобновил разговор, но смотрел в пол, будто говорил сам с собой. – Он строит козни, и очень умело. Я не думал, что он отважится на такое, но теперь ясно вижу: он хочет стать вождем оптиматов и пытается выслужиться перед Метеллом и его единомышленниками, которые всегда ищут новых сенаторов, достаточно деятельных, чтобы противостоять мне.
– Но разве Сулла не сражался вместе с тобой, – вмешалась Аврелия, – в Африке, будучи квестором, а затем под твоим началом против северных варваров, если я не ошибаюсь?
Марий посмотрел на нее:
– Да, верно. Ты все отлично помнишь. Он был хорошим воином, очень хитрым, но затем попытался присвоить все заслуги себе. Это возмутило многих преданных мне людей, да и меня самого. Вот почему я отказал ему в поддержке, когда он решил избираться в преторы, и вместо него стал помогать Главции, в то время как сам стал консулом, а Сатурнин – трибуном плебеев. С тех пор Сулла любыми способами мутит воду в Сенате, чтобы навредить мне. Но я не думал, что он сумеет добиться senatus consultum ultimum. Он очень расчетлив.
– Действия Сатурнина и Главции пробудили дремавшую в нем жестокость, – заметила Аврелия. – Этим гибельным указом он отвечает на убийство оптимата Мемия.
– Безусловно. – Марий снова опустил взгляд и добавил, будто бы про себя: – Но есть еще кое-что… – Он помолчал, приводя в порядок мысли; то же самое сделали и хозяева. – Во имя Юпитера! – вскрикнул наконец консул. – Юноша по имени Долабелла. Теперь я вижу это ясно.
– Долабелла? – переспросили одновременно Аврелия и ее муж. Это имя ничего им не говорило.
– Неудивительно, что вы его не знаете, – пояснил Марий. – Гней Корнелий Долабелла не совершил ничего, достойного внимания. Его отец – да, а он – пока нет. У него непримечательный cursus honorum: он ничем не выделялся, не занимал важных должностей, зато успешно действует в Сенате, и я частенько видел его рядом с Суллой: он нашептывал что-то ему на ухо или подбадривал перед выступлениями в курии. Долабелла подпитывает самолюбие Суллы, подталкивая его к шагу, который тот не решался сделать самостоятельно, чтобы стать вождем оптиматов. В последние несколько лет самыми влиятельными среди них были Метеллы, но они выдохлись, к тому же многие видят, что они не способны мне противостоять. Сулла издал senatus consultum ultimum, направленный против Сатурнина и Главции, чтобы поставить меня в сложное положение, в котором я пребываю доныне. Такова его месть. Я знал, что рано или поздно мне придется иметь с ним дело, но не думал, что это произойдет так скоро.
Марий снова умолк. Гай Юлий Цезарь-старший тоже ничего не говорил. Он не знал, какой совет дать ему.
– Итак… ты принял решение? – спросила Аврелия, но тут же исправилась и превратила вопрос в утверждение: – Ты принял решение, поэтому ты здесь. Ты пришел нас предупредить.
– Верно, – подтвердил Марий. – Я собираюсь задержать Сатурнина и Главцию: senatus consultum ultimum и тяжесть их преступления, убийства кандидата в консулы, не оставляют мне выбора. Но я не собираюсь предавать их смерти. Я задержу их, приставлю к ним своих ветеранов и договорюсь о суде. Пока не знаю, как все обернется. Наступают смутные времена, и вы должны позаботиться о себе. Пока это в моих силах, я буду делать все, чтобы мои ветераны несли стражу на вашей улице.
Он встал.
– Спасибо, Марий, – сказал Гай Юлий Цезарь-старший. – Спасибо за то, что подумал о нас.
– Будьте осторожны, – обратился консул к хозяевам, направляясь к двери. – Мне предстоит сражение с Суллой. В какой-то мере это мой долг, ведь именно под моим руководством он обрел популярность. Теперь мне предстоит обуздать его безудержные притязания, но Долабелла, который его подстрекает и поощряет… Он моложе, принадлежит к другому поколению. Кто сможет противостоять ему, когда ни Суллы, ни меня не будет в живых?
В это мгновение послышался плач.
– Твой племянник, – сказала Аврелия, – Гай Юлий Цезарь. Пойду к нему.
Марий лишь улыбнулся. В эту секунду все были заняты другим и не увидели в этом небольшом совпадении ничего особенного.
III
Народный трибун
Капитолийский холм, Рим
99 г. до н. э., в тот же вечер
– Предатель! – взвыл Луций Апулей Сатурнин, окруженный африканскими ветеранами, которых консул привел для исполнения senatus consultum ultimum.
Марий мог обратиться к triumviri nocturni, ночным стражникам, которые поддерживали порядок ночью и были обязаны подчиняться ему как консулу, исполняющему сенатский указ, но в эти зыбкие, переменчивые времена он доверял только своим ветеранам. К тому же его люди лучше знали особенности коварной римской ночи, чем ночные стражи.
Солдаты Мария, закаленные в десятках сражений с нумидийцами, кимврами, тевтонами и другими жестокими и воинственными племенами, быстро сломили сопротивление наемников Сатурнина, расположившихся на улицах, что вели к храму Юпитера: там укрылся плебейский трибун. Наемники ловко забивали до смерти безоружных людей на темных улицах – например сенатора Мемия, – но мало чего стоили при столкновении с бывшими легионерами, привыкшими к жестоким сражениям.
– Я не предатель, Луций, я всего лишь уцелевший, и, клянусь Кастором и Поллуксом, я не безумец, как ты и Главция, – повторял Гай Марий, беря его за руку, чтобы вывести из храма Юпитера и арестовать.
– Я передал тебе земли, которые ты присмотрел для своих ветеранов, тех самых, которые вьются вокруг тебя, подобно хищным псам. И вот как ты отплатил мне за это?
– Я помог тебе стать трибуном, а Главции – претором, – возразил Марий, убыстряя шаг. – Мы извлекли, все трое, выгоду из нашего союза, но убийство сенатора, кандидата в консулы от оптиматов, недопустимо. Одно дело – отобрать у сенаторов земли, расширить права италийцев или оплачивать из казны хлеб для всех римских граждан, другое – вступать в смертельную схватку с сенаторами. Это неразумно и не входило в наши планы.
– Ты – один из них, – презрительно бросил ему Сатурнин.
Гай Марий привык к оскорблениям тех и других. Лавируя между Сциллой и Харибдой – популярами и оптиматами, – он выслушивал обвинения от обеих партий, утверждавших, что он, и только он – источник всех бед Рима. Он тысячу раз предпочел бы поле битвы, будь то пустыни Африки или северные леса, нежели беспощадные уличные бои, кровавые схватки в столице, когда люди в разгар противостояния теряли голову: он, больше солдат, нежели политик, никак не мог привыкнуть к этому.
Они покинули Капитолийский холм и начали спускаться к Форуму, оставив позади себя трупы наемников плебейского трибуна, убитых ветеранами Мария. Оказавшись на Форуме, оба – арестованный Сатурнин и Марий, его страж, – почувствовали на себе взгляды еще нескольких десятков наемных убийц, на сей раз сенаторских: те следили за ними из темных углов ночного Рима, едва освещенных горящими факелами и более опасных, чем враждебный германский лес.
– Ты не понимаешь, – чуть слышно обратился Марий к трибуну, не замедляя шага. – Либо я задержу тебя сам, либо они пришлют кого-нибудь другого, куда менее снисходительного к тебе. Со мной тебя ждет справедливый суд. Без меня ты бы уже погиб от рук мерзавцев, которые наблюдают за нами со всех сторон.
– Справедливый суд? В Риме? – отозвался Сатурнин с насмешкой и удивлением одновременно.
– Да, клянусь Геркулесом, – согласился Марий. – Такое действительно случается редко, но пока идет подготовка к суду, мы получаем драгоценное время для того, чтобы договориться.
Сатурнин покачал головой:
– Даже если ты правда хочешь мне помочь, договориться с Сенатом невозможно. Один лишь ты, невежда в политике, не понимаешь этого. Сенат смиряется с поражениями – закон о землях, колонии для италийцев, раздача хлеба – или нападает. Золотой середины нет. На этот раз он решил напасть. Я ошибался, думая, что сенаторы чувствуют себя слабее, чем на самом деле. Так или иначе, славнейший муж, оптиматы не ведут и никогда не будут вести переговоров. Либо они уничтожены, либо сами уничтожают своих противников, так повелось со времен Гракхов. Но будешь ли ты чувствовать себя в безопасности, если задержишь меня по их приказу? Сначала они прикончат меня, потом Главцию и, в конце концов, придут за тобой. Они хотят, чтобы в Сенате заседали одни оптиматы. Им не нужны сенаторы, которые ведут переговоры с народом или с италийцами. Им не нужны популяры в Сенате. Они желают забрать себе все: рабов, земли, власть.
Речь Сатурнина, более продолжительная и резкая, чем можно было ожидать от загнанного в угол человека, заставила Мария замолчать. Они шагали в течение еще нескольких напряженных минут, показавшихся обоим вечностью, рискуя оказаться в засаде и не добраться до Форума.
Марий верил в своих ветеранов, но люди оптиматов были гораздо более жестокими убийцами, чем наемники Сатурнина: в число их входили бывшие гладиаторы и верные Сенату ветераны, которым отлично платили Метелл, а в придачу, может, даже Сулла, Долабелла и прочие.
– Куда ты меня ведешь? – спросил Сатурнин. – Прямиком к Тарпейской скале? Или бросишь меня в Туллианум, чтобы я гнил заживо и умер с голоду в проклятой тюрьме? Может, я – твой новый Югурта?
Намек на побежденного Марием африканского царя, которого протащили по улицам Рима во время триумфа, а затем бросили в тюрьму рядом с Форумом, говорил о том, как мало Сатурнин доверяет консулу, дававшему ему возможность остаться в живых, несмотря на senatus consultum ultimum.
– Я веду тебя в курию Гостилия, – ответил он, – а не в Туллианум.
– Дом Сената… Ловко, – признался наконец Сатурнин с улыбкой, выражавшей бурные чувства и печаль; возможно, Марий действительно хотел ему помочь. – Но вряд ли это их остановит. Они способны спалить здание вместе со мной, лишь бы избавиться от плебейского трибуна, самого враждебного к ним со времен Гая Гракха.
– Не думаю, что они позволят наемникам поджечь здание Сената, – убежденно возразил Марий. – Это один из важнейших символов для них. Сожжение здания, где они заседают, будет в их глазах дурным предзнаменованием, а для остальных – дикой выходкой, после которой они покажутся немощными, трусливыми, готовыми на все, лишь бы защитить себя. Они были бы рады спалить тебя в любом другом месте, даже в храме: на богов им наплевать. Но храм Весты или Сенат они не тронут. Вломиться в храм Весты – святотатство, и потому курия – безопасное место для тебя.
Они остановились перед тяжелыми бронзовыми дверями. Несмотря на ночную тьму, факелы ветеранов Мария светили достаточно ярко, чтобы можно было разглядеть большую фреску, украшавшую одну из стен Комиция напротив курии. Взгляд Мария задержался на фреске со сценами побед легендарного Валерия Максима Мессалы над карфагенянами и Гиероном Вторым Сицилийским во время Первой Пунической войны. Наглядный пример безмерного могущества Рима, его власти над другим народам и землями – между тем внутри его самого пролегла трещина: так спелый фрукт, великолепный снаружи, таит в себе гниль.
Консул вздохнул и покачал головой.
– Откройте двери! – скомандовал Марий, и его подчиненные выполнили приказ. – Оставайся здесь, во имя Геркулеса! – сказал он на прощание Сатурнину. – Мои люди будут охранять тебя. Я добьюсь правосудия для тебя и Главция, вам сохранят жизнь и отменят senatus consultum ultimum.
– Переговоры невозможны, – в полном отчаянии возразил трибун. – Только борьба или смерть, и если ты…
– У нас есть Метелл, – перебил его Марий.
– Ни за что, будь он проклят! – вскричал Сатурнин; в голосе его звучала ненависть. – Никогда, клянусь Юпитером!
– Закройте двери! – взвыл Марий во весь голос, и ветераны задвинули тяжелые бронзовые засовы.
Сатурнина, взывавшего к богам и проклинавшего Мария, заключили в здании Сената: курия Гостилия стала тюрьмой в сердце Рима. Один, в камере, едва освещенной парой факелов – их оставили люди консула, чтобы он не сидел в кромешной тьме, – плебейский трибун с горькой усмешкой размышлял о том, что место, где ему вынесли смертный приговор, стало для него единственным безопасным убежищем во всем Риме.
IV
Переговоры, обреченные на неудачу
Domus Юлиев, Рим
99 г. до н. э., той же ночью
По возвращении Гай Марий был мрачнее тучи.
В атриуме его встретили Юлий Цезарь-старший и Аврелия, а также Аврелий Котта, брат Аврелии, который явился, чтобы поддержать их: в такой ужасный день членам одной семьи надлежало быть вместе.
– Что случилось? – спросил Цезарь-старший, приглашая Гая Мария в триклиний. Тот покачал головой, отказываясь от предложения.
– Сейчас нет времени ни на выпивку, ни на отдых; эта ночь – особая. Я пришел рассказать о положении дел, а заодно предупредить, что надо запереть двери и окна. Сегодня ночью нельзя покидать дом. Может пролиться кровь. Я постараюсь, чтобы все не закончилось резней, но не уверен, что у меня получится.
– Ты не сможешь их остановить, – выпалил Котта тоном человека, который неоднократно предупреждал о пагубных последствиях чужих действий и в миг несчастья испытывает постыдное удовлетворение: «Я же тебе говорил». Гай Марий не обратил внимания на его слова и предложил продуманный порядок действий:
– Сатурнин заточен в курии Гостилия, его сторожат мои ветераны. Над ними начальствует Серторий, человек надежный и храбрый. Главцию я пока не нашел, но мои люди ищут его; безумец полагает, что в укрытии безопаснее, чем под моей охраной. Я потребую суда над обоими, ведь нет сомнений, что именно они распорядились об убийстве Мемия. Но это еще не все: я буду вести переговоры до тех пор, пока смертную казнь для них не заменят изгнанием. Суд поможет выиграть время.
Аврелия видела, что брат снова пытается встрять. Ей казалось, что он слишком дерзко разговаривает с шестикратным консулом, защищавшим границы Рима от Югурты, кимвров и тевтонов, добившимся бесперебойной выплаты жалованья солдатам и раздачи хлеба народу. Такой человек, во всяком случае, заслуживал почтения, даже если для достижения своих целей он связывался с сомнительными личностями вроде Сатурнина или Главции. Оптиматы были немногим лучше. Сенаторы, стоявшие за древние обычаи, часто вели себя бессовестно.
Аврелия решила вмешаться и опередить брата, который наверняка собирался что-то спросить; она надеялась, что вопрос, заданный ею в сдержанных выражениях, не покажется оскорбительным Гаю Марию, ее свойственнику, который к тому же пришел к ним этой ночью, чтобы рассказать о хитросплетениях государственных дел.
– Что же ты предложишь им, желая побудить их к переговорам? Я имею в виду оптиматов, – мягко спросила она, протягивая ему кубок с вином, которое налила сама. Хотя Марий и утверждал, что у него нет времени на выпивку, он взял кубок и сделал глоток:
– Благодарю.
Протянутый им кубок был пустым. Аврелия поставила его на поднос, который раб поспешно забрал со стола; затем он исчез среди теней, отбрасываемых факелами.
– Я собираюсь выдать оптиматам их вождя, Квинта Цецилия Метелла Нумидийского. Отправлюсь в путь прямо сейчас, чтобы побеседовать с сыном Метелла. Возвращение отца из ссылки – веский довод для него.
Цезарь-старший кивнул. Котта ничего не сказал.
Гай Марий попрощался. В следующее мгновение он уже шагал по темным улицам готового вот-вот взорваться Рима в сопровождении своих ветеранов.
– Он ничего не добьется, – объявил Котта, оставшийся в атриуме.
– Возможно, – согласилась его сестра, – но я была бы признательна, если бы в доме моего мужа, в доме рода Юлиев, ты вел бы себя в соответствии со своим положением, как гость, и не досаждал другим гостям. Я ценю тебя и люблю, брат мой. И знаю, что ты часто говоришь мудрые вещи, а Марий, лучший на поле брани, не блистает в государственных делах, однако прилагает все усилия для этого. И притом постоянно. А попытка что-то предпринять – сама по себе заслуга.
Аврелий Котта помолчал, затем покосился на зятя:
– Надеюсь, я ничем не опечалил тебя, Гай Юлий Цезарь. Сестра права, иногда я бываю слишком напористым.
– Ты ни в чем не виноват, но, клянусь Геркулесом, я согласен с Аврелией: мы должны с уважением относиться к Марию. Он всегда поддерживал нас.
– Именно этого я и опасаюсь, – сказал Котт. – Его дружба сейчас очень некстати. Подозреваю, Сенат вернет все, что утратил в последние годы правления Мария, Сатурнина, Главции и прочих популяров. Закоренелые оптиматы сейчас наносят ответный удар и готовы на все. Они долго ждали, предлогом же стало убийство Мемия. Теперь их ничто не остановит. Никто и ничто. Даже Марий, и не важно, сколько раз он был консулом.
Снова повисла тишина.
Неловкая.
Напряженная.
– Мне пора домой, – вымолвил наконец Котта, который больше не чувствовал себя желанным гостем: так или иначе, он сказал нечто важное и одновременно нелицеприятное, а именно – правду.
– Даже не думай! – гневно перебила его Аврелия. – Ты и так дома. Я умоляю об одном: будь обходительным с другими гостями. Хоть ты почти ни в чем не согласен с Марием, следует признать, что сегодня ночью в городе очень опасно.
Котта кивнул.
– Очень прошу, побудь у нас до рассвета, – добавила Аврелия и посмотрела на мужа.
Юлий Цезарь-старший согласился с женой:
– Сейчас это самое безопасное место.
– Я прикажу подать еду и питье. Поужинаем вместе, – добавила Аврелия. – Когда Рим восстает против себя самого, главное – хранить единство. Нельзя допускать раздоров в семье.
В атриуме другого дома, Субура, Рим
– Не-е-е-ет, будьте вы прокляты, не-е-е-ет!
Главция, римский претор, союзник Сатурнина и Мария в борьбе с сенаторами-оптиматами за раздачу земель, громко вопил, когда наемники Сената выволакивали его на улицу. Когда до него дошли вести о принятии senatus consultum ultimum против него и Сатурнина, он укрылся в доме друга. Поначалу он собирался покинуть город, но повсюду уже сновали сотни наемных убийц, нанятых крайними оптиматами – Метеллом, грозным молодым Суллой или его кровавыми приспешниками, такими как Долабелла. К тому времени, когда Главция узнал о решении Сената, побег был уже невозможен.
Вот почему он заперся в доме друга, считая, что находится в безопасности.
Он ошибался.
Друг впустил Главцию, а сам убежал вместе с родными. А потом предал его, сообщив рыскавшим по городу наемникам, где его найти: так он пытался отвести месть сенаторов от себя и своих близких. Дверь из толстых деревянных досок запиралась на крепкую сосновую перекладину, но даже она не выдержала удара бревна, которое использовали в качестве тарана. Дверь хрустнула и поддалась яростному напору убийц.
– Не-е-е-ет, проклятье… – завыл Главция, увидев, что он окружен.
Наемники нацелили на жертву устрашающие острия кинжалов и уставились на своего предводителя.
Луций Корнелий Сулла вошел в атриум.
Он быстро выследил жертву. Метеллы тщательно распределили ночную добычу: ему достался претор Главция, Долабелле – Сатурнин, плебейский трибун.
Сулла любил в точности выполнять поручения оптиматов. Чтобы стяжать все больше и почета, приходилось каждый раз поражать их воображение смертоносной хваткой. Не только в сражениях с варварами, где он уже показал себя, но и здесь, в Риме.
– Убейте его, – чуть слышно прошептал Сулла.
Самые смертоносные приказы, произнесенные негромко, звучат еще более чудовищно и безжалостно, словно выражают запредельную ярость и ненависть – обдуманные и взвешенные, требующие немедленного исполнения.
– Не-е-е-ет, пожалуйста! Не-е-е-ет… Ради всех богов!.. – вопил Главция, пока в него раз за разом вонзали нож.
Десятки раз.
Тщательно.
Неторопливо.
С расчетливостью хорошо оплаченного убийцы.
Domus Метелла-младшего
Той багрово-черной ночью Квинт Цецилий Метелл-младший[6] принял римского консула в своем доме.
– Ч-ч-чего ты х-х-хочешь? Зачем беспокоишь нас, враг рода Метеллов? – презрительно бросил он.
Метелл заикался не от волнения: эта особенность была присуща ему с детства, и он ничего не мог с ней поделать. Она не давала ему выступать на публике и сильно мешала в общественной жизни. Но он был сыном Метелла Нумидийского, великого вождя оптиматов, находившегося тогда в вынужденном изгнании, и поэтому сохранял вес в их кругу, несмотря на трудности с речью.
Они стояли посреди атриума, полного вооруженных людей: их повсеместное присутствие определяло дух этой ночи.
Вошел Гай Марий в сопровождении шестерых солдат. Его пропустили в дом: Метелл-младший показывал тем самым, что располагает достаточным числом людей и полудюжина ветеранов не представляет для него угрозы. Он все рассчитал. Марий явился не для сражения, а для переговоров. Переговоров, обреченных на неудачу, как неоднократно замечал Аврелий Котта. Был ли он прав? Этим сомнениям скоро предстояло разрешиться.
– Давай забудем старые разногласия, Метелл.
Гай Марий имел в виду давнее соперничество с отцом своего собеседника за начальствование в африканской войне. Победителем вышел Марий, к большому разочарованию Метеллов, которые воспринимали эту войну как личное дело, как неотъемлемое достояние своей семьи. Марий не только возглавил римские войска в Африке, но и одержал оглушительную победу, захватив африканского царя Югурту и проведя его в цепях по улицам Рима во время триумфа: зрелище, от которого Метеллы чуть не задохнулись. Эта победа, этот скованный цепями царь, этот триумф должны были принадлежать Квинту Цецилию Метеллу Нумидийскому.
– Если бы я п-п-помнил наши ссоры, консул, я бы т-т-тебя даже одного не впустил, – ответил Метелл-младший с неожиданным холодным спокойствием… быть может, нарочитым?
Марий огляделся по сторонам. В свете факелов были видны десятки вооруженных людей, еще больше солдат угадывались в тени, за пределами дрожащего света.
– Я знаю, что Сатурнин и Главция перестарались, но давай остановимся, прежде чем весь Рим захлебнется кровью…
– Иногда кровь о-о-очищает, – перебил его Метелл и добавил по-гречески, так что Марий не понял ни слова: – Ὅλως εἰ τό τῶν ἡμέτερων ἐχθρῶν αἷμα ἐστίν[7].
Кое-кто из говоривших по-гречески с готовностью захохотал.
Марий привык к тому, что Метеллы высмеивали его плохое знание греческого языка. Они считали его необразованным невеждой, пусть и удачливым в бою. Бывший консул знал, что толки о его удачливости, заменявшей военную сноровку, нелепы: он одержал столько побед над африканцами, кимврами и тевтонами, чтобы ни плебеи, ни сенаторы не смели приписывать его успехи покровительству богини Фортуны. И все-таки ему было неловко, что над ним потешаются из-за его скверного греческого. Необразованность вечно навлекала на него оскорбления и насмешки, и он не умел отмахиваться от них. Зато умел правильно расставлять легионы, идущие в бой. Он пропустил мимо ушей презрительное замечание и перешел к главному предмету с нынешним вождем оптиматов.
– Возвращение твоего отца из ссылки в обмен на договор, который сохранит жизнь трибуну Сатурнину и претору Главции, – предложил Марий.
Смех умолк.
Все молча смотрели на Метелла-младшего.
Квинт Цецилий Метелл-старший, по прозвищу Нумидиец, отправился в изгнание еще до того, как Сенат проголосовал за законы, предложенные Сатурнином. Однако трибун, претор Главция и другие вожди популяров воспользовались отсутствием Метелла, чтобы оставить его без имущества, исключить из Сената и даже лишить римского гражданства.
– Возвращение о-о-отца… – задумчиво повторил Метелл-младший. – Восстановление его в к-к-курии, возвращение с-с-собственности и гражданства со в-в-всеми п-п-правами?
– Со всеми правами, – кивнул Марий, ни секунды не колеблясь.
Снова наступила тишина. Люди, столпившиеся в атриуме, при свете факелов, и в отдалении, там, где сгущались сумерки, напряженно молчали. Тишина в пустынном месте кажется мирной, но в присутствии множества вооруженных, возбужденных людей становится густой, тревожной, тяжелой.
Метелл разразился хохотом, который оборвался через несколько секунд:
– Ты не в том п-п-положении, чтобы о чем-либо договариваться, к-к-консул. Есть утвержденный senatus c-c-consultum ultimum, и тебе придется подчиниться ему. К тому же…
Он не закончил фразу.
– К тому же?.. – спросил Марий, удивленный тем, что его собеседник так легкомысленно отнесся к переговорам. Он надеялся, что прощение отца с возвращением ему имущества, прав и гражданства заинтересует Метелла.
– К тому же ты о-о-опоздал. Главция и Сатурнин будут к-к-азнены, ты к-к-казнишь их с-с-сам, если желаешь сохранить свое п-п-положение, или это с-с-сделают н-н-наши люди. Затем мы, о-о-оптиматы, с-с-станем распоряжаться в Риме, и Сенат одобрит в-в-возвращение моему о-о-отцу гражданства, с-с-собственности и места в курии. Ты не нужен мне н-н-ни для чего. П-п-по правде сказать… – он вытянул шею, чтобы заглянуть через плечо Мария, – Главция, с-с-скорее всего, уже мертв. Не так ли, Луций?
Гай Марий повернулся и увидел вошедшего Луция Корнелия Суллу, чью тунику покрывали кровавые пятна. Некогда Сулла помог Марию заманить в ловушку самого царя Югурту, но теперь стремился выслужиться перед Метеллами и вообще оптиматами. Все это доказывало, что с этой ночи, если не раньше, Сулла сделал ставку на самую косную часть Сената.
– Ты прав, – подтвердил Сулла, бросив на Мария вызывающий взгляд. – Отныне Главция – это уже прошлое.
И он непроизвольно стряхнул кровь с тоги.
– Я догадывался, что ты замешан во всем этом, – презрительно отозвался Марий, – но не думал, что ты сам прикончишь его.
– О нет, ради Юпитера, – живо возразил Сулла. – Я не запятнаю свой кинжал кровью такого ничтожества, как Главция. Просто он дергался, пока мои люди наносили ему удары, и кровь брызгала во все стороны. Жаль, испачкал тогу, но зрелище того стоило.
Марий хотел было возразить, но снова вмешался Метелл:
– А Сатурнин? Клянусь Геркулесом, он х-х-худший из них двоих. Что известно о Сатурнине?
Сулла повернулся к Метеллу:
– Им займется Долабелла.
О Долабелле Марий знал только то, что он обладал невероятным честолюбием. Не годный ни для войны, ни для мира, ни для добра, ни для зла, он умел лишь обхаживать Суллу, чтобы тот отдалился от Мария. Вот почему бывший консул позволил себе посмеяться. Это было необходимо для него. Они издевались над ним, над его скверным греческим, над мнимой неспособностью вести переговоры; но если я уже не вызываю восхищения, думал он, пусть меня хотя бы уважают или боятся. Он позволил себе расхохотаться в ответ.
– Ха-ха-ха-ха-ха! Клянусь Юпитером, Лучшим и Величайшим, теперь смеюсь я, и смеюсь от души! – И пояснил, чтобы растянуть удовольствие: – Да, Сатурнин – тот самый вождь, которого вы ищете и хотите казнить. Но будет суд, и на нем поведают обо всем: о злоупотреблениях и, возможно, преступлениях самого Сатурнина, а также о злоупотреблениях и преступлениях Сената. Вот и посмотрим, что решит народ. Хватит ли у вас людей, чтобы держать в руках Рим, притом что против вас мои ветераны и весь плебс? Сатурнина я запер в курии, и вы не посмеете поджечь дом Сената. Мой лучший военачальник, Серторий, стоит во главе моих лучших ветеранов. Вы уверены, что не хотите вести переговоры?
Метелл посмотрел на Суллу. Его взгляд полыхал. Публичное разбирательство, как бы они ни хитрили, как бы ни изворачивались, вовсе не устраивало их. Марий догадывался, что на суде к Сенату возникнет слишком много вопросов, и плебс может взбунтоваться. Положение станет неуправляемым. Нет, следовало казнить Главцию и Сатурнина этой же ночью, причем так, чтобы Марий тем или иным образом поучаствовал в казни. Разрушение тройственного союза плебейского трибуна, претора и консула, обезглавившее партию популяров, не вызвало бы серьезных волнений, и постепенно оптиматы вернули бы себе всю полноту власти. Но Сатурнин, охраняемый людьми Мария, к тому же в здании Сената, окруженном его ветеранами…
Сулла выдержал пристальный взгляд Метелла и медленно повернулся к Марию. Гай Марий: пятьдесят восемь лет от роду, шесть консульств, один триумф. Он же, тридцатидевятилетний, без общепризнанных заслуг, потерпел поражение на последних преторских выборах из-за союза Мария с Сатурнином и Главцией и безмолвно наблюдал за тем, как идет время, а его cursus honorum не пополняется, так как Марий ненавидит его. Собирается ли он снова на что-нибудь решиться? Вряд ли. Не в этот раз. Старый консул совершил промах, недооценив врожденный дар Долабеллы: распространять вокруг себя ужас. До сих пор этот дар проявлялся в малозначащих обстоятельствах, тех, что не привлекали внимания консулов, трибунов или преторов, но даже они безошибочно свидетельствовали о порочной природе этого существа. Сулла знал, что настало переломное время, сулящее одному падение, а другому – взлет: в эту ночь Марий покатится вниз, а он станет подниматься вверх. Он отвернулся от Мария, снова посмотрел в глаза Метеллу и заговорил уверенно, без тени сомнения:
– Долабелла разберется с Сатурнином. У Долабеллы… – он тщательно выбирал подходящее слово, – у Долабеллы… есть на то свои основания.
Метелл уловил тонкий намек Суллы: всего несколько месяцев назад отец Долабеллы пал в ночной схватке со сторонниками Сатурнина. Да, несомненно, Долабелла-младший весьма заинтересован в казни человека, имевшего прямое отношение к убийству его отца.
– Но вы ведь не собираетесь сжигать здание Сената? – перебил его Метелл.
– Нет, – ответила Сулла. – Долабелла что-нибудь придумает.
Гай Марий молча смотрел в пол. Он тоже только что узнал о побуждениях личного свойства, двигавших Долабеллой. Конечно, убийство отца должно было вызвать ярость сына. Надо вернуться на Форум и помочь Серторию в защите курии Гостилия.
Метелл впился взглядом в консула. Не велеть ли умертвить его здесь и сейчас? Но сенаторы не одобрили бы этого, к тому же многие из них все еще уважали Мария. Его легендарная победа над тевтонами при Аквах Секстиевых, спасшая Рим от вторжения, быть может не менее ужасного, чем Ганнибалово, осталась в памяти многих patres conscripti. Лучше соблюдать закон и убирать врагов постепенно, одного за другим. Для Мария наступит последняя ночь. Они будут подрывать его авторитет день за днем. Ждать осталось недолго. Он рухнет с древа своего честолюбия, подобно спелому персику, как и многие другие. Главцию казнили. Вот-вот казнят Сатурнина, это возьмет на себя Долабелла. Марий… Придет и его черед.
– Думаю, к-к-консулу пора покинуть мой д-д-дом, – сказал Метелл и добавил лаконичную фразу: – Arx Tarpeia Capitolii proxima.
Гай Марий ничего не ответил, но ясно ощутил угрозу. «Тарпейская скала недалеко от Капитолия»: намек на то, что, даже находясь на вершине власти, символом которой служил храм Юпитера на Капитолийском холме, можно разбиться о Тарпейскую скалу, которая и в самом деле находилась вблизи Капитолия и Форума: на нее сбрасывали преступников. Марий не ответил, но принял предупреждение к сведению. Не попрощавшись, он развернулся и, окруженный своими ветеранами, покинул дом сенатора Метелла. Он думал только о том, чтобы как можно скорее попасть в Сенат. Марий по-прежнему был уверен в надежности Сертория, охранявшего Сатурнина, но яростный кошачий взгляд Суллы, объявившего, что подлец Долабелла довершит начатое, заставил его во второй раз за ночь вернуться на Форум. Сердце грызли сомнения. Он чувствовал: вот-вот произойдет что-то ужасное.
V
Непоколебимое правосудие
Римский форум, здание Сената
99 г. до н. э., в ту же ночь
Гней Корнелий Долабелла в сопровождении более сотни убийц, нанятых оптиматами, уверенно шествовал к курии Гостилия, мрачный, молчаливый, сдержанный. Все смотрели на него. Все знали, что за бронзовыми дверями томится Сатурнин, что Сенат приказал задержать его и немедленно казнить согласно senatus consultum ultimum, но Долабеллу не волновали распоряжения властей: это было его личное дело. Убийцы любят месть.
– Марий оставил своих ветеранов у входа, – сказал один из наемников, пока они окружали людей консула, и покосился на своего вождя, который остановился в нескольких шагах от старшего начальника Сертория.
Долабелла знал его по рассказам Суллы. Серторий был храбр и предприимчив; Гай Марий не стал бы оставлять на Форуме кого попало.
Он ничего не сказал.
Пока, во всяком случае.
И внимательно все осмотрел.
Месть не предполагает спешки. Она требует решимости, ожидания и единственного точного удара, нанесенного в нужное мгновение. Ни секундой раньше, ни секундой позже.
Перед бронзовыми дверями курии
Квинт Серторий видел, как людской поток – десятки наемных убийц, вооруженных Сенатом, – тек, подобно реке, по старой Священной дороге, пока не остановился перед курией Гостилия. Их вождь, молодой сенатор Гней Корнелий Долабелла, стоял прямо перед ним.
Всего в нескольких шагах.
Затем стал приближаться.
Вот он уже в пяти шагах, в четырех, в трех, в двух.
– Достаточно. – Серторий поднес правую руку к рукояти меча и сделал вид, будто достает его из ножен.
Долабелла замер. Улыбнулся.
Несколько секунд никто ничего не говорил.
Главарь сенатских наемников выдержал суровый взгляд легионера, ветерана Мария.
– Уходи со своими людьми, – произнес наконец Долабелла. – Давайте не проливать кровь.
– Мне приказали оставаться здесь до возвращения консула Мария, – повторил Серторий. – А я всегда выполняю приказы.
– Понимаю, – сказал Долабелла после напряженного молчания, снова улыбнулся и прибавил еще два слова: – Ну хорошо.
Он развернулся, зашагал назад и влился в ряды наемников.
Серторий участвовал в нескольких походах под началом Гая Мария. Угрозы, словесные или молчаливые, не пугали его. Он быстро прикинул: наемников около сотни. Рядом с ним, перед курией, стояли тридцать хорошо подготовленных бывших легионеров и ветеранов. Достаточно, чтобы дать отпор и выиграть бой в зависимости от того, насколько силен порыв этих убийц, – вернее, от того, сколько им заплатили.
Серторий достал из-за пазухи старый походный свисток. Он стал военным трибуном и даже легатом, начальником целого легиона, но сейчас ему хотелось вспомнить те времена, когда он был всего лишь центурионом. Происходящее бодрило. Напоминало о юности.
Он поднял свисток. Настал его черед улыбнуться.
Прижав свисток к губам, он дунул изо всех сил…
Domus Юлиев
– Не могу поверить, что ты действительно считаешь, будто старания Гая Мария ни к чему не приведут, а исправлять царящую в Риме несправедливость не стоит, – сказала Аврелия, сидевшая с маленьким Цезарем на руках. Котта вздохнул:
– Нет, сестра, конечно, я так не считаю. Но я думаю, что несправедливость искоренить невозможно. Конечно, следует изменить законы, раздать гражданам Рима больше земли, удовлетворить требования союзников, дружественных нам городов и так далее… Но сейчас не время. Оптиматы по-прежнему сильны, слишком сильны. Более того, они… непобедимы. Никто из тех, кто вступал с ними в схватку, не выстоял. И даже Марий, шестикратный консул, не сможет сделать ничего.
Цезарь-старший, присутствовавший при разговоре, не вмешивался. Он полагал, что зять, как это ни печально, прав в своем мрачном отношении к событиям этой ночи. Котта покачал головой:
– Не думаю, что уже родился человек, способный противостоять сенаторам… и победить.
Аврелия не ответила и лишь нежно прижала к себе сына.
Улицы Рима
Гай Марий покинул дом Метеллов. Все оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал. Как и предупреждал Котта, Метеллы не соглашались ни на какие уступки даже ради возвращения Нумидийца, своего старого вождя: было совершенно ясно, что они чувствуют себя намного увереннее, нежели популяры. Оптиматы наносили удар за ударом и собирались идти до конца. Главция был мертв. Сатурнин находился под надежной охраной в курии, однако Мария не отпускало чувство, что надо спешить. Он оставил Сертория, своего лучшего помощника, начальствовать над защитниками курии, но могло случиться так, что он не сдержит напор множества наемников.
Марий ускорил шаг.
Семейный дом Юлиев
Кормилица отнесла ребенка в кроватку, рабы подали ужин. Тушеное мясо с восточными пряностями, купленное на Форуме, козьи сыры разной степени зрелости, много вина, а на десерт – изюм и орехи. Вкусная и сытная пища, без излишней роскоши, которой они не могли себе позволить.
– А если ты, брат, считаешь, что сенаторы-оптиматы слишком сильны, – начала Аврелия, возвращаясь к разговору, с которого начался ужин, – то когда, по-твоему, они утратят свою силу? Когда-нибудь?
Юлий Цезарь-старший насупился: настойчивое желание жены говорить о государственных делах утомляло его. Но к удивлению Юлия, зять ответил на вопрос серьезно и с неподдельным интересом:
– Возможно, со временем, через несколько лет. Через несколько лет мы сможем что-то изменить.
На этот раз в голосе Котты звучала не твердая уверенность – всего лишь надежда, но, услышав его слова, Цезарь-старший перестал жевать, а Аврелия поставила на стол кубок, едва пригубив вино.
Римский форум
Свист Сертория все еще оглашал Форум.
На призыв откликнулись сорок ветеранов – по двадцать с каждой стороны курии: они присоединились к тридцати семи, стоявшим перед дверями вместе с Серторием. Теперь Сертория окружали семьдесят ветеранов, вооруженных и готовых к бою с сотней наемников, посланных оптиматами.
С лица Гнея Корнелия Долабеллы мигом сползла улыбка. Исход дела больше не казался ему однозначным. Он знал, что Сертория сопровождают легионеры, участвовавшие в походах Гая Мария против нумидийцев в Африке и тевтонов на севере. Закаленные в боях воины не сдадутся и не отступят, даже если наемников станет еще больше. Сам Долабелла также участвовал в военном походе и был настоящим бойцом, но большинство тех, кто следовал за ним в ту ночь, были отпетыми негодяями, привыкшими захватывать, убивать и грабить, нападая внезапно, под покровом темноты, на врага, уступавшего числом. Рукопашной схватки с ветеранами они не выдержали бы. Долабелла отступил на несколько шагов.
Серторий почувствовал себя увереннее. Марий поручил ему защищать курию и, таким образом, сохранять жизнь Сатурнину, пока его начальники ведут переговоры о разрешении спора между Сенатом и трибунами, чтобы предотвратить новое кровопролитие. Он сказал себе, что хорошо выполняет свои обязанности.
Тем временем Долабелла изучал оборону неприятеля, храня глубокое молчание: лобовой приступ казался ему пустой тратой времени… Или нет?
– Что будем делать? – спросил один из наемников.
– Он снял защиту с флангов. – Долабелла обращался исключительно к себе самому. – Старший начальник сосредоточил своих людей перед дверями, попасть в курию Гостилия можно только через них. Курия неприступна. Свет проникает внутрь через двери, когда их открывают, и окошки, расположенные слишком высоко.
– Давайте попробуем пробраться через окна, – предложил наемник.
– Не выйдет, – возразил Долабелла. – В ответ на последние беспорядки сенаторы велели снабдить их толстыми железными решетками, и теперь здание защищено еще надежнее.
– Крыша из дерева. Можно пустить горящие стрелы и поджечь ее, – предложил другой наемник, желавший любой ценой избежать прямой схватки.
Долабелла пригнул подбородок к груди, обдумывая сказанное им.
– Лучше не надо, – заключил он. – Здание слишком много значит для всех римлян, и потом, деревянные стропила покрыты глиняной черепицей, которая защищает курию от дождя. Стрелы погаснут, не нанеся серьезного урона…
Он умолк.
– Так что же делать? – настойчиво вопрошали наемники. Рукопашная схватка с легионерами по-прежнему не вдохновляла их. Нужно было придумать что-нибудь другое.
– Черепица, – процедил Долабелла сквозь зубы.
Для него все прояснилось, он снова улыбнулся и знаком велел своим доверенным людям внимательно слушать. Затем начал тихо давать указания. Как только он умолк, один из его приближенных отделился от толпы наемников, покинул Форум и зашагал по Священной дороге. Остальные встали на изготовку напротив легионеров Мария, охранявших курию Гостилия.
Серторий понимал: столкновение неизбежно. Неминуемо.
Он пожал плечами.
За свою жизнь он видел много, слишком много сражений.
– Поднимите щиты, во имя Геркулеса! Достаньте мечи! – вскричал Серторий, обращаясь к ветеранам. Увидев, что легионеры приготовились к бою, наемники невольно отступили на несколько шагов.
– Остановитесь! – приказал Долабелла.
Он понимал, что его люди не горят желанием сражаться с опытными воинами, но вражеский начальник не рискнет отводить ветеранов далеко от дверей Сената, а значит, следует оставаться на разумном расстоянии, чтобы сбить с толку Сертория и его семьдесят бойцов.
Внутри курии
Луций Апулей Сатурнин расхаживал по залу, едва освещенному парой факелов. Длинные дрожащие тени ползли, как мифические лемуры, служа живым воспоминанием о приговоренных к смерти: сенаторы часто собирались здесь, чтобы обречь на казнь своих противников, которые, подобно Сатурнину, пытались изменить настоящее, уменьшив влияние patres conscripti и расширив права народа.
– Будьте вы прокляты… – бормотал он, блуждая среди теней.
Внезапно послышался военный свисток и голоса – начальствовавшего над войсками, которому Марий велел охранять Сенат, и наемников, посланных его убить.
– Я вас не боюсь, – тихо прошептал он, подходя к бронзовым створкам.
Затем уставился в пол.
Он пытался найти какое-нибудь решение. Марий – мечтатель: даже если оптиматы согласятся на переговоры, они ни за что не позволят ему и Главции выйти живыми из этой переделки. Ему придется бежать. Да, это очевидно. Даже если Марий добьется переговоров, надо воспользоваться любой заминкой – например, когда на рассвете за ним придут, чтобы предать суду, – и броситься наутек. У него много сторонников в городе. Возможно, они также явятся на суд. Если начнется потасовка, можно будет улизнуть. Во всяком случае, стоит попробовать. Остаться здесь и наблюдать – безумие: смертный приговор ему и Главции уже вынесен, и даже если оптиматы согласятся на публичный суд, выйдет лишь фарс, как случалось и раньше.
Внезапно послышался шум, которого не было раньше. Странные звуки доносились откуда-то сверху.
Сатурнин запрокинул голову и стал разглядывать темный потолок курии.
Шум усилился. Казалось, где-то раздаются шаги.
Будто кто-то ступает по крыше.
Римский форум, напротив курии
Серторий был безмятежен – внимательно наблюдал за перемещениями наемников, но не беспокоился, зная, что ничто не свершится без его ведома. Он боялся, что убийц станет больше, но пока все оставалось по-прежнему, наемники не осмеливались приблизиться…
– Трибун!
Серторий повернулся к легионеру, который напомнил о его прежней должности, и увидел, что все ветераны уставились на крышу. В ночной тьме сложно было рассмотреть, что делается наверху, но поскольку ветераны и наемники, стоявшие по всему Форуму, держали в руках факелы, Серторий наконец разглядел на крыше курии движущиеся тени.
– Во имя Геркулеса! – недоуменно воскликнул он.
На крыше курии
Тридцатилетнему Долабелле не мешало бы сбросить с десяток фунтов или больше. Довольно неловкий, он все же кое-как взобрался на крышу по одной из приставных лестниц. Он осторожно полз по наклонной поверхности, желая наблюдать за всем сверху. Долабелла никому не доверял, и никто не обладал его железной решимостью. Как он и предполагал, Серторий, которому явно не хватало людей, оставил стены курии без присмотра, сосредоточив легионеров у ворот. Это было разумно, но давало наемникам возможность, которую Долабелла не хотел упускать: он приказал своим людям принести кувалды, переносные лестницы и пилы. Их лица вытянулись от удивления, но приказы никто не обсуждал, и вскоре все было готово. Появились приставные лестницы – во время ночных столкновений в Риме их всегда следовало держать под рукой, особенно теперь, когда потасовки и стычки вспыхивали по всей столице. Имелись у них и большие молоты, которые годились как для разрушения стен и дверей, так и для пробивания голов. Достать пилу было труднее, но наемники ворвались в таверны Форума и лавочки со всякой утварью – и раздобыли самые большие пилы, какие смогли найти.
Стоя на вершине курии, Долабелла отдавал распоряжения.
– Снимайте черепицу! – прокричал он.
Кое-кто из наемников начал швырять черепицу на землю, на улицы, прилегающие к зданию курии.
– Нет, глупцы! – истошно завопил Долабелла. – Снимайте и откладывайте в сторону! Затем отпилите несколько балок от стропил! Нам нужна большая дыра в крыше!
Никто толком не понимал, что к чему, но все знали, что внутри курии находится жертва, плебейский трибун, а дыра приближает их к цели. Очевидно было лишь это. Но не более того.
Внутри курии
Сатурнин услышал грохот булавы, обрушившейся на потолок. Какой-то наемник взобрался по стене и вдребезги разносил черепицу. Внезапно несколько кусков штукатурки и кирпичей упали прямо на мозаику в середине курии: плитки разбились.
Все случилось очень быстро.
Пробоина в крыше за считаные секунды превратилась в широкую дыру. Сатурнин подумал, что наемники вот-вот спустятся по веревке, привязав ее к одной из крупных стропильных балок, однако это помешало бы им быстро убежать, если бы легионеры открыли дверь и проникли внутрь, чтобы прийти ему на помощь… Он не понимал, для чего задумано все это, но вдруг к его ногам неожиданно рухнул обломок черепицы. А потом еще один. Сатурнина они не задели.
В огромном помещении, уставленном пустыми скамьями, было негде укрыться. Сатурнин подумал, не подняться ли на те скамьи, что прилегают вплотную к стене, но они располагались ближе всего к потолку: он стал бы уязвимее.
Он метался по курии, не зная, что предпринять.
На пол упало еще несколько обломков черепицы.
На крыше курии
– Клянусь Юпитером! Между балками не пролезешь! – крикнул один из наемников.
– Берите пилы, – невозмутимо ответил Долабелла.
Все мгновенно поняли его замысел и набросились на две массивные балки.
Наемники были опытными убийцами, но не плотниками и не строителями. Один, нацелив обломок черепицы на трибуна, по глупости забрался на балку, которую распиливали его товарищи.
– А-а-а-а-ахх! – завыл он, почувствовав, как балка под ним треснула, и вместе с тяжелой перекладиной полетел вниз. Балка пробила мозаичную плитку, и пол усеяли красные пятна – кровь погибшего наемника.
– Не будьте глупцами! – повторил Долабелла. – Не стойте на стропилах, которые мы ломаем!
Наемники отпрянули.
Вскоре внутрь рухнула вторая перекладина. Теперь перед ними была огромная дыра, сквозь которую целиться было гораздо легче.
– Бросайте, – приказал Долабелла.
У них было много черепицы. Обстрел возобновился.
Внутри курии
Сатурнин не успел оправиться от изумления и ужаса при виде того, как наемник упал с высоты вместе с балкой, как оторвалась вторая перекладина, и новый кусок черепицы лопнул у его ног.
– А-а-а-а! – закричал он: очередной обломок вспорол ему кожу на правом плече. – Ублюдки! Подлецы!
Прежде чем он успел что-либо сделать, на него дождем хлынула черепица. Он отскочил от середины зала к дверям и забарабанил в них, громко крича:
– Открывайте, открывайте, или эти безумцы убьют меня прямо здесь!
Черепица врезалась в бронзу и разлетелась на тысячу осколков. Пустой зал наполнился зловещим грохотом.
На крыше курии
Долабелла слышал, как трибун требует открыть курию и выпустить его. Он это предвидел.
– Пусть действуют, да побыстрее, – велел он одному из наемников. Тот быстро, но осторожно подобрался к краю крыши и выкрикнул с высоты приказ наемникам, которые по-прежнему поджидали на улице.
Один из них помчался к фасаду здания Сената.
Перед бронзовыми дверями курии
Серторий наморщил лоб, услышав доносившиеся изнутри крики Сатурнина.
– Они собираются закидать его камнями! – воскликнул один из легионеров. – Сбрасывают черепицу с крыши!
Консул велел Серторию не открывать двери всю ночь, но было очевидно, что Гай Марий в первую очередь желал сохранить жизнь трибуна, и, если бы обстоятельства вынудили Сертория нарушить изначальный приказ, он бы не колебался. Он уже приготовился открыть двери, когда услышал крики бросившихся на них наемников:
– Вперед!
Серторий повернулся лицом к Форуму. Наемники пошли на приступ. У ветерана не было времени, чтобы отдать приказ открыть двери, но даже если бы он успел, все ветераны отражали в эту минуту натиск со стороны Форума, и ему пришлось бы отменить свое распоряжение. Он знал, что это отвлекающий прием, но выбора не было: либо его люди отразят нападение, либо погибнут.
Внутри курии
Крак.
Сухой щелчок, менее звучный, чем звон черепицы, ударявшейся о бронзовые двери. Эха не было – удар оказался несильным, но точным. Прямо в голову.
В глазах у Сатурнина потемнело. Черепица раскроила ему затылок.
Не потеряв сознания, он принялся медленно падать, раскинув руки, царапая ногтями бронзовые двери Сената, ставшего его тюрьмой, его личной Тарпейской скалой, местом его казни. Тот самый Сенат, против которого он восстал, как некогда сделали братья Гракхи и прочие плебейские трибуны, безжалостно отнимал у него жизнь. Сатурнин, уже мертвый, был всего лишь очередным трибуном, уничтоженным Сенатом, убитым в его здании, во чреве бессмертного чудовища.
Крак, крак, крак.
Все новые куски черепицы разбивались об пол и ударялись в бронзовую дверь.
А затем – приглушенные удары. Куски черепицы врезались в его тело, уже распростертое на полу: в спину, снова в голову, в плечи, в ноги, в руки…
Непрекращающийся дождь смертоносных ударов.
Побивание камнями по всем правилам.
Неумолимое.
Безжалостное.
Смертельное.
На крыше курии
– Готово, – сказал один из наемников. – Этого довольно. Уходим сейчас же, во имя Юпитера. И побыстрее.
Долабелла посмотрел на него с презрением, и все остались на своих местах. Он был сенатором, который повелевал ими и платил им, а значит, решения принимал он один. Всем казалось, что плебейский трибун мертвее мертвого, но никто не шелохнулся, ожидая ответа вождя.
– Здесь я решаю, довольно или нет, – сказал Долабелла, глядя на наемника, который взял на себя смелость считать задание выполненным.
Тот склонил голову в знак покорности.
– Что нам делать, славнейший муж? – спросил один из убийц.
– Бросьте в него остатки черепицы, которую мы отломали.
Люди поспешили выполнить приказ.
Десятки крупных кусков черепицы полетели в неподвижно лежащего трибуна, пока его тело не скрылось из виду, погребенное под грудой глиняных черепков.
– Хватит, – сказал Долабелла. – Теперь понятно, какое послание мы оставляем Риму.
Римский форум
– Колите, колите, колите! – повторял Серторий, снова и снова.
Легионеры, заразившись его бешеной яростью и желая защитить себя от нападавших, со звериной злобой вонзали мечи между щитами в поисках человеческой плоти, чтобы разорвать ее на части.
Многие наемники были ранены, некоторые пали под натиском ветеранов. Силы их вскоре иссякли, и они поспешно отступили, бросив раненых на произвол судьбы.
– Ни шагу назад! Во имя Геркулеса, не сметь отступать!
Серторий продолжал раздавать указания, руководя перемещениями легионеров. Он знал, что ярость велит им преследовать нападавших и продолжать бойню с удвоенной силой, но главным была защита курии, сохранение жизни того, кто…
Внезапно он сообразил, как долго длится побоище.
– Быстрее! Открывайте двери!
Его люди столпились у входа в здание. Около десятка человек опустили щиты, воткнули мечи в ножны и поспешили распахнуть бронзовые створки.
Серторий наблюдал за ними, безмолвно и напряженно. Наемники отступили, и на Форум вернулась тишина. Из курии не доносилось ни звука.
Тяжелые створки отворились, и взорам вошедших открылся зал курии, а также окровавленная рука Луция Апулея Сатурнина, поверх которого высилась целая гора глиняных черепков. Из-под случайно воздвигнутой могилы змеилась струйка крови.
В эту минуту по Священной дороге прибыл Гай Марий и встал рядом с Серторием. Он не нуждался в объяснениях и не требовал их. Для этого было уже поздно. Проклятый Метелл оказался прав: в эту ночь он всюду опоздал.
Марий заметил, что со стороны курии появился сенатор Гней Корнелий Долабелла, окруженный свитой: его суровое лицо освещали факелы в руках наемных убийц.
Взгляды Мария и Долабеллы встретились.
Это походило на поединок.
Марий почувствовал себя старым. Долабелла застал его врасплох. С таким противником должен схватиться кто-то другой. Но кто? И как будет выглядеть эта схватка?
VI
Кровь Энея
Domus Юлиев, Рим
99 г. до н. э., той же ночью
– Почему ты так уверен, что в Риме все изменится? – спросила Аврелия, пристально глядя на брата. – Сегодня ночью Гай Марий попытается начать переговоры, чтобы спасти плебейского трибуна Сатурнина и претора Главцию, а ты говоришь, что переговоры обречены на провал. И при этом через несколько лет, как ты надеешься, что-то ослабит сенаторов-оптиматов.
– Это будет что-то внешнее, – уточнил Котта.
– Что-то или кто-то? – уточнила Аврелия, не удовлетворенная двусмысленным ответом.
– Союзники, – кратко ответил Котта и отпил вина. – Многие, начиная с Гракхов, давно пытаются изменить порядок вещей, по-другому распределить богатства и земли, столкнув плебеев с Сенатом. Но союзники с их притязаниями на римское гражданство могут все изменить, склонив чашу весов в пользу одних или других. Если нам удастся объединить народ и союзников, возникнет такая сила, что сенаторам придется уступить. Но сейчас не время. Мы должны дождаться, когда союзники дрогнут. Дождаться войны. Этой войны. Марий об этом догадывается, и вступившие в союз консул, трибун и претор добились некоторых уступок союзным городам. Но соглашения с этими городами должны быть более широкими. Главное – начать давать римское гражданство тем, кто проживает за пределами Рима.
Юлий Цезарь-старший недоуменно и недоверчиво поднял брови.
Аврелия хмурилась, пока раб наполнял ее кубок вином.
В дверь постучали.
Раздался голос Гая Мария, окликавшего их по имени.
Со времени его ухода прошло несколько часов.
По приказу Юлия Цезаря-старшего рабы открыли двери. Консул вошел, но не направился в атриум. Едва переступив порог, он сразу перешел к сути дела:
– Метеллы посмеялись надо мной. Котта был прав: сначала они убили Главцию, а затем забросали Сатурнина осколками черепицы, отдирая ее от крыши курии. Потом напали на меня. В живых остались только Серторий, несколько моих ветеранов и я сам. Оптиматы жаждут сполна отомстить за убийство своего кандидата в консулы. Сидите дома, заприте двери. Долабелла вышел на охоту. Даже не выглядывайте на улицу! – распорядился он, затем развернулся и зашагал обратно в кровавую тьму римских улиц, таивших смертельную угрозу.
В ответ на его безумные речи Аврелия не сказала ничего. Повернувшись, в свою очередь, она скрылась в комнатке, где спал ее сын. Гай Юлий Цезарь-старший и Котта остались следить за тем, чтобы рабы плотнее закрыли двери и окна и сделали дом неприступным: никто не должен был проникнуть в него той ночью.
– Дай мне ребенка, – велела она рабыне, войдя в комнату. Кормилица осторожно передала малыша матери и быстро удалилась.
Аврелия села на заваленный подушками солиум рядом с кроваткой младенца и принялась укачивать Гая Юлия Цезаря-младшего, нашептывая ему историю, которую повторяла множество раз, оставаясь с малышом наедине:
– Помни историю своей семьи, историю рода Юлиев, самого благородного и самого особенного рода во всем Риме: богиня Венера возлегла с пастухом Анхисом, так появился Эней. Сына Энея звали Юлий, а ты – его прямой потомок. Ты – наследник героев Трои…
Суд II
Divinatio
Во время divinatio суд решает, кто из явившихся обвинителей предъявит главное обвинение.
VII
Неожиданный противник
Священная дорога, Римский форум
77 г. до н. э.
Цезарь и Лабиен шагали по главной городской улице, вымощенной булыжником.
Цезарь размышлял, гладя под ноги: мать согласилась, чтобы он по просьбе македонян выступил обвинителем в деле бесчестного сенатора Долабеллы. Как он понимал, Аврелия испытывает гордость и тревогу одновременно. Она гордилась тем, что ее сын, несмотря на юность, готов сразиться с одним из самых коварных политиков. А тревожилась по той причине, что надежда на победу была… ничтожно малой.
К ним подошел парень с довольно свирепой физиономией и что-то сказал на ухо Лабиену. Последний заплатил целой ватаге отъявленных негодяев и людей самого низкого пошиба, чтобы те собирали новости в тавернах и прочих местах, где распространялись слухи, прежде чем дойти до Форума.
– Я хочу знать обо всем, что связано с Долабеллой, – сказал Лабиен своим осведомителям.
– Что угодно? – уточнил один из парней, которые терлись среди отбросов римского общества.
– Что угодно, – решительно подтвердил Лабиен, вручая ему несколько серебряных денариев.
Тит Лабиен хотел каким угодно способом помочь своему другу Цезарю: он был обязан ему стольким, что любая услуга выглядела пустяком.
Услышав по дороге в базилику Семпрония слова юного вестника, сообщавшего новости с городского дна, Лабиен недоверчиво усмехнулся. К сожалению, серьезный вид парня говорил о том, что его утверждения, скорее всего, правда: его друг столкнулся с трудностями задолго до суда и до того, как было открыто дело.
– Что случилось? – спросил Цезарь в ответ на молчание Лабиена и кислое выражение его лица. Тот ответил прямо, будто это могло смягчить тяжесть его слов:
– В портовых тавернах ходят слухи, что сам Цицерон явится на divinatio, чтобы посоревноваться с тобой. Он тоже хочет быть обвинителем по делу против Долабеллы.
– Цицерон? – повторил Цезарь, не замедляя шага. – Марк Туллий Цицерон?
– Он самый.
Цезарь не выдержал и улыбнулся.
– Клянусь всеми богами! – продолжил он, подавив неуместный смешок. – А мы еще беспокоились о защитниках Долабеллы, моем дяде Аврелии Котте и Гортензии. Неужели ты не видишь, как это все комично или, лучше сказать, трагикомично? Теперь я, скорее всего, не буду обвинителем по делу македонян, о котором сам хлопотал. Цицерон с блеском выступил на Форуме в нескольких успешных разбирательствах. Он молод, но старше меня. Сколько ему, лет тридцать? А мне всего двадцать три. У него есть опыт публичных выступлений, а его ораторское мастерство известно всему Риму. Я проиграл еще до начала.
Он снова рассмеялся. Однако Лабиен слишком хорошо знал Цезаря: вряд ли тот считал divinatio проигранной. Лабиен наблюдал за тем, как друг перестал смеяться, чтобы привести в порядок мысли, поймал знакомый кошачий взгляд, который ловил во время боя у стен Митилены. Легкая хромота Цезаря навевала воспоминания о тех временах, когда все, казалось, было проиграно… Лабиен не мог понять одного: зачем Цицерону участвовать в этом суде.
– Вряд ли это хитрость Долабеллы, нацеленная на то, чтобы отстранить меня от дела, – заметил на ходу Цезарь, словно читая мысли друга. – Цицерон, как и прочие, стремится к славе. Он выиграл несколько судов, а тут речь идет о всемогущем Долабелле. Цицерон не примкнул ни к оптиматам, защищающим Долабеллу, ни к популярам, противостоящим его ужасному покровителю Сулле, подобно моему дяде или Серторию в Испании.
– Или тебе, – перебил его Лабиен.
– Нет, – поспешно возразил Цезарь. – Мои отношения с Суллой были не противостоянием, а чистым безумием.
Теперь рассмеялись оба.
Цезарь продолжил:
– Цицерон сам за себя. Но рано или поздно он непременно примкнет к одной из сторон. Ни один известный защитник не рискнул выступать против Долабеллы, македоняне обратились ко мне, и я подал иск. Благодаря этому делу Цицерон рассчитывает войти в историю. Добившись осуждения Долабеллы за бесчестное поведение, он заслужит уважение и оптиматов, и популяров.
– Но суд, скорее всего, проигран, все в этом уверены, – возразил Лабиен: такое объяснение участия Цицерона в divinatio его не удовлетворяло.
– Я неопытен и проиграю, но столь искусный оратор, как Цицерон… Как знать? Он стремится к известности, славе, почету, – настаивал Цезарь. – И всегда может пойти на попятную или, в отличие от меня, смягчить окончательное обвинение против Долабеллы и тем самым приобрести расположение оптиматов. Они знают, что я никогда не соглашусь на это.
– Тогда… судьи, желая предъявить более мягкое обвинение, в любом случае выберут его.
Несколько мгновений Цезарь не говорил ни слова.
– Да, ты прав, – наконец согласился молодой защитник, прервав короткое, но тягостное молчание. – Если только не…
Цезарь не закончил. Они входили в базилику Семпрония.
– Ты выдвинул обвинение, – напомнил Лабиен, поразмыслив. – И ты выступаешь первым.
– Да, я выступаю первым, – подтвердил Цезарь.
Базилика Семпрония, Рим
И действительно, Гай Юлий Цезарь выступил первым.
Все произошло стремительно, однако Лабиен и большинство присутствующих были немало удивлены. Не удивились только судьи, не ждавшие от Цезаря ничего другого. И записали его слово в слово.
Когда он закончил, послышался ропот – и ни единого хлопка.
Наконец Цезарь вернулся на место. Лабиен накрыл руку друга ладонью:
– Ты был на высоте.
– Нет, клянусь Геркулесом, вовсе не на высоте, – решительно возразил Цезарь. – Из тебя плохой лгун, Тит. Ты отличный друг, но врать не умеешь.
– Ты сказал все, что мы подготовили, и ничего не забыл, – попытался утешить его Лабиен.
Действительно, Цезарь выглядел неопытным юнцом, неуклюже выражался и несколько раз путался в показаниях. Тем не менее он выложил все, о чем они договорились накануне вечером.
– Нет, не настаивай, – резко добавил Цезарь, пытаясь разглядеть мать среди публики, толпившейся в базилике Семпрония.
Суд над Долабеллой, правой рукой всемогущего Суллы, привлек внимание всего Рима. В городе не говорили ни о чем другом. Даже события в Испании – восстание Сертория – в тавернах теперь обсуждали не так горячо. За стаканом вина велись разговоры о вожде испанских популяров и о сенаторе Квинте Цецилии Метелле-младшем по прозвищу Пий, видном оптимате, отправленном в Испанию для подавления мятежа. Вспоминали и пятидесятитрехлетнего ветерана Метелла – patres conscripti, воспользовавшись тем, что последний вернулся из Испании на похороны старухи-матери и собирался пробыть в Риме несколько недель; назначили его председателем суда, который рассматривал иск против Долабеллы.
Сам Долабелла умолял Метелла отложить возвращение в Испанию и возглавить суд. Долабелла не любил рисковать, ему нравилось, когда все было просчитано. Метелл помнил, как побили камнями того проклятого трибуна. Как его звали? Имя стерлось из памяти. Имена трибунов, восставших против Сената, по мнению Метелла, не заслуживали усилий его холодного и расчетливого ума.
В любом случае назначение главой суда сенатора, настолько близкого к покойному Сулле, покровителю Долабеллы, ясно показывало, что Сенат не собирается оставлять обвинителям ни малейшей надежды.
Цезарь перехватил пронзительный взгляд матери, стоявшей справа, в углу базилики. На ее лице читалось разочарование: первое публичное выступление сына, которому она так доверяла, окончилось полнейшей неудачей.
Это уязвило Гая Юлия Цезаря. Меньше всего в жизни он желал разочаровывать мать – но если даже она не поняла замысел сына, суд во главе с властным Метеллом, полный сенаторов-оптиматов, сочувствовавших Долабелле, тоже не понял бы его.
Цезарь осторожно поглядывал по сторонам: жена Корнелия держась позади Аврелии, смотрела в пол, явно встревоженная. Ближе, слева от Цезаря, сидел его неожиданный соперник, Марк Туллий Цицерон, а рядом с ним – старый грек Архий, обучавший Гая Юлия ораторскому искусству. Они разобьют Цезаря в пух и прах. Без сомнения, понадобится помощь Марса и Венеры, а также мудрость Минервы, чтобы после суда над Долабеллой он, Цезарь, сохранил надежду на участие в государственных делах. Более того, чтобы он просто остался в живых.
Долабелла… Цезарь осмотрел зал и обнаружил, что тот удобно расположился в просторном кресле позади Цицерона. Грузному Долабелле требовалась очень большая кафедра. В нем не осталось почти ничего от молодого сенатора, который взобрался на крышу курии Гостилия и забросал камнями трибуна Сатурнина в ту страшную ночь, о которой Цезарю не раз рассказывали и дядя Гай Марий, и мать Аврелия. Теперь Долабелла, широколицый и самодовольный, беспрестанно улыбался и обсуждал с друзьями неловкое выступление начинающего обвинителя.
Цезарь опустил взгляд, зная, что даже Гай Марий в загробном мире разочарован выступлением неискушенного оратора. Затем он снова поднял глаза и посмотрел на Долабеллу. Старый сенатор по-прежнему не замечал его. Безразличие – изощреннейшая форма презрения; именно так вел себя обвиняемый по отношению к Цезарю.
Цезарь мысленно улыбнулся. Он готовился к долгому бою, а не к простому и быстрому суду. Еще не время полностью открыться. Слишком рано.
Председатель суда, Квинт Цецилий Метелл-младший, посмотрел на второго обвинителя: настала очередь Цицерона. Метеллу с его заиканием не требовалось ничего говорить, и за это он был благодарен Цицерону. Он не любил обнаруживать перед всеми свой недостаток.
Марк Туллий Цицерон неспешно встал и с расчетливой медлительностью, ожидая, когда установится полная тишина, вышел на середину базилики. Он остановился напротив председателя и пятидесяти двух судей, которым предстояло решить, кто из них двоих, Цезарь или он, Цицерон, станет главным обвинителем по иску против Долабеллы.
Наконец хорошо поставленный, зычный голос тридцатилетнего Цицерона заполнил большой зал – и будто околдовал всех присутствующих. Его учитель Архий мог гордиться учеником: тот говорил без заминок, избегая невнятицы и малейшей тени сомнения, тщательно продумывая фразы. Полная противоположность выступлению его соперника, Юлия Цезаря.
– Достопочтенные patres conscripti, iudices, мудрейшие и опытнейшие мужи, благодарю за то, что дали мне возможность выступить перед вами. – Последнее слово Цицерон произнес с особым почтением, словно желая подчеркнуть, насколько важны те, кого оно обозначает. – Благодарю за то, что позволили мне объяснить, почему это дело должно быть передано опытному человеку, – он снова подчеркнул последние слова, – а не юному, чрезмерно горячему, – тут он повернулся к Цезарю, – порывистому, без сомнения благонамеренному, но слишком простодушному и неопытному обвинителю.
Юлий Цезарь выдержал взгляд противника, не мигнув и не шелохнувшись. Лабиену хотелось встать и ударить Цицерона кулаком в лицо, но было очевидно, что это ничем не поможет его другу.
Всех удивило появление Цицерона в суде и его готовность стать обвинителем против Долабеллы. Но Цицерон с давних пор искал славы в местах отправления правосудия, а дело против ближайшего помощника всемогущего Суллы, которого обвиняли в недостойном образе жизни, могло сильно умножить его известность. Разумеется, если бы он выиграл. Как бы то ни было, он стал говорить, и весьма искусно:
– В первую очередь, Цезарь неопытен. Он уверенно излагал противоречивые сведения, не подвергая их ни оценке, ни толкованию, ни какому-либо разбору. Увы, такое часто встречается в этих стенах – защитник и обвинитель подменяют действительность полуправдой, если не полной ложью. В скольких публичных судах с участием iudices выступал молодой Гай Юлий Цезарь?
Он сделал риторическую паузу.
– «Молодой» звучит как оскорбление, – прошептал Лабиен.
– Я знаю, – подтвердил Цезарь тоже шепотом, не сводя глаз с Цицерона. Тот был хорош, очень хорош. Цезарь не имел права его прерывать. Тем более во время divinatio. Он мог лишь слушать… и учиться.
– А я вам скажу, – продолжил Цицерон, – ни в одном. Наш молодой и деятельный сотоварищ Юлий Цезарь до сегодняшнего дня не участвовал ни в одном судебном заседании и подает иск, не задумываясь, не принимая во внимание сложность дела, потому что я не допускаю ни злого умысла, ни корысти с его стороны: одно лишь полное незнание, которое, увы, объясняется его юностью. – Он вновь повернулся к противнику, который молча сидел на sella, своем стуле, и смотрел не мигая. – Но возможно, жажда известности толкает неопытного законника в открытое море, где он наверняка потерпит крушение вместе со всеми доводами и законами, с помощью которых намерен защищать македонян. – На мгновение он повернулся к македонянам – Пердикке, Аэропу, Архелаю и прочим провинциалам, присутствовавшим в зале, но тут же вновь направил взгляд на строгие лица пятидесяти двух судей. – И чтобы покончить с этим: Гай Юлий Цезарь никогда раньше не участвовал ни в одном публичном суде, а я, Марк Туллий Цицерон, участвовал в трех – трех! – делах, которые к тому же выиграл одно за другим: я защищал Публия Квинктия, Росция Америна и Квинта Росция. Все эти дела были очень сложными и совершенно непохожими друг на друга. Эти три победы свидетельствуют о моей способности умело разбираться во всех тонкостях правосудия, о моей дальновидности и, в конечном счете, работоспособности и беспристрастности, поскольку во всех случаях iudices признали меня правым и каждое из этих дел было рассмотрено на основании моих доводов, а не соображений противостоявшего мне защитника.
На мгновение Цицерон умолк. Уперев руки в бока, он уставился в пол.
Цезарь не сводил с него глаз: противник умело завладел вниманием публики, в ход шли не только слова, но и манера передвигаться по залу, красноречивое молчание, паузы, взгляды. И все это было лишь началом. Если бы обвинителем выбрали его, а не Цицерона, ему пришлось бы иметь дело с защитниками Долабеллы – его дядей Аврелием Коттой и пройдохой Гортензием. Цезарь отыскал их взглядом: оба сидели прямо за Долабеллой, сосредоточенно и внимательно слушая Цицерона, серьезные и напряженные, а ведь во время его собственной неуклюжей вступительной речи они выглядели расслабленными, почти веселыми. Дядя старался не унижать его открыто – было очевидно, что он не желал уязвлять его на суде, по крайней мере без особой необходимости, – зато Гортензий открыто усмехался, когда Цезарь путался в словах, вставлял неловкую фразу, перечисляя имена свидетелей, которых собирался привлечь на будущем суде.
Противник же продолжал говорить…
Цицерон повернулся и обратил взгляд на македонян, которым разрешили присутствовать на суде, хотя по закону они могли участвовать в разбирательстве только через обвинителя, выбранного на предварительном заседании суда. Он смотрел на них строгим взглядом: неопытность кандидата в обвинители была очевидной, но Цезарь привел довод, который мог повлиять на мнение судей, и Цицерон как раз собирался перейти к этому вопросу. Сначала он думал отложить его на потом, но в итоге решил, что концовка его речи, направленной против молодого Цезаря, должна стать поистине сокрушительной. А пока займется делом македонян, обиженных провинциалов…
Цицерон повернулся к судьям, не отнимая руки от боков:
– Македоняне обратились к Цезарю, а не ко мне, дабы он, а не другой римский гражданин выступил обвинителем по их делу. Разумеется, следует учитывать мнение тех, кто подал иск, кто ущемлен предполагаемыми действиями Гнея Корнелия Долабеллы на их родине в годы его наместничества. Они выбрали Цезаря, пожелав, чтобы молодой защитник стал их главным обвинителем.
– Хоть бы он перестал повторять слово «молодой», – пробормотал Лабиен на ухо другу.
– Все так, но давай внимательно послушаем, – так же тихо ответил Цезарь. – Я хочу посмотреть, найдет ли он способ свести на нет то обстоятельство, что македоняне выбрали именно меня. Он сам только что признал, что суд должен принять это во внимание.
– Да, это было одно из самых сильных мест твоей речи, – подтвердил Лабиен. – Но он не станет на нем задерживаться. Перейдет к чему-нибудь другому…
Продолжая смотреть на судей, Цицерон слегка наклонил голову и возобновил свою речь:
– Итак, македоняне желают, чтобы обвинителем был молодой Цезарь, но что известно им о нашей правовой системе, о ее сложностях и тонкостях? Как и большинство провинциалов, македоняне усвоили лишь одно: не будучи римскими гражданами, они обязаны обратиться к полноправному гражданину, чтобы тот выдвинул за них обвинение, если они намерены привлечь к суду другого римского гражданина. Не имея гражданства, они не могут напрямую вести дело против сенатора и недавно назначенного наместника Долабеллы. Вот почему они обратились к молодому Цезарю, первому, кто вызвался им помочь и разрешить их дело. Но помимо того, что они не знакомы со всеми хитросплетениями римского права – ввиду этого оратор, выступающий в базилике, должен иметь обширный опыт, – македоняне не учли, что есть и другие римские граждане, гораздо более искушенные и способные оказать им более действенную помощь. И вот передо мной встает вопрос нравственного свойства: что должен делать в этих обстоятельствах суд? Удовлетворить желание тех, кто чувствует себя обиженным, и назначить обвинителем того, кому они отдали предпочтение? Или, быть может, члены этого quaestio perpetua, особого суда, должны исправить очевидный просчет негодующих провинциалов, взявших в обвинители первого, кто согласился помочь им? Не будет ли правильнее, если судьи, руководствуясь своим опытом и своей мудростью, проявят хладнокровие и назначат обвинителем не того, кого выбрали македоняне, а того, кто наилучшим образом защитит их права? Да, это вопрос нравственного свойства, который я оставляю на усмотрение пятидесяти двух мудрейших iudices и председательствующего претора. Несомненно, они лучше всех знают, как надлежит решать его, и ни я, ни кто-либо другой не должны высказывать никаких суждений по этому поводу.
Цицерон втянул в легкие побольше воздуха, опустил руки и снова прошелся по середине базилики, подбирая слова.
– Но есть одно важное обстоятельство, на которое я вынужден обратить внимание судей. Я уже упоминал о сложности нашего правосудия, но есть и другая сложность, беспокоящая меня гораздо больше. Последствия этого дела для общества и государства могут вызвать отклик здесь, в базилике, на Форуме и во всем городе – резкий отклик как одних, так и других: судят сенатора Гнея Корнелия Долабеллу, виднейшего мужа, некогда близкого к Сулле и его последователям, которые, в свою очередь, противостояли плебейским трибунам и народу в целом. Если бы сенаторы, больше всех радеющие за старые порядки, заподозрили, что обвинение основано на уловках и подтасовках, а не на доводах, доказательствах и законным образом собранных показаниях свидетелей, это могло бы вызвать ярость оптиматов; напротив, если бы плебс почувствовал, что обвинение выстроено без должного усердия и рвения, народ взбунтовался бы и на улицах Рима начались бы беспорядки. Я вижу, мои слова вызвали удивление у публики, моего противника и даже некоторых членов суда. Но вряд ли следует напоминать присутствующим о том, как в последние годы шли государственные дела. Насилие, убийства и даже войны часто и с необычайной жестокостью опустошали наши улицы. Свежи воспоминания о войне против марсов и других союзников, притязавших на римское гражданство; убийства сенаторов-оптиматов и плебейских трибунов также не стерлись из памяти. Последствия этого сложного дела могут вновь зажечь пламя дремлющего, но все еще живого насилия, которое, несомненно, никто не намерен будить. Обвиняемый, имеющий право свободно выбирать защитников, указал на Аврелия Котту и Гортензия, лучших из деятельно работающих нашего города, и, несмотря на возражения возможных противников, которых трудно победить с помощью доводов или же доказательств и свидетельств, это успокаивает меня: я знаю, что защита учтет все перечисленные мною соображения. Но, – он снова повернулся к Цезарю, – стоит ли давать неопытному Гаю Юлию Цезарю право выносить суждение, которое может привести к безумным, безрассудным и насильственным действиям со стороны какой-нибудь партии, а может, обеих партий, до сих пор сосуществовавших относительно мирно?
Он едко улыбнулся, развернулся и снова обратился к суду:
– Вспомним, как кандидат в обвинители представил своих главных свидетелей: жреца храма Афродиты в Салониках и выдающегося строителя, уважаемого римского гражданина. Все прошло хорошо, за исключением мелочи: молодой Цезарь все перепутал, понесся очертя голову, точно это была гонка на квадригах в Большом цирке, а не суд с его продуманной повесткой, и прямо на prima actio, первом заседании, назвал имена свидетелей – отнюдь не ко времени. – Он посмотрел на публику и поднял руки. – Возможно, нашему юному кандидату в обвинители лучше отправиться в цирк, пойти в стойло и дать выход своему кипучему нраву, гоняя на колесницах.
Он опустил руки и издал тихий смешок. То же самое охотно сделала большая часть присутствующих – плебеи, сенаторы и даже судьи.
Цезарь проглотил оскорбление. Вспомнились советы Мария, битва при Аквах Секстиевых и поведение Мария, тщательно выжидавшего, чтобы нанести тевтонам ответный удар: все призывали его к действию, а он медлил, полагая, что еще не время. Цезарь взял себя в руки и смолчал. Он пошел на хитрость, чтобы добиться своего на divinatio, и, несмотря на ущерб, нанесенный Цицероном его репутации обвинителя, все еще хитрил… тихо, незаметно, неустанно.
– Да, в этом деле есть нечто смешное, – продолжил Цицерон так, словно с трудом сдерживал смех, – если бы не то обстоятельство, что поспешность и стремление выдвинуть доказательства против обвиняемого объясняются безудержным желанием нашего юного Цезаря добиться исхода, в котором он не сомневается. Он действует, беря за основу не свидетельства, а личные соображения, о которых я сейчас расскажу подробно. Его поспешность не только вызывает смех, но и доказывает, что выступление, могущее повлечь за собой важные последствия для общества и государства, никоим образом не до́лжно доверять неопытному и горячему человеку. Это надо сделать не только ради тех, кто предположительно пострадал, иначе говоря, македонян, но и ради благополучия римского государства. Вернемся же к намерению Гая Юлия Цезаря поскорее завершить еще не начавшийся процесс, намерению, которое проистекает из явного отсутствия беспристрастности – а беспристрастность, как мы знаем, жизненно необходима в любом судебном разбирательстве. У нас есть право провести reiectio, на котором обвинитель – либо молодой Цезарь, либо я, – а также защитники Долабеллы, Аврелий Котта и Гортензий, могут заявить отвод тем членам суда, которые, на наш взгляд, по той или иной причине не смогут проявлять беспристрастность. Замечу, что начинающий обвинитель превысил свои полномочия, заговорив о свидетелях. Я же в точности следую порядку римского судопроизводства. Итак, об отводах: в большинстве случаев они основаны на связи кого-либо из судей с обвиняемым, будь то семейное родство или деловые интересы. Кроме того, важнейшая задача суда сейчас – установить отсутствие подобной связи между обвинителем и обвиняемым. Ничто не связывает меня с Гнеем Корнелием Долабеллой, кроме римского гражданства. У меня нет с ним ни деловых, ни семейных отношений. Однако… можно ли сказать то же самое о молодом Цезаре?
Марк Туллий Цицерон сделал паузу и нанес последний сокрушительный удар:
– Боюсь, Гай Юлий Цезарь во время этого разбирательства не сможет смотреть на вещи трезво и беспристрастно. Наш молодой защитник – племянник Гая Мария, который в течение многих лет возглавлял популяров, тогда как обвиняемый Долабелла, как мы все знаем, был правой рукой Суллы, вождя оптиматов. И если этого несомненного, хотя и скрытого, противостояния недостаточно, чтобы лишить Юлия Цезаря права быть обвинителем, – он наконец перестал использовать слово «молодой», будто полагал, что ему больше не нужно указывать на неопытность Цезаря ввиду весомости приведенных доводов, – если этого недостаточно, имейте в виду, что Юлий Цезарь женат на Корнелии, дочери Цинны, влиятельного и жестокого сподвижника Гая Мария. Сулла, покровитель Долабеллы, неоднократно призывал к преследованию Юлия Цезаря из-за этого брака и угрожал ему… – Он рассек рукой воздух. – Но не стоит утомлять суд сведениями, которые и без того всем известны. Дело в том, что Юлий Цезарь выступает здесь не в качестве обвинителя по иску о хищении и вымогательстве, Юлий Цезарь ищет личной мести, что не может не настораживать.
Повисла тишина.
Цицерон глубоко вздохнул.
– А требования римского правосудия и многоуважаемого quaestio perpetua, собравшегося в этой базилике для рассмотрения иска о хищении и вымогательстве, не допускают проявлений личной мести. Гай Юлий Цезарь не может и не должен назначаться обвинителем. Его неопытность, ошибки, допущенные им в ходе суда, его родственные связи и пристрастия в государственных делах превращают его из обвинителя в наемного убийцу, посланного приверженцами крайних взглядов, чтобы пролить еще больше крови из-за разногласий. А место это, повторяю, предназначено не для сведения личных счетов, но для законов, законности и справедливости.
Цицерон умолк и опустил руки, измученный, изнуренный своим порывом и яростью своих последних слов. Вся базилика разразилась громовыми рукоплесканиями. Было ясно, кто выиграл divinatio. И кто проиграл.
VIII
Удивительный выбор
Базилика Семпрония, Рим
77 г. до н. э., в тот же день
Это читалось в глазах всех присутствующих, но решать должен был суд. И решение потрясло всех.
Пятьдесят два судьи торжественно покидали главный зал базилики после того, как объявили о единогласном решении, плебеи тянулись к дверям. Сенаторы уходили довольные, убежденные в том, что проделали большую работу, выбрав главным обвинителем по иску против Долабеллы молодого и неопытного Юлия Цезаря. Многие удовлетворенно улыбались. Простолюдины, однако, чувствовали себя сбитыми с толку: Цицерон выдвинул бы гораздо более убедительное обвинение против Долабеллы, знатной особы, одного из приспешников Суллы, – все знали, что внезапное богатство досталось ему самым бесчестным способом. Но мнение плебса, каким бы справедливым оно ни было, не интересовало судей. Доказательства и выступления – единственное, на что они обращали внимание при вынесении приговора. Или же нет? Выбор обвинителя потряс всех. Плебеям оставалось надеяться лишь на то, что Цезарь – достойный преемник Мария, что рано или поздно ему удастся свершить месть: намерение, в котором его обвиняли. Долабеллу ненавидели, и поэтому неопытность обвинителя печалила всех еще больше. Плебеи похитрее разгадали уловку сенаторов, выбравших слабого обвинителя, остальные же, потрясенные неожиданным решением судей, выходили из базилики, не зная, что и думать. Впрочем, Юлий Цезарь сказал, что у него есть свидетели, готовые дать показания против Долабеллы. Это было уже кое-что. Это внушало надежду.
Цицерон, который отнесся к неожиданному решению суда спокойно и без гнева, несмотря на законное разочарование, поспешно собрал все записи. Цезарь, которому, как обычно, помогал Лабиен, возился дольше.
– Нет, Тит, – говорил свеженазначенный обвинитель. – Давай-ка сложим папирусы с обвинениями против Долабеллы в эту корзину, а папирусы с предполагаемыми доводами его защитников – в другую.
Да, он выступил из рук вон плохо, зато теперь с особым тщанием разбирал записи, касавшиеся будущего суда. Решение судей чрезвычайно воодушевило его. Тайный замысел увенчался успехом.
– Мы отлично справились, – заметил он с полуулыбкой.
– Мы? – переспросил Тит Лабиен, удивленный тем, что друг говорит во множественном числе.
– Без твоей помощи меня бы не выбрали, – твердо заявил Цезарь.
Лабиен улыбнулся:
– Да ладно, я стольким тебе обязан. Пора наконец выплачивать долг.
Цезарь знал, что Лабиен имеет в виду события во время осады Митилены.
– Между друзьями нет долгов, – повторил он, продолжая собирать многочисленные папирусы, разложенные на столе.
Лабиен снова улыбнулся. Он знал, что его друг всегда ведет себя так, и все же полагал, что обязан Юлию Цезарю многим, если не всем.
– Однажды я добьюсь того, чтобы ты по-настоящему мной гордился. И не только из-за моей помощи с бумагами или предложений насчет того, как половчее разгромить этого мерзавца Долабеллу, – добавил Лабиен.
Цезарь собирался было ответить, но тут возле них остановился Цицерон:
– Уверен, ты неплохо выступишь во время reiectio и прочих судебных процедур, но вряд ли хоть полдня продержишься перед Гортензием и Коттой. Полагаю, ты догадываешься, почему суд выбрал главным обвинителем тебя, а не меня.
Юлий Цезарь подождал несколько секунд. Он лучше всех знал, что речь его, строго говоря, была провальной, но счел себя обязанным ответить на выпад Цицерона.
– Ты выступал блестяще, зато я привел больше доводов и назвал свидетелей, – возразил он, подчеркивая, что выбор судей оправдан и справедлив. – Ты насмехался надо мной, но суд решил, что мои обвинения убедительнее, а упоминание свидетелей – не ошибка, а дальновидный замысел.
Теперь улыбнулся Цицерон, пусть и несколько развязно.
– Ты ведь даже не догадываешься, почему выбрали тебя. – Он покачал головой. – Клянусь Геркулесом, Гортензию и Котте будет легче, чем я думал, а твой cursus honorum, твое восхождение по лестнице должностей, если ты стремишься к этому, закончится в этой базилике в день суда, ибо суд этот будет самым коротким из всех с начала времен, а все из-за твоего невежества.
Лабиен яростно ринулся к спорщикам и встал между ними. Цицерон отступил. Его помощники тоже двинулись вперед, чтобы встретиться с Лабиеном лицом к лицу. Цезарь взял друга за руку и потянул назад. Но он понимал, что одно дело – не ввязываться в драку, а другое – позволить Цицерону публично оскорблять его посреди базилики Семпрония.
– Они выбрали меня, потому что я собрал больше улик против Долабеллы, вот и все, – вызывающе возразил он. – А ты говорил о государственных делах и родственных связях.
Цицерон сделал знак, и его помощники отошли в сторону.
– Нет, дорогой, все было иначе: ты выложил судьям все, что у тебя есть против Долабеллы, и ничего не оставил про запас, как сделал я. Теперь они знают, что у тебя нет достаточно убедительных доказательств, и Гортензий с Коттой легко смогут все опровергнуть. Ты выдал все, что у тебя есть, и не сумеешь застать их врасплох. Ты даже не догадываешься, с кем имеешь дело. Долабелла непобедим. Надеюсь, твои свидетели доживут до суда.
– Что ты имеешь в виду? – насторожился Цезарь.
– Твоя наивность поражает меня. Я имел в виду лишь то, что сказал: я бы хотел, чтобы строитель и жрец явились на суд живыми и невредимыми. Ты ведь и сам некогда пострадал от жестокости Суллы и его приспешников вроде Долабеллы. Должен ли я объяснять, на что способны сенаторы, когда дело доходит до защиты их интересов?
Юлий Цезарь хранил молчание. Возможно, он поступил неправильно, обнародовав имена своих главных свидетелей так рано, но накануне вечером он понял, что у него слишком мало доводов, и упоминание свидетелей казалось единственным выходом. Надо было доказать плебсу, что он хорошо подготовил дело.
– Ты ведь и сам знаешь, что все это выглядело так себе – выскочка, новичок, ни разу не участвовавший в риторических битвах. – Цицерон подошел ближе. – Они выбрали тебя, потому что ты худший и к тому же не знаешь, что и когда следует говорить. Ты предсказуем и неопытен. И судьи, все пятьдесят два iudices, выбрали самого слабого соперника для своего приятеля, сенатора Долабеллы. На тебя сделали ставку, Гай Юлий Цезарь, потому что ты – худший обвинитель из всех возможных.
Окутавшая их тишина была похожа на плотное облако.
Базилика опустела, остались только Цезарь, Лабиен, Цицерон и двое его помощников.
– Помолчи. Потом поразмыслишь над моими словами, – заявил Цицерон. – Во имя всех богов, быть может, у нас еще есть надежда. – Он сделал глубокий вдох. – Послушай, юный Цезарь, я хочу дать тебе совет. Я дам его тебе, ибо мне не нравятся такие, как Долабелла, и я считаю, что пора положить конец продажности, которая подрывает основы римского государства и может отнять у нас будущее. А ты, хорошенько подумав, сумеешь правильно истолковать мои слова. Быть может, Фортуна, Минерва и прочие боги помогут тебе неожиданным образом, и ты хотя бы немного напугаешь защитников Долабеллы.
– Нам не нужны советы того, кто проиграл divinatio, – презрительно заметил Лабиен, не в силах мириться с пренебрежением, которое Цицерон проявлял по отношению к его другу.
Но Цезарь поднял руку, призывая Лабиена к молчанию.
– Что это за совет? – спросил новоизбранный обвинитель.
Цицерон покосился на Лабиена.
– Это совет не проигравшего, а победителя в трех судах. – Он перевел взгляд на Цезаря. – Не будь обвинителем. Никто не любит обвинителей. Учись быть защитником.
Сделав это заявление, на первый взгляд противоречивое, Марк Туллий Цицерон развернулся и вышел из зала вместе с помощниками.
– Нелепость, – сказал Лабиен. – Защитники – Гортензий и Котта, а ты – обвинитель. В его словах нет ни малейшего смысла. Ты понял, что он имел в виду? Он насмехается над нами. Вот и все.
– Не знаю, что он хотел сказать, – признался Цезарь, – но Цицерон ненавидит продажность так же, как мы с тобой, и в его словах наверняка содержится доля правды, – задумчиво добавил он. – Он не насмехается.
– Но обвинитель не может быть защитником, – настаивал Лабиен. – Это невозможно. Это…
– Похоже на загадку, – перебил его Цезарь, не отрывая взгляда от мраморного пола базилики. – Итак, я должен стать защитником обвинения…
– И то и другое одновременно?
– И то и другое одновременно, – подтвердил Цезарь, подняв взгляд.
– И как это?
– Понятия не имею.
Domus Юлиев
Той же ночью
Они были у себя в спальне.
Они обнимались.
Юлий Цезарь полулежал, привалившись спиной к подушке. Корнелия, свернувшись калачиком рядом с мужем, водила тонкими пальцами по его шее. Он чувствовал, как жена нежно касается его кожи.
– Судьи выбрали меня обвинителем, потому что я худший, – сказал Юлий Цезарь.
– Они выбрали тебя, потому что считают, что ты худший, – отозвалась Корнелия, обращаясь к обнаженной груди мужа, и закрепила сказанное сладким поцелуем в ложбинку между ключицами.
Он улыбнулся, тронутый этим проявлением любви и поддержки:
– Ты всегда добра ко мне и всегда находишь слова, которые меня ободряют. Я отдал бы свою жизнь за тебя.
– Рада, что ты так думаешь, – проговорила она, прижавшись щекой к его груди. – Я много страдала в те месяцы. Было бы куда проще, если бы ты… – Цицерон на суде не стал вдаваться в подробности, и Корнелия не хотела делать этого сейчас. – Все было бы куда проще, если бы ты поступил… так, как требовал Сулла. И все же ты… не покинул меня. Самое меньшее, что я могу для тебя сделать, это быть лучшей женой, прямо здесь, – она перевернулась на смятых простынях и погладила его голой ногой, – лучшей женой всегда и везде. Судьи считают, что ты хуже Цицерона, но это всего лишь их мнение. Ты и только ты, муж мой, можешь доказать, правы они или нет. Думаю, они ошибаются. У тебя есть то, чего они не учли.
Цезарь с любопытством посмотрел на нее:
– Да? И что же?
Она подняла глаза.
– Ты вовсе не плох и не косноязычен, – уверенно сказала она. – Ты притворялся.
Цезарь молчал.
Внезапно Корнелия тоже умолкла. Она знала, что затронула чувствительную струну – именно в этом и состояла хитрость мужа, – и боялась, что Цезарь рассердится на нее, разгадавшую его замысел.
– Да, я притворялся. Я выступал хуже, чем умею, – наконец признался он. – Как ты думаешь, кто-нибудь еще раскусил меня?
– Твоя мать что-то подозревает, но никому не скажет. Сестры ничего не заметили. Они расстроены твоим сегодняшним провалом, хотя и рады, что судьи выбрали тебя, несмотря ни на что. Думаю, дядя тоже не догадался: Котта тебя недооценивает. Как и судьи.
Цезарь внимательно прислушивался к ее словам. Корнелия все подметила. Он всегда считал свою жену умной, но не переставал поражаться ее проницательности.
Корнелия заговорила снова:
– Ты можешь их удивить, и ты их удивишь. Они ожидают слабой речи, но все будет по-другому. Я знаю, ты хорошо подготовился, и знаю, что им станет не по себе. Это меня тревожит, потому что… – Корнелия умолкла и еще теснее прижалась своим маленьким стройным телом к мускулистому торсу мужа. – Почему ты боишься удивить их? Было бы хорошо сбить с них спесь.
Она едва заметно покачала головой, но, зная жену как свои пять пальцев, Цезарь уловил это движение и понял, что оно значит.
– Потому что страх заставит их снова вынести тебе смертный приговор, – сама объяснила она. – Но на этот раз приговор вынесут втайне и без законных оснований: поручат кому-нибудь из наемных убийц зарезать тебя на темной улице.
Цезарь задумался.
Они лежали, слушая, как бьются их сердца, и долго хранили молчание, которое обоим показалось кратким.
Цезарь несколько раз моргнул. Лабиен говорил правду: все, кто пытался что-либо изменить, были мертвы. Любой иск против сенатора-оптимата приводил к кровавой развязке для обвинителя, выполнявшего свою работу на совесть. Долабелла был представителем старого мира, где горстка богатейших сенаторов держала в своих лапах все и вся, помыкая обедневшим плебсом, притесняя не имевших римского гражданства италийцев, которые больше не были хозяевами своих земель, и провинциалов, бессчетное число раз убеждавшихся в том, что римские суды не наказывают провинившихся наместников. Но все должно быть иначе. Если Рим желает процветать и в будущем, он должен полностью измениться, а для этого надо навсегда искоренить продажность.
– Ты действительно веришь, что я смогу все исправить и удивить судей?
– Да, – шепнула она так, будто жалела, что обнадежила мужа.
Еще некоторое время оба молчали.
– Как мне услужить своему супругу? – спросила наконец Корнелия, пытаясь отвлечь Цезаря, чтобы он перестал размышлять о том, как удивить своих противников: она считала, что победа на суде грозит опасностью. Больше всего ей хотелось, чтобы муж проиграл дело. Это было залогом спасения.
– Может, хочешь еще разок?
– Хочу, – подтвердила она, задвинув поглубже мысли о том, что лучше для мужа – выиграть или проиграть дело.
Цезарь принялся гладить Корнелию, начав с ног. Он не спешил. Ощущать пальцами ее нежную кожу доставляло ему огромное наслаждение. Его рука поднялась выше. Корнелия закрыла глаза. Цезарь ласкал жену, улыбаясь, но Корнелия не замечала его улыбки. Он перешел к бедрам. Нет, он не был скверным оратором. Корнелия говорила правду: он притворялся. И он достиг своей цели: его кандидатуру одобрил продажный суд, который искал худшего из возможных обвинителей. Цезарь снова вспомнил слова, сказанные Марием много лет назад в таверне, после драки на Марсовом поле: «Ты можешь притворяться трусом и не быть им, можешь притворяться бестолковым и не быть им. Важно одно: окончательная победа. Пусть тебя называют трусом. Не вступай в бой, пока не будешь уверен в победе. Впоследствии будут помнить только одно: кто победил. Все, что было раньше, стирается из памяти. Запомни, мальчик, и больше не лезь в драку, если не можешь победить».
Он последовал дядиному совету, и у него получилось. Он лишь прикидывался слабым.
Его пальцы проникли между ног Корнелии. Та вздрогнула, не шевельнувшись, – и впустила его руку. Преданная, уверенная, влюбленная.
Цезарь помнил слова Мария и готов был поступать именно так, но не понимал совета Цицерона, данного под конец divinatio: как можно быть защитником по делу, в котором тебя назначили обвинителем?
Детородный орган Цезаря поднялся. Корнелия дышала тяжело и прерывисто.
Есть и другие, более срочные дела.
Цезарь осторожно забрался на прекрасное тело супруги.
Domus Гнея Корнелия Долабеллы
В тот же час
Две рабыни лежали у его ног. Покорные, неподвижные. Они боялись, что хозяин проснется и снова начнет пороть их хлыстом. Уже с давних пор их господин получал удовольствие только таким способом. У одной девушки кровоточила спина, но она сдерживала стоны.
Огромный живот Долабеллы вздымался горой. Он не спал, он просто решил отдышаться. Двигаться с возрастом становилось все тяжелее. Даже удары плетью утомляли его. Но он был счастлив. Divinatio прошла замечательно. По крайней мере, на первый взгляд. Его защитники порвут в лоскуты этого дурачка Юлия Цезаря. Но что делать с дерзким племянником Гая Мария после суда? Возможно, желание Суллы убрать его наконец-то исполнится.
Он улыбнулся. Эта мысль ему нравилась.
Внезапно в голову закралось сомнение: вдруг неоднократные предупреждения Суллы насчет того, что молодой Юлий Цезарь опасен, окажутся верными? Этот мальчик выглядел в базилике таким неопытным, но в прошлом он много раз проявлял недюжинную отвагу. Нет, по правде сказать, Долабеллу вовсе не успокаивал исход divinatio. Он чувствовал себя неуютно. Нужно было выпустить пар. Как-нибудь разрядиться.
Он приподнялся.
Рабыни затрепетали.
Domus Юлиев
Полчаса спустя
Юлий Цезарь склоняется над женой, задыхаясь от наслаждения. Корнелия крепко обнимает его, чувствуя, как он взрывается внутри ее, хочет что-то сказать ему на ухо, но высшее наслаждение захлестывает и ее, на несколько мгновений она немеет. Отдышавшись, крепко прижавшись к мужу, не разжимая объятий, она наконец произносит:
– Уверена, тебе нет равных – и во мне, и в базилике. Ты лучший.
Медленно, очень осторожно, чтобы не сделать ей больно, он выходит из нее и снова ложится на спину. Закрывает глаза.
Любовная схватка окончена, оба дышат уже ровнее. Скоро начнется prima vigilia, первая стража. Ночь окутывает их. Тьма опускается на огромный Рим, рабы в коридоре зажигают факелы, тени дрожат в свете пламени. Никто из рабов не осмеливается войти в спальню хозяев.
Внезапно Цезарь открывает глаза.
– Конечно! Во имя Юпитера! – восклицает он шепотом, будто не желает делиться своим открытием ни с кем, кроме жены. – Я понял, что хотел сказать Цицерон там, в базилике, и это действительно важно.
Он поворачивается к ней, но Корнелия не отвечает. Она безмятежно спит, утомленная страстью, счастливая в своей разделенной любви. Цезарь улыбается, нежно целует ее в щеку, приподнимается, натягивает простыни на себя и жену, обнимает ее и снова укладывается рядом.
– Я буду защитником, Корнелия, а не обвинителем, – продолжает он шепотом, зная, что она не слышит его, и чувствуя необходимость с ней поделиться. – И это лучший выход. Цицерон умен. Нужно соединить его мысли с советами Гая Мария.
Цезарь закрывает глаза.
Гай Марий. Его дядя. Его слова.
Цезарь спит.
Memoria secunda[8]
Гай Марий
Дядя Цезаря
Семикратный консул
IX
Возвращение Мария
Марсово поле, Рим
90 г. до н. э., за тринадцать лет до суда над Долабеллой
– Ну же, вставай, трус! – кричали мальчишки товарищу. Тот, скорчившись на земле, отирал разбитое лицо испачканной кровью рукой.
– Трус, предатель! – выкрикивали все новые и новые голоса. Между тем на Марсово поле, где молодые римские аристократы проходили военную подготовку, обучаясь борьбе, верховой езде и обращению с оружием, стекалось все больше мальчишек и юношей.
Драка в этих местах не привлекла внимания городской стражи, ведь это мог быть учебный бой.
Но на этот раз все было всерьез.
Мальчик, лежавший на земле, был совсем еще ребенком, ему едва исполнилось девять.
Он получил удар ногой в печень.
– Давай же, Юлий Цезарь, вставай и сражайся! Разве ты не потомок богов?
Обступив лежачего, мальчишки смеялись, галдели и обвиняли его в предательстве. А все потому, что… Удары в ребра и лицо сокрушали не только тело, но даже мысли.
Недолго думая, Тит вступил в драку, хотя происходящее скорее походило на самосуд. Он вступился за лежачего потому, что это казалось ему неправильным, жестоким, а еще потому, что он ненавидел несправедливость. Ему тоже еще не было десяти. Благородный, хотя и бедный защитник Цезаря.
– Не трогайте его, гады! – закричал Тит Лабиен.
Нападавшие удивились: неужели кто-то настолько глуп, чтобы встать на его защиту? Их было намного больше. Здесь собралось уже с полсотни мальчишек, хотя зачинщиков было всего трое.
Тит Лабиен видел все с самого начала и, не продумав свои действия, не прикинув возможные последствия, ударил одного из зачинщиков в лицо, другого – в живот. Остальные притихли. Третий нападавший славился своей силой, к тому же его окружала ватага приятелей, думавших так же, как он: Цезарь принадлежал к роду, откуда вышли предатели Сената, а значит, и всего Рима. Разразилась новая война, городу грозила опасность, и эти дети, сыновья сенаторов-оптиматов, слышавшие множество нападок на Юлиев, считали, что на Цезаря и его близких нельзя положиться. Рано или поздно они должны были наброситься на мальчика, который упражнялся в военном деле вместе с ними.
– Мы и тебе воздадим по заслугам, клянусь Юпитером! – яростно выкрикнул третий мальчишка, главный из вершивших самосуд.
– Он даже не из наших, – выпалил кто-то из толпы, желая сказать, что Тит Лабиен был сыном не патриция, а всадника: с точки зрения оптиматов, господствовавших тогда в Риме, всадники стояли ниже патрициев.
Лабиен сглотнул слюну.
Затем сжал кулаки и приготовился защищаться, отражать удары.
В это время Юлий Цезарь с рассеченной бровью и ссадиной на руке поднялся и встал рядом с ним.
– Спасибо, – тихо сказал он.
Времени на разговоры не было. В следующее мгновение все набросились на них, как дикари.
Хаос из рук и ног, ударов, пощечин и даже укусов.
– Что здесь происходит? – раздался голос взрослого, кого-то из ветеранов.
Тому, кто привычен к власти, не требуется повторять вопрос.
Переполох, подпитываемый яростью, прекратился, все разошлись. Одни зализывали раны, другие ощупывали голову, чтобы убедиться, на месте ли она. Цезарь прижимал руку к ребрам. Бок болел сильнее всего, но, кроме того, по лицу струилась кровь. Лабиен потирал плечо, уверенный, что его укусили и что одежда защитила тело.
Гай Марий ждал ответа.
Могучая фигура шестикратного римского консула, ветерана многих войн – африканских и северных, что велись против тевтонов и кимвров, – окруженного охранниками, казалась гигантской на фоне неба, залитого полуденным солнцем.
Все мигом узнали Мария: несмотря на разногласия с оптиматами, Рим по-прежнему украшали статуи вождя популяров. Враги были бы не прочь их уничтожить, но не осмеливались. Даже во время его продолжительных отлучек. По крайней мере… пока.
Цезарь ежедневно видел мраморный бюст дяди в атриуме своего дома. Как ни странно, во плоти Гай Марий казался еще величественнее. Неясно, что действовало сильнее – осанка, решительные манеры или голос. А может, закаленные в боях ветераны, которые следовали за ним повсюду. Или же всё вместе.
С самим же дядей Цезарь встретился впервые. Когда племянник был маленьким, Марий пребывал вдали от Рима, будучи приговорен оптиматами к изгнанию после страшных событий, произошедших примерно за десять лет до того: популяры убили кандидата в консулы Мемия, оптиматы забросали камнями Главцию и Сатурнина. Гай Марий покинул Рим в ту же ночь, и город оказался в руках сенаторов, яростнее всего сопротивлявшихся переменам.
Но Марий вернулся.
Ссора возникла как раз из-за его возвращения. Весь Рим говорил о Марии и об измене союзных городов.
– Драка, славнейший муж, – пробормотал Юлий Цезарь, желая дать исчерпывающий ответ, но при этом не упомянув о том, как она началась и протекала.
Гай Марий медленно обвел взором мальчишек. Все склонили головы, чувствуя, как пристальный взгляд бывшего консула пронизывает их насквозь.
Марий чувствовал, что вызывает у них презрение и страх одновременно. В большей степени страх. Так было со всеми, кроме мальчика, заговорившего с ним, и того, который встал на его защиту. Отсутствуя в городе несколько лет, Марий не знал, кто из двоих его племянник. Правда, первый чертами лица, испачканного кровью, казалось, напоминал Аврелию, невестку Мария. Но он не мог сказать наверняка.
– Кто из вас Гай Юлий Цезарь? – спросил он.
Мальчики помолчали.
Цезарь понимал, что дядя не видел его маленьким и поэтому не узнаёт.
– Это я… славнейший муж, – ответил он наконец.
Марий внимательно посмотрел на мальчиков: «Значит, остальные устроили над моим племянником самосуд». Он вздохнул, не нуждаясь в объяснениях: причина вражды была ясна.
Хорошо, что он поспешил на Марсово поле.
– Следуй за мной, – велел он Цезарю.
Тот на миг повернулся к Титу Лабиену. Цезарь знал его имя. Тит тоже упражнялся на Марсовом поле, но до того они едва ли перекинулись хоть словом.
– Спасибо, – повторил он на прощание.
Лабиен хотел что-то ответить, но тут снова послышался низкий голос Гая Мария, эхом отражавшийся от склона холма:
– Ты, как тебя там, тоже иди. Эти дикари тебя изобьют.
Сыновьям оптиматов пришлось молча проглотить оскорбление.
Тит посмотрел на Цезаря, потом на бывшего консула, кивнул последнему и безропотно подчинился.
Двое мальчиков зашагали следом за Гаем Марием, окруженные его ветеранами.
Х
Только победа имеет значение
На улицах Рима
90 г. до н. э., в тот же день
Быстро шагая, они вскоре достигли Бычьего форума и свернули к реке.
Ни юный Цезарь, ни Лабиен понятия не имели, куда их ведут.
Зато люди бывшего консула знали.
Они добрались до таверн римского речного порта. Гай Марий вошел в самую большую и самую многолюдную. Ветераны расчищали перед ним путь на тот случай, если какой-нибудь зазевавшийся пьяница не успеет вовремя унести ноги.
Марий остановился у лучшего столика возле широкого окна: сидя за ним и попивая доброе вино, можно было наблюдать за кораблями, что направлялись в Остию. За столиком сидели матросы, которые ожидали. Узнав вошедшего и сопровождавших его ветеранов, участников десятков сражений, они поспешно поднялись, склонили головы и удалились, оставив трактирщику несколько монет.
– Садитесь, – сказал Марий племяннику и Лабиену.
Трактирщик подошел к столу.
– Хвала богам! Какая честь, какая честь для моего заведения! – воскликнул он, искренне радуясь. Как и многие жители Рима, он обожал Гая Мария. Всякий раз, когда городу угрожала опасность, тот приходил на помощь. Теперь над Римом снова нависла угроза, и Марий, великий Марий, побеждавший в Африке на севере, в войнах против кимвров и тевтонов, вернулся. Значит, они спасены.
– Поменьше слов, хозяин, – строго, но беззлобно сказал Марий, – и побольше еды и питья. Ты знаешь, что я люблю.
– Да, конечно, конечно… – забормотал трактирщик, удивленно глядя на двух мальчуганов рядом с Марием. – Вино и сыр для всех?
Марий понял, что трактирщик в замешательстве. Посмотрев на мальчиков, он громко спросил:
– Трактирщик хочет знать, мужчины вы или дети.
Мальчики переглянулись – ни один из них еще не носил мужскую тогу, одежду взрослых римлян, – повернулись к бывшему консулу и ответили, тихо и неуверенно:
– Мужчины, славнейший муж.
Затем сглотнули слюну.
Бывший консул видел, что у каждого на шее висит булла, амулет, который носят только дети. Тем не менее он ударил кулаком по столу, запрокинул голову и громко расхохотался. К нему присоединились ветераны и многие другие, включая трактирщика.
В следующий миг бывший консул прекратил смеяться и посмотрел на тех, кто по-прежнему веселился за соседними столами.
– Потешаетесь над моим племянником? – спросил он.
Все разом притихли.
Марий снова взглянул на Цезаря и Лабиена:
– Сегодня утром вы сражались, как мужчины. Глупые, но мужчины. Кровь из ваших ран свидетельствует об этом. – Он обратился к трактирщику: – Ты слышал, это мужчины. Вино и сыр для нас троих. И для моих ветеранов тоже.
Хозяин таверны кивнул и отправился за отборным вином и лучшей снедью.
Марий поднял левую руку, не сводя глаз с мальчиков.
К нему подошел один из ветеранов.
– Немедленно приведи лекаря, – приказал он.
Военный прижал кулак к груди.
– Да, славнейший муж, – ответил он и отправился выполнять приказ.
– Раны нужно обработать, – объяснил Марий мальчикам, внимательно осмотрев лицо племянника. – К тому же матушка не должна видеть тебя в таком виде, иначе все легионы Рима не спасут меня от ее гнева. Разъяренная Аврелия хуже скопища диких тевтонов, вооруженных до зубов. Она способна на все.
Это звучало как шутка, но на сей раз Гай Марий даже не улыбнулся.
Как и Цезарь. Обычно его мать вела себя кротко, но при этом, казалось, была сделана из железа.
– Мы не глупцы, – возразил Цезарь, оскорбленный тем, что дядя приписал их отвагу недостатку ума.
– Клянусь Геркулесом! – воскликнул Марий. – Мой племянник унаследовал от своей матери решительность, даже дерзость. Ты хочешь сказать, что я солгал или сказал что-то глупое?
– Нет, но…
Маленький Цезарь не мог вымолвить ни слова, в горле у него пересохло.
Хозяин таверны вернулся, неся кувшин вина и блюдо с ломтиками выдержанного сыра, а также три кубка из terra sigillata, лучшие в его заведении, которые приносили только в торжественных случаях. Он собирался сам прислуживать за трапезой, но бывший консул жестом велел ему удалиться.
Взяв кувшин, Гай Марий наполнил все три кубка.
– Пей, – сказал он племяннику. – Сейчас это именно то, что нужно. Надеюсь, к тебе вернется дар речи.
Цезарь поднес кубок к губам и сделал пару глотков – достаточно, чтобы спиртное обожгло горло, но слишком мало, чтобы снова почувствовать во рту влагу. Лабиен сделал то же самое.
– Итак, – продолжил Гай Марий, наклоняясь над столом, – вас было двое, а противников сколько? Двадцать? Даже больше, но на вас набросилось около двадцати. По-вашему, это разумно? Как думаете, сколько сражений я бы выиграл, если бы вел себя, как вы? – Он выпрямился, приблизил кубок ко рту, одним долгим глотком опустошил его и поставил на деревянную столешницу, по-прежнему глядя на мальчиков. – Никогда не вступайте в бой, если врагов вдесятеро больше. Это знают даже глупцы, с которыми вы сцепились сегодня утром.
– Но они оскорбляли тебя, – стал оправдываться Цезарь.
– Еще бы. Большинство этих ребят – сыновья сенаторов-оптиматов, моих врагов.
– Что мне оставалось делать? – Племянник Мария по-прежнему считал, что надо ввязываться в драку, даже если у неприятеля полнейшее численное преимущество.
Гай Марий снова склонил свой мощный торс над столом, придвинувшись к своим юным собеседникам:
– Следовало отступить и дождаться более подходящего случая. – Он отвел взгляд и подлил себе вина. У мальчиков его оставалось еще достаточно.
– Ну, хотя бы… – Цезарь заколебался, но в конце концов добавил, защищаясь: – Ну, хотя бы… теперь они знают, что я храбрый.
Марий искоса смотрел на него, держа кубок над столом:
– Именно так, племянник: враги знают, что ты храбрый… и глупый. И твой друг тоже. Кстати, а ты почему полез в драку? И как твое имя?
– Меня зовут Тит. Тит Лабиен, славнейший муж. А в драку я полез, потому что… потому что решил, что самосуд – это несправедливо.
– Вот оно как: еще один отважный глупец. Неудивительно, что вы подружились.
Цезарь покраснел от гнева: дядя выказывал явное презрение к ним. Тит тоже смутился. Самолюбие мальчиков было уязвлено. Они собирались что-то сказать, но их остановила поднятая ладонь Мария. Тот сделал еще один долгий глоток, но не опустошил кубок до конца.
– Меня тоже когда-то считали трусом. Так думали сотни, да что там, тысячи легионеров! Но я не из-за этого вступил в бой, когда всем нам грозило поражение. Друзья мои, – он заглянул в глаза каждому из мальчиков по очереди, вновь нависнув над столом, – я проглотил свою гордость, дождался удобного случая и одержал окончательную победу. Намотайте себе на ус: на войне важна только одна победа – окончательная.
Мальчики недоверчиво смотрели на Мария. Он был не просто победителем. Об этом они знали, как знал весь Рим. Этот человек выиграл не одну, а две войны и много важных сражений. И не только: он полностью преобразовал римскую армию, усовершенствовав ее. Ребята сомневались, что хоть один легионер мог заподозрить Гая Мария, шестикратного римского консула, в трусости.
Бывший консул, казалось, угадал их мысли.
– Серторий! – воскликнул он.
Один из ветеранов подошел к столу.
– Расскажи этим двоим, как все, даже ты, думали, что я струсил.
Серторий нахмурился. О событиях далекого прошлого, когда все заподозрили Мария в трусости, они ни разу не говорили, по молчаливому согласию.
– Ну же, Серторий, – настаивал Марий. – Я воспитываю племянника, и у меня не так много времени. Назревает третья война, меня ждут в войске, так что говори, во имя Юпитера!
Втянув в легкие побольше воздуха, Серторий стал умолять богов, чтобы они подсказали ему правильный ответ. И он не ошибся:
– Это было перед битвой при Аквах Секстиевых, славнейший муж.
В таверне воцарилась тишина.
Все прислушивались к разговору.
– Именно так, – подтвердил Гай Марий, – незадолго до битвы при Аквах Секстиевых. В течение многих дней все мои люди думали, что я, твой дядя Гай Марий, струсил. И знаешь что?
Цезарь покачал головой. Они с Лабиеном во все глаза смотрели на прославленного военного и государственного деятеля. Никто до него не становился консулом шесть раз. С ними разговаривала живая легенда.
Гай Марий снова наклонился над столом и прошептал:
– Не важно, что о тебе думают, понимаешь? – Он посмотрел на Лабиена и добавил: – Понимаете меня, вы оба? Человек не становится трусом из-за того, что кто-то подумал о нем что-то. Трусость обитает в сердце. Я никогда не был трусом. На поле боя я всегда был… умным и расчетливым. – Он вздохнул и откинулся на спинку стула. – В государственных делах, к сожалению, не настолько. Но это другая история. Сейчас я вам расскажу, когда и почему солдаты втихомолку называли меня трусом, не осмеливаясь сказать это в лицо. А еще – когда и как я одержал великую победу, потому что я – вождь, а римский консул должен уметь подавить свою гордость, думать только о пользе Рима и о единственном, что важно, – об окончательной победе. Я расскажу вам о битве при Аквах Секстиевых.
XI
Memoria in memoria[9]
Гнев богов
Рим, 105 г. до н. э.
За двадцать восемь лет до суда над Долабеллой
За пять лет до рождения Цезаря
Их собирались похоронить.
Заживо.
– Нет! Не-е-е-ет! – вопили мужчины.
– Сжальтесь над нами! – причитали женщины.
Рабы. Две супружеские четы. Первая – из Галлии, вторая – из Греции.
Четверых несчастных волокли по Бычьему форуму мимо загонов, где стоял скот на продажу. К яме в середине рынка. Да, их собирались похоронить заживо, как девственниц-весталок, нарушивших священные обеты целомудрия: закопать в землю, чтобы смягчить гнев богов. Римляне не сомневались, что подобная жертва приводит к нужным последствиям, но весталки все это время безукоризненно выполняли свои обязанности. Поражения при Норее, Бурдигале и Араузионе нельзя было списать на святотатство жриц священного огня Весты. И все-таки Рим оказался на краю пропасти. Амброны, кимвры и, главное, грозные тевтоны заполонили юг Галлии, грабя римских союзников. Три консульских войска были разбиты, одно за другим, в ужасных сражениях. С тех пор как Ганнибал напал на Рим и разбил его легионы при Тицине, Треббии, Тразимене, а также в кровавой битве при Каннах, республика, не привыкшая к такой продолжительной череде неудач, трещала по швам. После Канн, когда было уничтожено несколько легионов, охваченные паникой римляне прибегли к человеческим жертвоприношениям. С тех пор этого не делали. Но поражения при Норее, Бурдигале и, наконец, при Араузионе, где погибло целое войско – почти десять легионов, состоявших из римских солдат, союзных сил и вспомогательных частей, – привели их в ужас. Ничего не мешало варварам-северянам захватить Рим. К тому же часть легионов перебросили в Африку, чтобы завершить затянувшуюся войну против Югурты.
Невольники все еще не теряли надежды и умоляли сохранить им жизнь.
Но испуганные римляне были беспощадны.
Весталкам разрешали спуститься на дно могилы по лесенке. А с галльскими и греческими рабами не церемонились: через секунду все четверо оказались в яме.
Раздались крики мужчин и женщин. У некоторых были сломаны кости; женщина-галлка с разбитой головой свернулась калачиком в углу усыпальницы, вырытой в потревоженном сердце Рима, по лицу ее струилась кровь; вторая женщина, невредимая, но покрытая ссадинами, металась по прямоугольной выемке, судорожно обшаривая стены в поисках выступа, за который можно было бы ухватиться и выбраться на поверхность.
– Не-е-е-ет! Ради всех богов! – молил галльский раб, ухватившись за правую ногу, из которой торчала сломанная кость.
Их выбирали наобум – по жребию, не учитывая ни их поведение, ни религию, ни происхождение.
Послышался тяжелый, отвратительный звук: по земле волокли гигантскую каменную плиту. Потом ее надвинули на яму. Небо померкло.
Четверых раненых, испуганных рабов окутал мрак. Вскоре угасли последние искорки света. Только бездонная чернота, в которой, подобно эху, метались рыдания. Людей похоронили заживо в надежде смягчить гнев богов.
XII
Memoria in memoria
Новый Сципион?
Территории, оспариваемые кимврами и тевтонами,
Южная Галлия
105–103 гг. до н. э.
Римские боги сжалились над городом, стоящим на берегах Тибра.
Быть может, страшная жертва пришлась им по вкусу?
Трудно сказать. Так или иначе, кимвры, тевтоны и прочие варвары не двинулись на Рим после Араузиона. Одни задержались в Южной Галлии, другие принялись совершать набеги на Испанию. Это дало римлянам драгоценное время, необходимое для преобразований. Всякий раз, когда Рим стоял между жизнью и смертью, Сенат выбирал лучшего военачальника и ставил во главе нового войска. Против Ганнибала Рим выставил Сципиона Африканского. Теперь ему требовался новый Сципион.
Гай Марий был лучшим полководцем того времени: он положил конец долгой войне с Югуртой и вернулся в Рим, где его сделали консулом. Ему поручили набрать новую армию и отправиться на север, чтобы обезопасить северную границу. Ратному делу он учился в Нуманции под началом Сципиона Эмилиана, приемного внука Сципиона Африканского. Марий не был Сципионом, но больше других походил на легендарного героя, победившего Ганнибала.
Он собрал консульскую армию: два легиона – шесть тысяч пехотинцев плюс две алы, конных отряда. К ним добавились тысячи человек во вспомогательных частях, куда шла римская беднота. Для этого пришлось нарушить все правила набора в войско: римский солдат должен был владеть имуществом и на собственные средства приобретать необходимое снаряжение, от оружия и щита до панциря и хозяйственной утвари. Но Марий знал, что после семилетней войны в Африке Риму не хватает людей, которые соответствуют этим требованиям. В то же время безоружных и нищих плебеев было в избытке. Тысячи людей не имели ничего за душой, им нечего было терять, зато они могли многое получить, сражаясь, если бы им доставили необходимые средства. Было и нововведение – salarium, то есть жалованье. Легионерам выдавали соль, необходимую для хранения продуктов питания. Кроме того, и им, и «вспомогательным» платили звонкой монетой – помимо распределения добычи в случае победы. Для солдат это было хорошей возможностью, и многие из них откликнулись на призыв консула Гая Мария. Собрав до тридцати пяти тысяч вооруженных людей, он двинулся на север.
Сенат с беспокойством наблюдал за неслыханными поступками Мария, в обход законов бравшего к себе римских плебеев. Положение казалось угрожающим. Следовало выставить заслон против кимвров и тевтонов, заполонивших Южную Галлию, ведь дорога на Рим была открыта. Оптиматы, главенствовавшие в Сенате, не препятствовали Марию, но легатом одного из легионов назначили Суллу, одного из крайних оптиматов, которому надлежало присматривать за верховным вождем нового, необычного войска. Это было первое постоянное войско Рима. К чему все это приведет?
Римляне видели, что Марий и Сулла не доверяют друг другу.
Консула сопровождали начальники-ветераны, такие как Серторий, – преданные ему со времен африканской войны люди, которым он слепо доверял.
Так начинался северный поход.
Все выглядело очень непривычно.
Марий ввел не только плату за службу, но и обязательное обучение будущих воинов. Легионеры исправно получали жалованье, но условия службы в лагерях, созданных в Галлии, ужесточились. За образец Марий взял порядки, установленные Сципионом Эмилианом при осаде Нуманции, в которой он участвовал. За спиной у него была долгая война в Африке. Он понимал, что главные условия победы – хорошее обучение и укрепление каждого разбиваемого лагеря, Кроме того, он сократил число рабов, прислуживавших легионерам. Марий намеревался превратить солдат в настоящие боевые машины. Во время длительных походов он заставлял их переносить с места на место тяжелейшее снаряжение, а также столярные и кузнечные принадлежности, домашнюю утварь и прочее. Каждый солдат нес на спине больше сотни фунтов груза. Вскоре в Риме заговорили о том, что Марию нужны не воины, а вьючная скотина. Оптиматы презрительно называли легионеров «мулами Мария». И смеялись. Другие, такие как Метелл Нумидийский и его сын-заика, наблюдали за событиями с растущим беспокойством, не зная, к чему это приведет.
Консул же ни на кого не обращал внимания. Он думал только о том, что его люди постоянно получают жалованье и обязаны его отрабатывать.
Он обосновался со своими войсками в устье Родана[10].
Но кимвры и тевтоны не приближались.
Целый год прошел без сколь-нибудь значительного сражения.
Сенат согласился продлить консульство Мария до 104 года до нашей эры.
Все ожидали, что консул наконец отдаст приказ о наступлении, но Марий медлил. Он закрепился в низовьях Родана и приказал солдатам вырыть канал, чтобы в реку из моря могли проходить римские корабли с провиантом. Это колоссальное сооружение, плод непосильного труда множества легионеров, трудившихся не один месяц, получил название Fossa Mariana – «канава Мария». Марий добился того, чтобы его люди не сидели на месте – работа требовала огромных затрат сил, – и получил надежный, быстрый и прямой путь снабжения, который не могли перекрыть ни кимвры, ни тевтоны, не имевшие флота.
Но вот прошел год: варвары так и не напали на лагерь Мария, а консул не отдавал приказа о большом походе в земли, занятые северными племенами. Варвары наблюдали за римлянами издалека. Никто не понимал, зачем Марий изматывает войско бесконечным ожиданием.
Солдаты изнывали от нетерпения и задавались вопросом: действительно ли их консул, их полководец желает воевать? Начальники-ветераны, которые хорошо знали Мария по африканскому походу, доверяли расчетливому уму вождя. Они догадывались, что у него имеются причины для столь долгого ожидания.
Наступил 103 год.
Все оставалось по-прежнему. Разозленные сенаторы, стиснув зубы, продлили полномочия Мария, ставшего консулом в третий раз подряд. Сулла оставался в строю, наблюдая за происходящим и отчитываясь перед оптиматами, однако теперь он занимал должность трибуна, а не легата. Марий ограничил его власть, так как не доверял ему. Сулла знал об этом – и еще кое о чем: промедление грозило неудачей всему замыслу. Поэтому, когда миновал третий год и боевые действия не начались, он решил покинуть северное войско и вернуться в Рим. Сулла не желал участвовать в походе, который, по его мнению, должен был закончиться грандиозным поражением. Он предпочел снять с себя всю ответственность за войну, чтобы неминуемый провал был целиком связан с Марием. Нельзя сказать, что Сулла расходился с Марием в том, что касалось государственных дел, но с некоторых пор стал сомневаться в нем как в военном вожде.
Как и многие легионеры.
Наступил 102 год.
Поскольку военные начальники сомневались все больше, как-то раз Серторий осмелился сообщить Марию о том, что все больше легионеров беспокоятся относительно судьбы их похода.
– Сципиону Эмилиану потребовалось больше года, чтобы взять Нуманцию. Всего лишь один город. И никто не оспаривал его замыслов. Перед нами – бесчисленные полчища варваров, которые угрожают существованию Рима. Мне кажется, лучше выждать, чтобы положить конец угрозе, пусть даже на это уйдут годы.
Больше он ничего не сказал.
Серторию хватило этого объяснения.
Но… что думал римский Сенат?
Римский Сенат
102 г. до н. э.
Сулла поднялся со своего места и обвел взглядом курию. Стоявший рядом Долабелла смотрел на него с восхищением. Метеллы, отец и сын, обратились в слух. Предстояло решить важнейший вопрос: продлевать или нет консульские полномочия Мария на четвертый срок.
– Patres conscripti, друзья, сенаторы! Положение на севере остается непростым, а четвертое консульство – дело неслыханное, и все же я спрашиваю себя: выиграем ли мы что-нибудь, сменив вождя сейчас? Марий защитил северную границу. Нам всем надоело бездействие, но первыми начнут варвары: без сомнения, в следующем году кимвры и тевтоны двинутся на Рим, и это заставит Мария действовать, хочет он того или нет. Ему придется сдерживать продвижение врага, другого выхода не останется. Это последний год проволочки. Полагаю, будет неразумно доверить укрепление наших рубежей человеку, который ничего в этом не смыслит, а войска – начальнику, который их не обучал, к тому же в негостеприимном краю. Предлагаю продлить консульские полномочия Гая Мария еще на год.
Все проголосовали за.
– Ты действительно думаешь, что это к лучшему? – спросил Метелл-старший Суллу под конец заседания. Рядом сидел его сын, а возле Суллы – Долабелла, его правая рука в Риме.
– Да, я уверен, что это в наших интересах. В интересах оптиматов, – уточнил Сулла.
– Что именно ты имеешь в виду, юноша? Не говори загадками, – потребовал Метелл-старший, вождь консерваторов.
Сулла помрачнел.
– Легионеры разочаровались в Марии, – ответил он. – Когда варвары наконец решатся и нападут, войска не будут доверять своему начальнику, и Мария убьют. Это плохо для Рима, но очень хорошо для нас: варвары возьмут на себя грязную работу, уничтожат Мария и разобьют его войско из оборванцев-плебеев. Придется набрать новое, а между тем мы, прикрываясь необходимостью защиты Рима, сможем перебросить часть своих войск из Африки или Испании. Придется нелегко, зато мы обойдемся без Мария. Популяры будут обезглавлены, мы начнем устанавливать в Риме свои законы, не опасаясь противодействия народа, испуганного приближением кимвров и тевтонов. Эти законы, принятые в отсутствие других предложений, будут защищать наши интересы.
Все согласились с Суллой.
Это был первый и последний просчет, допущенный Суллой в борьбе с Марием.
Главный римский лагерь у «канавы Мария»
Устье Родана
102 г. до н. э.
Марию сообщили о том, что его консульство продлено еще на год. Он знал, что, если не произойдет заметного прорыва и кимвры и тевтоны не будут изгнаны из низовьев Родана, этот срок станет для него последним. И все-таки он не спешил.
Прибыли новые гонцы.
Серторий вошел в преторий консула:
– Варвары зашевелились, славнейший муж.
– Кимвры или тевтоны? – уточнил Марий, усаживаясь за стол, заваленный картами, уставленный пустыми кубками.
Сглотнув слюну, Серторий сообщил подробности:
– Кимвры пока стоят на месте, мой консул, однако амброны и тевтоны движутся прямо на нас. Только что прибыли дозорные. Там тысячи варваров. Десятки тысяч.
Гай Марий кивнул, не отрываясь от карт. Наконец поднял взгляд:
– Когда они дойдут до частокола, дайте мне знать. А до тех пор не мешайте.
Он подлил себе вина из кувшина, стоявшего справа, на столике поменьше.
Серторий наблюдал за тем, как он медленно отхлебывает вино. Ему пришло в голову, что легионеры правы: их консул больше не был победителем Югурты. Марий превратился в пятидесятипятилетнего старика, слабого… и трусливого. Нет, он не походил на нового Сципиона.
XIII
Memoria in memoria
Варвары-гиганты
Καὶ Κίμβροις μὲν ἐγίνετο πλείων ἡ διατριβὴ καὶ μέλλησις, Τεύτονες δὲ καὶ Ἄμβρωνες ἄραντες εὐθὺς καὶ διελθόντες τὴν ἐν μέσῳ χώραν, ἐφαίνοντο πλήθει τ’ἄπειροι καὶ δυσπρόσοπτοι τὰ εἴδη φθόγγον τε καὶ θόρυβον οὐχ ἑτέροις ὅμοιοι. Περιβαλόμενοι δὲ τοῦ πεδίου μέγα καὶ στρατοπεδεύσαντες, προὐκαλοῦντο τὸν Μάριον εἰς μάχην.
Кимвры замешкались, а тевтоны и амброны, быстро проделав весь путь, появились перед римлянами – бесчисленные, свирепые, голосом и раскатистыми возгласами не походившие ни на один народ. Заполонив огромную равнину и став лагерем, они принялись вызывать Мария на бой.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания, Марий, XV[11]
Главный римский лагерь у «канавы Мария»
Устье Родана
Весна 102 г. до н. э.
Огромную равнину, простиравшуюся перед главным римским лагерем, наводняли вооруженные толпы амбронов и тевтонов. Куда ни повернись, на что ни устреми взгляд, кругом – враги Рима.
Марий наблюдал за неприятелем с высоты оборонительного вала. Эти люди дерзко перемещались по земле, которую уже считали своей, и нисколько не страшились близости мощных укреплений; они трижды одерживали победу над римскими войсками, объединяясь для этого с другими варварскими народами. После череды неудач – поражений при Норее, Бурдигале и, главное, при Араузионе – среди легионеров поползли слухи о том, что эти варвары не похожи на прочих: неистребимые твари громадного роста, потусторонние существа, гиганты, способные сокрушить любое войско, которое рискнет с ними сразиться.
Консул молча размышлял. Слухи могущественнее всякого оружия. Сначала надо опровергнуть эту ложь и только затем вести легионы на варваров, заполонивших устье Родана.
Он направился в лагерь, раздавая указания Серторию и другим начальникам.
– Я хочу, чтобы все поднялись на вал и посмотрели на них, – сказал Марий.
Военные трибуны переглянулись.
– Кто это – «все», славнейший муж? – осведомился Серторий от имени остальных начальников. – И что именно они должны увидеть, мой консул?
Они спустились с вала и дошли до высоченного частокола перед лагерем.
Гай Марий смотрел на них, ничего не говоря.
Они растерянно смотрели на него.
Наконец он указал на море палаток, где жили легионеры и воины из вспомогательных частей.
– Все – значит все, – проговорил он и добавил, чтобы все стало ясно: – Я хочу, чтобы легионеры и другие солдаты, все до одного, поднялись на вал и своими глазами увидели, что среди проклятых варваров нет ни гигантов, ни циклопов, ни других мифических существ. Пусть всем моим воинам станет ясно, что мы имеем дело всего лишь с людьми: вооруженными, как и мы, но не настолько привычными к порядку и не имеющими наших начальников. Вот что я имел в виду, говоря «всеми», и вот что они должны увидеть.
Трибуны кивнули. Они поняли, что хотел сказать полководец, поняли и то, чего он не сказал: Марий намеревался положить конец слухам о легендарной силе амбронов и тевтонов. Мысль показалась им блестящей.
Серторий наблюдал, как консул удаляется в окружении охранников. Он подумал: возможно, Гай Марий становится старше и слабее, возможно, он мало напоминает Сципиона, но он по-прежнему хитер. И римляне все еще могут надеяться на победу.
XIV
Врач для юного Цезаря
Таверна на берегу Тибра, Рим
90 г. до н. э.
– Вот так, юноша, мне удалось победить страх моих воинов перед теми, кого звали северными великанами, – объяснил Гай Марий, широко улыбаясь и подливая вина себе, племяннику и Лабиену. – Когда легионеры собственными глазами увидели, что перед ними обычные люди, их поведение изменилось… – Он задумался и замолчал. – Возможно, даже слишком…
– Прибыл врач, славнейший муж, – объявил Серторий, воспользовавшись молчанием, в которое погрузился его командир.
– Кто? – рассеянно спросил Марий. Серторий собрался было повторить, но Марий покачал головой, точно прогонял воспоминания о давнем прошлом. – Ах да, врач. Хороший врач? Моего племянника не может лечить проходимец, выдающий себя за одного из греческих лекарей, которые действительно знают толк во врачевании ран.
– Это врач из валетудинария тех легионов, которые были направлены в Африку, а затем переброшены на север. Они участвовали в том самом походе, о котором славнейший муж рассказывает племяннику.
– Ах вот как! – воскликнул Марий уважительно и даже обрадованно. – Так, значит, добрый Анаксагор жив?
– Я здесь, славнейший муж, – ответил учтивый, опрятный и почтенный старец, перед которым преклонялись все ветераны бывшего консула.
Марий остался сидеть – человек, который шесть раз избирался консулом, не встает ни перед кем, – но кивнул в знак того, что узнал вошедшего и признателен ему. Это само по себе было немало.
– Приятно видеть, что ты все еще среди нас.
– Трибун помнит, где меня найти, славнейший муж.
– Валерий Флакк знает свое дело.
То было высшее одобрение. Бывший консул обычно скупился на похвалы.
– Моего племянника хорошенько отмутузили… и его приятеля тоже.
– Вижу, славнейший муж.
Старец обогнул стол, подошел к мальчикам и положил руку на подбородок сперва одному, потом другому, поворачивая им головы, чтобы хорошенько рассмотреть синяки и ссадины по обе стороны лица.
– Полагаю, смерть им не грозит, но мне бы хотелось вернуть племянника матери в более пристойном виде, нежели нынешний. Глупец ввязался в драку, в которой не мог победить.
Юный Цезарь наморщил лоб и собирался возразить, но Анаксагор снова повернул его голову, чтобы тщательнее изучить следы ударов. Дядя тем временем заговорил снова:
– Да, мальчик. Как бы ты ни возражал, ты совершил оплошность, глупость. Когда ты рискуешь собственной шеей, это называется слабоумием. Но если ты ввязываешься в битву, которую не способен выиграть, и ведешь за собой тридцать тысяч человек, ты не глупец, но убийца… убийца собственного народа. А ведь ты собираешься начальствовать над легионами, верно?
Лекарь отодвинул кубки с вином подальше от своих юных подопечных и разложил на столе врачебные принадлежности. Некоторые раны требовалось зашить. Он попросил у трактирщика горячую воду и чистые тряпки.
– Верно, – подтвердил юный Цезарь, жаждавший последовать примеру дяди. Это было ему не по силам, и все же он твердо решил пойти по дядиным стопам и стать консулом хотя бы единожды. Командовать войском и одерживать победы было заветной, почти недостижимой, мечтой любого маленького римлянина. Консулами становились лишь единицы.
– Тогда научись проглатывать гордость, когда тебя называют трусом, а ты не в силах отплатить за унижение. Не забывай об этом, мальчик: прячь оскорбление поглубже и береги его столько, сколько потребуется – дни, недели, месяцы или годы. Чтобы со временем оно не утратило остроты, чтобы тебе было по-прежнему больно, главное – дождись подходящего мгновения, наилучшего дня, чтобы отплатить за позор, и не ответным оскорблением, а кровью. Точным и смертельным ударом, который уничтожит врага.
Наступила тишина.
Ее нарушал лишь шорох тряпицы, которой врач обтирал поврежденную кожу, и время от времени – приглушенные стоны Цезаря, не желавшего обнаруживать свою боль перед дядей и ветеранами.
XV
Memoria in memoria
Тевтобод
Устье Родана
Весна 102 г. до н. э.
Варвары рассыпались по равнине. Впереди, ближе к римскому лагерю, стояли лагерем вооруженные воины. Позади воинов – тысячи женщин и детей, повозки с пожитками и боевым снаряжением, которые они взяли в долгое путешествие на юг, готовые раздавить любого, кто встанет у них на пути.
Они могли бы двинуться на Италию. Ничто не заставляло их подойти почти вплотную к римскому лагерю. Военачальники Тевтобода не понимали, почему их царь желает остановиться именно здесь, перед римским укреплением.
– Они стоят вплотную к морю, – говорили участники царского совета, собравшиеся в главном шатре огромного лагеря. – И не трогают нас. Мы можем двинуться, оставив их позади.
Многие почтительно кивали, ожидая, что скажет царь. Тевтобод заслужил всеобщую любовь, разгромив римлян. К тому же его подданные годами следовали за ним, обходя всю Галлию, и никакая сила не могла их остановить. К любым его решениям, даже к тем, которых никто не понимал, относились почтительно.
– Мы не можем идти вперед, оставив за спиной отлично снаряженного и вооруженного врага, – сказал царь, не вставая с широкого кресла, стоявшего в середине шатра. Все смолкли. – Что будет, если на пути к Риму мы столкнемся с другим войском? Не окажемся ли мы в ловушке, в гуще неприятелей? Этого нельзя допустить. Лучше сначала уничтожить противника, а затем двигаться дальше. К тому же четвертое поражение за несколько лет посеет панику среди римлян, и они вряд ли наберут вдоволь храбрых солдат, способных драться с нами. Если мы разобьем их здесь и сейчас, наш путь к Риму будет торжественным шествием, не более того.
Один военачальник кивнул. За ним – другой. Наконец все единогласно признали правоту царя.
– Но… – осмелился выговорить один из вельмож, приглашенных на царский совет. Закончить он так и не решился.
– Говори, царь слушает тебя, – сказал Тевтобод.
Вельможа поклонился в знак полнейшей покорности и только после этого договорил:
– Но как мы заставим их, мой царь, вступить в схватку? Мы здесь уже два дня, а они не проявляют никакого желания покинуть лагерь и сражаться.
Тевтобод кивнул.
– Мы их заставим, – резко ответил он.
Римские консулы не раз попадались на эту удочку. С какой стати новый римский вождь будет вести себя иначе?
Главный римский лагерь у «канавы Мария»
Вершина вала
Как и рассчитывал Марий, легионеры собственными глазами убедились в том, что тевтоны и прочие варвары не великаны. До этих пор все шло хорошо. Но затем страх перед чудовищами сменился неукротимой жаждой ринуться в бой. В какой-то мере их желание сражаться было обоснованным: для чего они так усердно упражнялись последние несколько лет? И разве их лагерь не единственная преграда, вставшая между тевтонами и Римом? Разве их призвание не в том, чтобы остановить продвижение варваров? Тевтоны не были гигантами. Отныне это знали все. Так почему бы не начать битву прямо сейчас, до того, как они решат двинуться на Рим?
Стоя на вершине вала, Гай Марий наблюдал за тевтонами, двинувшимися на римский лагерь.
– Вряд ли они действительно решили напасть, – осмелился предположить Серторий, наблюдая за врагами рядом с консулом и его трибунами.
– Вряд ли, – подтвердил Марий. – Они знают, что мы слишком хорошо укрепили лагерь, и не станут бросаться на вал. Мы выкопали рвы и траншеи, где недруга ожидают вбитые в землю колья, возвели прочие оборонительные сооружения, которые не позволят достаточному количеству варваров добраться до палисада и штурмовать лагерь. И варвары это знают. У них не будет времени искать ловушки или нащупывать проходы во рвах, наши лучники изрешетят их стрелами. Их царь задумал что-то другое…
И действительно, на пути к валу тевтонам и амбронам пришлось обходить ямы-ловушки с дном, утыканным кольями, которые многих пронзили насквозь. Нужно было также огибать sudes, колья, вкопанные прямо в землю, которые протыкали воинов или вражеских животных, препятствуя их продвижению и нанося страшные раны. Коротко говоря, путь к палисаду преграждали гигантские ловушки и смертоносные острия в немыслимом количестве.
Если же кому-либо из варваров удавалось подкрасться к валу слишком близко, их встречали стрелы – pilae, – которые, по приказу консула, тучей летели из римского укрепления. Легионеры стойко отражали любую попытку прорваться к частоколу.
– Неужели… – неуверенно начал Серторий.
– Неужели?.. – повторил Гай Марий, побуждая соратника говорить громче.
– Неужели… тевтонский царь жертвует своими людьми… впустую?
Некоторое время Марий молча наблюдал за тем, как тевтоны беспомощно барахтаются в попытке преодолеть римские рвы, ловушки и укрепления.
– Не впустую, – наконец отозвался консул. – Он ожидает действий с нашей стороны.
Тщетные потуги тевтонов еще больше подняли настроение римлян, почувствовавших сильнейшее воодушевление. Избыточное, по мнению Мария. Начальники стали намекать, что стоит воспользоваться приподнятым настроением легионеров, совершить вылазку и броситься на врага.
– Нет, – сухо отвечал Марий всякий раз, когда очередной трибун просил его дать отмашку.
Так прошел день.
Гай Марий с трудом сдерживал нетерпение начальников и простых легионеров.
На следующий день тевтоны – потери стали для них невыносимыми, а римляне все не наступали – начали дразнить противника, выставляя лучших солдат: самые воинственные из них призывали защитников лагеря сразиться один на один.
Это подействовало на римлян и их начальников: несколько центурионов взобрались на вал, встав перед консулом, и предложили вступить в рукопашную с тевтонскими воинами. Но Гай Марий в очередной раз наотрез отказался отвечать на вызов:
– Я не пожертвую ни одним из своих начальников, эти поединки ничего не решат.
Военные трибуны, окружавшие консула, погрузились в напряженное молчание. В борьбе с неприятелем имел значение не только ее исход; поединок был делом чести. А может, они ошибались и Гай Марий разбирался в этом лучше?
Как бы то ни было, он не позволял начальникам покидать лагерь и сражаться с дерзкими тевтонами.
И тогда варвары начали насмехаться над легионерами – заставили раба, знавшего латынь, перевести слова «трусы», «сопляки», «слабаки» и даже «бабы» и принялись выкрикивать их во все горло перед ошеломленными римлянами. Те, сидя за частоколом, молча глотали насмешки, подчиняясь приказу консула.
Один тевтон показал римлянам задницу.
Остальные варвары захохотали.
Гай Марий невозмутимо сносил унижения и гнул свою линию.
– Быть может, если послать несколько когорт, показав, что мы не приемлем унижения, – предложил Серторий, – это успокоит наших воинов?
– Нет. Либо выйдут все, либо не выйдет никто, – возразил консул. – Если мы не выведем всех, те, кто отправится навстречу врагам, окажутся в меньшинстве и будут уничтожены. Нельзя сражаться, когда у тебя за спиной река. Это смертельная ловушка. Так случилось при Араузионе, где варвары перебили несколько легионов.
Повисло молчание.
Снова послышались крики тевтонов: враги насмехались, выкрикивая оскорбления.
– Romani, quid uestris mulieribus mittere uultis? Quoniam illae nostrae mox erunt![12] – вопили тевтоны во всю глотку, подобравшись вплотную к валу.
Эти слова особенно больно ранили легионеров, но Марий оставался непреклонен: он не позволит ни одной когорте покинуть лагерь, такая затея неразумна и самоубийственна. Самое меньшее – это обернется бессмысленной потерей солдат, которые понадобятся ему позже.
Наступила ночь.
Военачальники разошлись.
Марий направился к своей палатке.
– Со всем уважением, виднейший муж… – начал Серторий.
– Говори, трибун.
– Если… если это место не годится для нападения, почему мы разбили здесь лагерь?
Вопрос был уместным.
– Здесь легко получать припасы по морю из Рима, и тевтоны никоим образом не могут этому помешать, – объяснил консул. – Но это не место для боя. При Норее и Бурдигале наши войска попали в засаду, а при Араузионе им пришлось сражаться, отступая к реке. Не хочу повторять ошибок других консулов. Мы будем воевать там и тогда, где и когда я сочту это уместным. У меня единоначалие, я не признаю разногласий. При Араузионе свара между консулами, возглавлявшими два войска, привела к полному провалу, поэтому я обратился к Сенату с просьбой о единоначалии; мы будем сражаться только в том месте и в то время, которые выберу я.
– Да, славнейший муж.
Ἐπορεύοντο δ’ἐγγύς, πυνθανόμενοι τῶν Ῥωμαίων μετὰ γέλωτος, εἴ τι πρὸς τὰς γυναῖκας ἐπιστέλλοιεν· αὐτοὶ γὰρ ἔσεσθαι ταχέως παρ’αὐταῖς.
Проходя под самым валом, тевтоны со смехом спрашивали римских солдат, не желают ли они что-нибудь передать женам, ибо скоро тевтоны будут в Риме.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания, Марий, XVIII, 2
XVI
Memoria in memoria
Вызов царя
Главный римский лагерь у «канавы Мария»
102 г. до н. э.
Третий день подряд тевтоны дразнили римлян, вплотную приблизившись к их лагерю.
Консула разбудили на рассвете.
Тевтоны подготовили свой главный вызов.
– Что на этот раз? – спросил Гай Марий, пока пара военных колонов поправляла ремни на его доспехах.
Ни Серторий, ни прочие трибуны не осмелились ответить.
– Они предлагают… единоборство, славнейший муж, – наконец произнес Серторий под пытливым взглядом полководца, хотя по неопределенности его ответа Марий понял: в это утро что-то изменилось.
Он не стал ничего спрашивать. Разумеется, доверенному трибуну хотелось, чтобы Марий собственными глазами увидел тевтонов с высоты укрепления.
Когда они добрались до вала, перед Марием предстали сотни легионеров, которые сидели на вершине укрепления и смотрели на равнину. Быть может, тевтоны оставили большого деревянного коня и отошли, усмехнулся про себя консул. Тогда следует немедленно сжечь коня с затаившимися внутри тевтонами. Но взобравшись на вершину частокола, консул забыл об «Илиаде»: перед варварским войском стоял воин в серебряном панцире, сверкавшем под лучами утреннего солнца. В руках он держал длинный меч и зеленый овальный щит с золотыми заклепками, сиявшими едва ли не ярче его доспехов. Только очень высокопоставленный варвар мог похвастаться такими выдающимися средствами нападения и защиты.
– Кто это? – спросил консул, не сводя глаз с воина, выглядевшего свирепо и внушительно.
– Он утверждает, что он… их царь, – уточнил Серторий.
Гай Марий кивнул. Он понимал, в чем дело, и это ему не нравилось. Не согнать ли с вала всех, кроме часовых? Несколько дней назад он приказал легионерам подняться на вершину и убедиться в том, что перед ними всего лишь люди, но сейчас отдал бы все на свете, чтобы они ничего не видели. Воин, назвавшийся тевтонским царем, выкрикнул несколько слов. В этот миг консул взмолился, чтобы его люди еще и ничего не слышали. Поздно. Серторий и другие начальники отправились за ним в преторий, потому что тевтонский царь несколько раз произнес его имя. Он говорил на латыни, и легионеры хорошо понимали его, несмотря на сильный немецкий выговор:
– Ego, Teutobod, Teutonorum rex, deposco romanum consulem Caium Marium ad singularem pugnam. Si uirtutem habet et socors non est![13]
Вот какими были его слова.
Стоявшие на вершине вала легионеры отчетливо слышали их и сразу же начали переговариваться с товарищами, столпившимися у подножия укрепления. Вскоре все войско уже знало о вызове царя-тевтона их консулу, военачальнику. Должен ли славнейший муж, возглавляющий римские легионы, переброшенные на север, оставить дерзкий вызов без ответа?
Гай Марий молча стоял на вершине вала, подобно мраморной статуе.
Тевтонский царь повторил сказанное. Он не желал, чтобы консул мог трусливо оправдаться: «я плохо расслышал», «я недопонял». Сделав это, Тевтобод посмотрел на римского раба, который перевел для него латинские фразы. Раб кивнул, подтверждая, что германский царь, вызубривший их за ночь, изъясняется достаточно внятно.
Затем Тевтобод обвел взглядом римлян, наблюдавших за ним из-за частокола. Он заметил, что головы легионеров повернуты к вершине вала, где неподвижно стоял, окруженный своими военачальниками, величественный мужчина с седыми волосами, в сияющих доспехах, без шлема, который пристально глядел на него, Тевтобода. Германский царь понял, что это вражеский консул.
Гай Марий размышлял.
Кровь кипела у него в жилах. Может, все-таки принять вызов? Он был объят жаждой выйти и сразиться, той самой, которая уже несколько дней снедала все войско. Норея, Бурдигала, Араузион. Три жесточайших поражения. Десятки тысяч убитых легионеров. Могущество Рима поколеблено, стало предметом насмешек, почти уничтожено. Все в нем требовало отмщения.
Выяснив, где стоит Гай Марий, царь тевтонов сделал несколько шагов наискосок и оказался прямо напротив него, совсем близко к частоколу, но все же на разумном расстоянии, вне досягаемости вражеских дротиков.
Оттуда он произнес вызов в последний раз, глядя на неподвижного римского вождя:
– Ego, Teutobod, Teutonorum rex, deposco romanum consulem Caium Marium ad singularem pugnam! Si uirtutem habet et socors non est!
Гай Марий чувствовал, что на него устремлены глаза начальников, легионеров, солдатских рабов, всего войска. Он знал, что должен сделать то, о чем вопиет все его существо. Но его разум непобедимого воина повелевал поступить иначе. Порядок в войске, если правильно его понимать, следует наводить начиная с себя. Если бы нечто подобное произошло пятнадцатью годами ранее, он надел бы шлем, застегнул потуже панцирь и обнажил меч. Но время многому учит. Ему пятьдесят пять, у него огромный опыт, но он уже не так быстр и силен, как раньше. Он пристально рассматривал тевтонского царя: сколько лет этому северному вождю? Тридцать, не больше. Молодой, в расцвете сил, он был могучим и мужественным, двигался споро, обладал мускулистыми руками и крепким торсом. Гай Марий сглотнул слюну: если он ответит на вызов, то проиграет бой. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять это. И все-таки он должен что-то сделать. Нельзя оставлять вызов без ответа.
– Серторий… – сказал он наконец.
– Да, славнейший муж, – быстро отозвался тот, зная, что обрадуется всему, кроме бездействия полководца.
– Позови Агенобарба, – приказал Марий.
Серторий не понял.
– Агенобарба? – в замешательстве переспросил он. – Того, кто обучает воинов?
Гай Марий привык не объяснять, а отдавать приказы. Он медленно повернулся: вопрос его явно раздражал. Лишних слов не потребовалось.
Поклонившись, Серторий отправился на поиски самого жестокого и умелого наставника в северных легионах. Агенобарб был тридцатичетырехлетним центурионом, примипилом, имевший несколько наград за боевые заслуги. Никто не мог одолеть его в рукопашном бою, и потому он начальствовал над всеми военными наставниками римских сил, собравшихся у «канавы Мария».
Вскоре между шеренгами легионеров показался Агенобарб, шагавший вслед за Серторием. Поднявшись наверх, он предстал перед консулом.
– Панцирь, шлем, меч и щит. Вооружись, Агенобарб, – приказал ему консул. – Ты ответишь вместо меня на вызов тевтонского царя.
Среди центурионов воцарилась гробовая тишина. Чувствовалось, что они разочарованы приказом и не согласны с ним, однако никто не осмеливался его нарушить.
Тренер кивнул, развернулся и отправился за панцирем, шлемом и оружием. Вскоре ворота открылись, и вышел Агенобарб с мечом на поясе и поднятым щитом, готовый вступить в смертельную схватку с царем.
Тевтобод увидел, как на него надвигается вооруженный римский военачальник, такой же могучий и зрелый, но не старый, такой же, как он сам, тоже готовый к схватке. Однако он не был консулом, не возглавлял вражеское войско.
Агенобарб быстрым шагом, почти рысью, двинулся навстречу противнику и остановился в нескольких шагах от него.
Тевтобод посмотрел на римского воина, затем перевел глаза на вал, откуда за ними наблюдал консул. Презрительно покачав головой, он плюнул, в ярости бросил меч и щит, которые с громким лязгом ударились о галльскую землю, и выкрикнул на латыни оскорбление, даже не обратившись к рабу-переводчику, поскольку тевтоны называли так римских легионеров.
– Socors![14] Socors! Socors! – трижды выкрикнул он, глядя на вершину вала. Затем развернулся и зашагал к своим, подняв руки в знак победы, и снова и снова повторяя оскорбление: – Socors! Socors! Socors!
Сопровождавший его раб и стоявшие поблизости тевтоны подобрали оружие и поспешно удалились.
Агенобарб остался один. Он колебался, не зная, что делать. Посмотрел на частокол, на консула, который по-прежнему неподвижно стоял на вершине. Наконец, поняв, что ему незачем оставаться за пределами укрепления, Агенобарб развернулся и двинулся к воротам римского лагеря.
В то утро тевтонский царь и римский консул так и не сразились друг с другом.
Ночью, при свете костров, на которых легионеры готовили ужин, слышалось смутное, но не утихающее бормотание. Все повторяли одно-единственное слово: socors, socors, socors…
Казалось, весь римский лагерь был охвачен печалью и величайшем разочарованием.
Укрывшись в палатке, Гай Марий в одиночестве выпил кубок вина с терпким привкусом трусости. Или же кисло-сладким привкусом мудрости?
Явился Серторий – узнать условное слово для часовых и ночных дозорных, следивших за противником: не пойдет ли он на приступ?
– Победа, – сказал Гай Марий.
Серторий не удержался – лицо его исказила кривая полуулыбка. Он попытался скрыть ее, отвернувшись в сторону, но консул все видел и был уязвлен.
– Ты тоже думаешь, что я трус? – (Серторий оставался безмолвным.) – Твое молчание – самый красноречивый и исчерпывающий ответ, трибун, – пробормотал Марий. – Оставь меня в одиночестве, именно это мне нужно сейчас.
Трибун покинул шатер и остановился в нерешительности. Он чувствовал себя так, будто предал своего начальника. Покачал головой и зашагал во тьму, чтобы сообщить условное слово дежурным начальникам.
Гай Марий налил себе второй кубок, и на этот раз вино, казалось, было хуже первого: даже самый преданный ему начальник считал его трусом. Как скоро забываются победы недавнего прошлого, как слаба память у легионеров, центурионов и трибунов. Да, все решили, что он трус: так думают не только его воины, но и тевтоны, а теперь и вражеский царь. Отныне Тевтобод станет его презирать, это уж точно.
Что ж, Тевтобод недооценивал его полководческие способности.
Но всему свое время.
Гай Марий улыбнулся, наливая себе третий кубок.
Настанет день, когда он застанет царя врасплох. Надо лишь подождать.
Пусть первыми нападут тевтоны.
Многократный римский консул залпом опрокинул третий кубок. На этот раз вино будто бы стало слаще.
XVII
Memoria in memoria
Нападение тевтонов
Устье Родана, Южная Галлия
102 г. до н. э.
Равнина перед римским лагерем
Как и предполагал консул, терпение взбешенного Тевтобода лопнуло очень скоро: на следующий день тевтоны яростно набросились на римский лагерь. Это не было тщательно продуманным нападением. Бесконечная уверенность в собственном превосходстве, обретенная за недели оскорблений и унижений в адрес малодушного врага, убедила северного царя, что перед ним всего лишь войско наподобие тех, которые он громил при Норее, Бурдигале и Араузионе. Подбадривало его и еще кое-что: над этим войском, со всей очевидностью, начальствовал трус.
Римский лагерь
Гай Марий снова поднялся на вал, чтобы проверить оборону лагеря.
– Это не просто стычка, – сказал ему на ухо Серторий. – Он ведет сюда все свое войско. И это не подстрекательство. Ему все равно, отзовемся мы или нет: он хочет ворваться в наш лагерь и разорвать нас на части, славнейший муж.
– Так и есть, он действительно готов на что угодно и ведет сюда весь свой народ, – подтвердил Марий, как обычно спокойный и невозмутимый, хотя десятки тысяч тевтонов и тысячи их союзников двигались к частоколу.
Но римляне не зря потратили месяцы на укрепление обороны, выполняя распоряжение консула: вырыли еще больше траншей и рвов, вбив в дно острые колья и засыпав их сухим хворостом, подновили частокол, построили сторожевые башни, расставив повсюду лучников, – отныне у лагеря не было ни одного слабого места. По всему валу дежурили легионеры, держа наготове тысячи копий, дабы по приказу консула метнуть их в неприятеля. Все по-прежнему были озлоблены и разочарованы главноначальствующим, но теперь на них надвигались варвары, и оставалось лишь выполнять приказы. На сей раз консул не мог оставаться в стороне. Он приказал метать в противника дротики, копья и все, что имелось под рукой. Отныне каждый легионер горел желанием убивать проклятых варваров, которые так долго насмехались над ними, хотя и с большого расстояния. Римские солдаты не теряли надежды, что в разгар жестокого боя консул отдаст повеление выйти из лагеря.
Тевтонское войско
Тевтоны двигались – нестройными рядами, но решительно – к римским укреплениям.
Вскоре среди варваров появились первые жертвы. Многие падали в канавы и рвы, прикрытые ветками. Вопли врагов достигали ушей вооруженных до зубов легионеров, ожидавших на вершине вала.
Тевтобод тоже приближался к лагерю – не в числе первых, но все же в составе передового отряда своего огромного, беспорядочного войска. Он видел, как его люди там и сям гибнут в римских ловушках, – но ему с самого начала было ясно, что он потеряет много солдат. Царь знал о смертоносных ямах и рвах после нескольких показных нападений, произведенных им в последние дни, и приготовился к тому, что немало тевтонов погибнет. Слепая ярость, самолюбие, задетое презрением римского консула, не ответившего на вызов, и стремление поскорее покончить с лагерем, чтобы двинуться на Рим, не оставив за спиной неприятеля, помешали ему как следует все продумать. Так или иначе, у него имелись тысячи и тысячи воинов – намного больше, чем у римлян: он мог позволить себе жертвы, много жертв. Тем не менее он остановился на благоразумном расстоянии от вала, не собираясь рисковать жизнью. Одно дело – сражаться врукопашную с вражеским вождем, другое – глупо погибнуть от стрелы, выпущенной из укрепления.
Тевтоны падали сначала десятками, затем сотнями, но все же они обходили рвы и ямы, куда успели угодить их товарищи – из-за чего ловушки пришли в негодность, – и в конце концов добрались до частокола.
Римский лагерь
Марий молча наблюдал за приступом.
– Убирайтесь отсюда! Прочь! Ради всех богов! – воскликнул он с вершины частокола.
Для Сертория и остальных начальников приказ прозвучал подобно сладчайшей музыке – у них уже мелькнула мысль, что полководец не проронит ни слова в течение всего боя.
Солдаты из вспомогательных частей пускали стрелы с башен, легионеры метали сотни копий в передние ряды приближавшихся тевтонов.
Варвары гибли без счета.
Серторий посмотрел на консула, не говоря ни слова, но разочарование, владевшее им в последние дни, сменилось восхищением: сдержанность консула настолько вывела из себя тевтонского царя, что Тевтобод начал приступ, заведомо обреченный на неудачу.
Тевтонское войско
Ряды тевтонов стремительно редели, однако Тевтобод не собирался давать приказ об отступлении. Он уже сокрушал оборону других римских лагерей. В рукопашном бою его люди всегда превосходили римлян. Главное – прорваться на вершину вала, и тогда победа будет за ними.
Римский лагерь
На вал по веревочным лестницам полезли первые тевтоны. Легионеры спешно перерезали веревки, но у основания стен скопилось слишком много врагов, а лестниц было столько, что некоторые тевтоны уже карабкались вверх, несмотря на сыпавшиеся дождем римские стрелы и копья.
– Пращники, – спокойно распорядился Гай Марий, поскольку кое-кто из тевтонов устремился прямиком к тому месту, где стоял он. Военачальники стали доставать мечи, чтобы остановить врагов, достигших вершины.
Внутри лагеря, у подножия вала, сотни пращников вскинули свои орудия, и воздух наполнился грозным свистом свинцовых снарядов – glans plumbea, – пролетавших над головами легионеров. Они стали хорошим дополнением к дротикам и копьям, ибо многие легионеры, вступавшие в ближний бой, выбывали из строя. Благодаря приказам консула смертоносный дождь из железа и свинца, лившийся на врага, не ослабевал ни на минуту.
Тевтонское войско
Тевтобод наблюдал за ходом сражения в удобном месте, будучи недосягаем для вражеских снарядов. Многие его воины пали, но кое-кто уже сражался на вершине укрепления.
Римский лагерь
– Возможно, консулу следует перебраться туда, где безопаснее, – сказал Серторий.
Услышав эти слова, Марий медленно повернулся и бросил на него презрительный взгляд.
Трибун поклонился, поднес кулак к груди, обнажил меч и встал рядом с консулом. В эту минуту первые тевтоны достигли вершины вала.
Рукопашная схватка за вал была беспощадной и кровавой. В последние годы тевтоны неизменно одерживали верх в подобных побоищах, но недаром Марий так усердно готовил своих людей: дрессировал бойцов, как зверей, заставлял круглосуточно сражаться друг с другом под руководством лучших наставников. Воины Мария отличались от обычных римских легионеров. Упражнения были еще одним новшеством, которое он ввел. Тевтонов поражала невиданная стойкость римских солдат в рукопашном бою. Большинство варваров были повержены. Лучники вспомогательных частей неустанно обстреливали с башен наступавших врагов, пращники метали свои снаряды.
Все больше тевтонов гибло.
Легионеров, раненных или даже убитых на вершине укрепления, было бессчетное множество – но несравненно меньше, нежели выведенных из строя противников.
Тех немногих тевтонов, кому удавалось вскарабкаться на укрепление, мигом окружали римские центурии, и солдаты безжалостно убивали врагов. Был отдан приказ: пленных не брать. Мария не заботила ни военная добыча, ни будущие рабы. Он думал только об опасности, грозившей Риму. Многие самопровозглашенные вожди путают избыточное с необходимым, не заботясь об истинно важном, и идут к полному провалу. Захват пленников сейчас был второстепенной задачей по сравнению с главной – окончательной победой над тевтонами.
Тевтонское войско
Германский царь опустил голову и сплюнул себе под ноги. Он оглянулся: больше двух третей его воинов остались в живых. Если бы он отдал приказ об отступлении в эту минуту, то спас бы немалую часть оставшихся, которые сражались у стен укрепления. Он потерял много людей, но эта утрата никак не меняла его намерения вторгнуться в Италию. Пока все казалось поправимым. Нет смысла, решил он, продолжать наступление, истощившее войско, чтобы получить ничтожную долю желаемого, а то и не получить ничего.
Благоразумие пересилило ярость.
– Велите отступать, – сказал он начальникам.
Потом развернулся и зашагал в сторону своего лагеря.
Римский лагерь
Серторий заколол тевтона, приближавшегося к консулу. У Гая Мария участилось дыхание, но он не утратил выдержки – положил руку на рукоять меча и готов был его обнажить, когда кельтские рога возвестили тевтонам, что царь приказал отступать. Серторий бросился на одного из германцев, который замешкался, услышав пение рога, и поспешно пронзил его насквозь, а затем столкнул вниз. Остальные начальники последовали его примеру и прикончили других тевтонов, которые достигли вершины вала и лишились поддержки отступавших товарищей.
Вскоре все было кончено.
Марий обозревал горы трупов, оставшихся после неудачной попытки тевтонов овладеть римским лагерем. Раненых забирали, убитых оставляли на земле. Консул чувствовал на себе взгляды начальников. Он знал, о чем они думают: пришло время отдать приказ о наступлении и накинуться на тевтонов, воспользовавшись всеобщим подъемом после успешного отражения вражеского приступа. Но Марий лишь приказал нести дежурство на башнях, а во время ужина раздать солдатам достаточное количество воды и двойную порцию пищи. Вина в тот вечер не наливали. Марий не хотел, чтобы воины захмелели: тевтоны могли решиться на повторное наступление.
Он удалился в палатку.
Нового приступа не последовало.
Стоя на вершине одной из башен, Серторий несколько секунд смотрел вслед отступающим тевтонам, затем перевел глаза на палатку консула. Хотя многие легионеры были разочарованы, ибо так и не дождались приказа о преследовании, трибун понял, что он многому научился: важно не выиграть битву, а одержать победу в войне.
XVIII
Memoria in memoria
В Рим
Устье Родана, Южная Галлия
102 г. до н. э.
Тевтонский лагерь
Собравшиеся в царском шатре советники Тевтобода отчаянно спорили: одни выступали за то, чтобы на рассвете снова пойти на приступ, другие советовали поджечь укрепление. Никто не полюбопытствовал, что думает по этому поводу царь.
– Выходим, – отрезал Тевтобод, хмуро уставившись в пол. Когда он поднял взгляд, на лицах его приближенных читалось сомнение. – Мы не пошли на Рим, когда за спиной стояла могучее вражеское войско во главе с отважным консулом. Но мы можем спокойно оставить позади трусливого начальника с перепуганными солдатами, которые не осмеливаются выйти из укрытия. Сражаясь внутри укреплений, они не остановят нас. Так что выходим. На рассвете.
Советники кивнули.
Слова царя звучали здраво: если римский консул умеет лишь защищать лагерь, он не опасен. Это не может помешать походу на Рим.
Римский лагерь
На рассвете следующего дня трибуны вновь потребовали у Мария пронаблюдать с вала за передвижениями тевтонов.
– Они уходят, – заметил Серторий. – Совсем. Забирают свой скарб и повозки.
Так оно и было. Покидая окрестности «канавы Мария», варвары двигались прочь от устья Родана: на восток, в Италию, вдоль побережья Внутреннего моря – Mare Internum[15], – имея конечной целью Рим. Бесконечная вереница людей и мулов быстро удалялась. Большинство воинов шагало в передней части колонны, за ними следовали повозки с продовольствием и военным снаряжением. «Хвостом» бесконечной тевтонской змеи были телеги с женщинами и детьми, которых охраняли воины.
Что ж, это было предсказуемо: либо они нападут снова, либо уйдут. Тевтоны не слишком любили осаду. Единственной, которая пришлась бы им по вкусу, была осада Рима. В этом случае они могли ждать столько недель или месяцев, сколько потребуется.
Марий, как обычно, хранил молчание. А трибунам хотелось, чтобы он немедленно распорядился наступать: враг вывел на открытую местность не только воинов, но также женщин и детей, что делало его войско более уязвимым.
Но консул не отдавал никаких распоряжений.
Некоторые тевтонские воины, проходившие близ вала, грозили кулаком, делали непристойные жесты и выкрикивали оскорбления на своем языке: римляне не понимали слов, но улавливали смысл. По приказу Тевтобода тевтоны подходили к римским сторожевым башням и повторяли выученные наизусть латинские фразы, рассказывая, как будут глумиться над легионерскими женами после взятия Рима. Затем хохотали и удалялись.
А легионеры гневно плевали на землю, сглатывали слюну и ярость, косились на консула – тот, как всегда, был невозмутим и ничего не предпринимал.
И легионеры, и их начальники уже привыкли к тому, что консул не делает ничего, поэтому их удивило внезапное распоряжение Мария.
– Пусть легионеры соберут самые необходимые вещи для многодневного похода, – приказал он, спускаясь с вала по деревянной лестнице, – оружие, щиты, повседневную утварь, то, чем копают. Мы отправляемся через… – Он посмотрел на солнце. Было еще рано, и он не хотел, чтобы тевтоны видели, как он покидает лагерь, но следовало сполна использовать остаток дня, чтобы враг не получил слишком большого преимущества. – Через два часа, – отрезал он.
Трибуны не верили своим ушам.
Наконец-то консул проявил себя как настоящий вождь, и после долгих месяцев, проведенных в устье Родана, они тронутся в путь.
– Ступай в мой шатер, – добавил он, глядя на Сертория.
Тот последовал за консулом в преторий.
Войдя внутрь, Марий развернул лежавшую на столе карту Южной Галлии и указал на точку: город-государство Массалия[16], расположенный примерно в шестидесяти милях к востоку.
– Они пройдут здесь, но я собираюсь их опередить, – начал консул. – Я хочу встретить их здесь: это Аквы Секстиевы. Враги могут напасть на колонию, а могут и не напасть, но я хочу, чтобы мы прибыли раньше и остановились на одном из холмов. Мы будем далеко от реки, а значит, далеко от воды; это затруднит снабжение. Неподходящее место для того, чтобы выдерживать осаду длиной в несколько недель наподобие этой, но оставаться там долго я не собираюсь. Я брошу против них легионы. Тевтоны, амброны и их союзники пойдут туда по главной дороге, и их так много, что они займут всю эту землю, – он указал на карту; ошеломленный Серторий никак не мог поверить, что консул задумал это уже давно, много месяцев назад. – Нам придется отклониться и обогнать вражескую колонну, идя вдали от моря или вдоль побережья, но главное – напрямик. Это будет непросто. Справятся ли наши легионеры?
– Справятся, – кивнул Серторий. – Все эти месяцы они не сидели сложа руки – рыли оборонительные траншеи и рвы. Они сильны и рвутся в бой. Если мы сообщим, что отклоняемся от удобной главной дороги, чтобы обогнать врага и напасть внезапно, их сандалии полетят над галльской землей, как на крыльях.
– Что ж, пусть легионеры знают, какова наша цель. Клянусь Юпитером, это их воодушевит.
С этими словами Гай Марий вздохнул и уселся в кресло.
Серторий понял, что консул больше не нуждается в его присутствии, и поспешил передать его слова остальным начальникам. Марий прошлых лет, побеждавший в Африке громадные вражеские силы, снова был с ними.
Тевтонский лагерь, вечер
Тевтонские дозорные явились с докладом к царю. Сомнений не было: вопреки ожиданиям, римляне покинули лагерь и устремились вслед за ними.
– Они меня не волнуют, – сказал Тевтобод советникам и добавил: – Всякий раз, когда мы сражались с ними в открытом поле, мы побеждали. Если они нападут, мы развернемся и встретим их. Дозорные по-прежнему будут следить за их передвижениями. Единственное место, где римляне отразили наш натиск, – проклятый лагерь в устье великой реки, где они окопались. Теперь они покинули его, и это хорошая новость. Они в отчаянии, потому что мы идем на Рим. Видимо, рассказы о том, что мы сделаем с их женщинами, наконец-то возымели действие.
Он запрокинул голову и расхохотался.
Советники и начальники последовали его примеру; в их смехе слышалась злость, презрение и удаль. Именно такие чувства владели тевтонами в последние годы, когда они противостояли римским консулам. Потеха, да и только.
Римское войско на пути в Массалию
Легионеры Мария делали большие переходы, magnis itineribus, напоминая груженых мулов: каждый тащил на себе оружие, утварь и орудия для возведения укреплений. Суровая подготовка, которой они подвергались несколько лет по воле консула, особенно в последние месяцы, оказалась полезной. Очень скоро они настигли бесконечную колонну тевтонов. Воины, женщины и дети, повозки, всевозможный скарб. Густые клубы пыли, поднимаемые войском и сопровождавшей его толпой – с тевтонами были их семьи, а также союзники вроде амбронов, – были видны за несколько миль.
На второй день консул обратился к начальникам:
– Надо ускориться. Мы пойдем в обход и опередим их. Сегодня же.
Они поднажали, рискуя выбиться из сил. Держась вдали от дорог, по которым двигались тевтоны, легионеры испытывали подлинные мучения, но при этом помнили обещание консула – совершив усилие, они окажутся между тевтонами и Римом – и надеялись, что на этот раз им суждено сражаться, а не прятаться sine die[17] за частоколом.
Воодушевленные близостью битвы, а также желанием доказать врагам, что они ни в коем случае не socors, легионеры обогнали тевтонское войско.
XIX
Заседание Сената
Таверна на берегу Тибра, Рим
90 г. до н. э.
– А теперь все будет еще занятнее, ребята, – сказал Гай Марий с широкой улыбкой: он приближался к любимой части своего повествования. Бывший консул так увлекся, что никто не осмеливался его прервать, хотя в таверну прибыли гонцы из курии. Наконец Серторий решился и подошел к столу, за которым сидел Марий со своим племянником и его юным другом.
– Славнейший муж… – обратился к нему трибун.
Гай Марий рассказывал о битве при Аквах Секстиевых, не обращая внимания ни на что, кроме глаз Цезаря и Лабиена. Мальчики слушали о его военных приключениях затаив дыхание.
– Славнейший муж! – повысил голос Серторий.
Марий прервал рассказ и повернулся. На его лице читались досада и недоверие: трибун был самым приближенным к нему военачальником.
– Мне жаль, славнейший муж, – повторил Серторий уже сдержаннее, – но прибыли гонцы с Форума. Сенаторы собираются на заседание и ждут Гая Мария. Одно из посланий подписано самим Метеллом, прочие – Суллой и Долабеллой.
– А Метелл пишет слова полностью или делит их на части, как всегда? – насмешливо спросил Марий, имея в виду особенность речи почтенного сенатора. Оптиматы не упускали случая посмеяться над его слабым знанием греческого: раз так, он посмеется над заиканием своего заклятого врага.
Серторий стал невольно перебирать письма в поисках послания от Метелла, будто в самом деле собирался проверить.
– Не имеет значения, как это написано! – злобно вскричал Марий, даже не взглянув на трибуна. – Пусть подождут! Пусть подождут все, особенно проклятый Метелл и его приспешники – Сулла и Долабелла! Разве не видишь, что я занят важным делом? Я преподаю урок племяннику! Хочу привить ему немного рассудительности и дать представление о полководческом искусстве, ведь в голове у него гуляет ветер, а в груди тесно от стремления к справедливости: он считает, что может добиться ее, ни о чем не задумываясь.
В таверне воцарилась тишина.
Серторий умолк, напрягся и склонил голову.
Марий глубоко вдохнул и откинулся на спинку кресла. Цезарь и Лабиен замерли.
– Серторий, ты – мой самый надежный воин. – Марий положил ладони на стол и медленно выдохнул, стараясь успокоиться. Затем снова заговорил, не поворачиваясь к Серторию: – Не стоило повышать на тебя голос. Сообщение важное, и ты обязан его передать. К тебе вопросов нет. Но я должен закончить рассказ. Затем мы отведем племянника домой и отправимся на Форум. Пусть Сенат подождет своего единственного шестикратного консула. Пока что шестикратного. – Марий наконец повернулся к трибуну. – Я им нужен. Им неприятно это сознавать, но я им нужен, как в ту пору, когда тевтоны двигались с севера на Рим, а мы остановили их при Аквах Секстиевых.
– Да, славнейший муж, – согласился Серторий. – Конечно, они подождут.
– Хорошо. Итак… на чем я остановился? – Марий нахмурился и снова посмотрел на мальчиков, затем на пустой кубок.
– Консульское войско нагнало тевтонов, – быстро напомнил Цезарь.
– Точно, мальчик, именно так, – кивнул дядя. – Очень хорошо. Ты слушаешь внимательно. Действительно: мы обогнали огромную колонну тевтонов и амбронов. Одним богам известно, сколько тысяч их было…
XX
Memoria in memoria
Аквы Секстиевы
Окрестности римской колонии Аквы Секстиевы
Лето 102 г. до н. э.
Римский лагерь
Легионеры, десятки тысяч легионеров. Со вспомогательными войсками численность римских сил достигала тридцати тысяч. И все же это было гораздо меньше огромного тевтонского полчища, наступавшего на Рим. Несмотря на потери, понесенные во время нападения Тевтобода на крепость у «канавы Мария», варвары троекратно превосходили римлян числом.
Вечером на вершине холма, где было приказано разбить лагерь, стоял, окруженный десятками, сотнями легионеров, тащивших бревна для строительства нового частокола, Гай Марий: он наблюдал за гигантским скоплением варваров, которые также разбивали палатки, чтобы устроиться на ночлег. Судя по всему, тевтоны не собирались возводить защитные сооружения, будучи уверены в своем численном превосходстве и в том, что он, Марий, не распорядится наступать.
Консул вздохнул. У тевтонов имелись все основания чувствовать себя в безопасности: ночной приступ, пусть и внезапный, вылился бы для тех и других в борьбу на истощение, которую скорее выиграл бы неприятель. Тевтонский царь позволил себе роскошь потерять тысячу или две тысячи воинов при попытке взять римский лагерь в устье Родана. Он мог потерять еще тысячу, две или три тысячи воинов в ночном бою, который ничего не решил бы. А для Мария потеря трех тысяч легионеров была недопустима; на такие потери он мог бы пойти, только если бой обещал стать судьбоносным. Только в этом случае.
– Воды! – воскликнул консул.
Один из колонов поднес ему кубок с водой, налитой из полупустой фляги. Отсутствие во фляге воды не ускользнуло от внимания предводителя римлян. Возвращая кубок, он перехватил мрачный взгляд Сертория.
– Я знаю, – сказал Марий. – Мы далеко от реки, воды осталось совсем немного. Нужно послать в долину водоносов. Пусть наполнят водой все меха, что есть у нас, и принесут сюда. Прикажи им немедленно трогаться в путь.
Серторий отправился к центурионам и передал приказ консула, затем вернулся к полководцу и чуть слышно задал вопрос. В голосе его звучало смирение с примесью тревоги, которую мигом уловил опытный Гай Марий:
– Все наши начальники и солдаты… удивляются, почему мы встали так далеко от воды, славнейший муж.
Консул ответил, не повернувшись. Он не отводил взгляда от тевтонского лагеря.
– Какое зрелище! – пробормотал он. – С вершины холма все просматривается особенно хорошо.
Тевтонский лагерь
Тевтоны расположились посреди равнины, у русла реки, протекавшей через долину. Колония Аквы Секстиевы находилась всего в нескольких милях от этого места. Тевтобод собирался разрушить ее, однако мысли его были заняты нападением в устье Родана: он потерял воинов, не сумев уничтожить врага – римского консула. Это озадачило царя, и, хотя предприятие укрепило боевой дух его подданных, тевтонский вождь решил больше не допускать потерь в боях, не ведущих к конечной цели: он хотел войти в Италию, привести с собой большую часть своих людей, живых и невредимых, и там, на Италийском полуострове, заняться грабежом и насилием в неслыханных масштабах, громя по пути все города и селения, чтобы нагоняемый ими ужас достиг самого Рима.
Однако в это мгновение Тевтобод был озабочен другим. Он оглядел римский лагерь на вершине холма и наморщил лоб.
– Почему именно там? – спросил он окружавших его советников и военачальников. – Почему он разместил войско так далеко от воды?
Никто не знал, какой ответ дать царю.
Все обратили взоры на римский лагерь. Вскоре показалась вереница водоносов, покидавших холм и направлявшихся в долину, к реке.
– Они идут за водой, мой царь, – сказал один из начальников, хотя это было очевидно для всех.
Тевтобод шмыгнул носом. Проклятая погода сбивала его с толку: днем – жара, от которой промокаешь до нитки, по ночам прохладно. Его мучили бесконечные простуды. Мелочь, конечно. Но эта вечная струйка из носа…
– Неплохо бы помешать римлянам набрать воду, – заметил другой тевтонский начальник.
Тевтобод кивнул. Хорошая мысль. Но он не хотел посылать своих воинов. Царь повернулся к боковому крылу лагеря, расположенному на некотором расстоянии от главного стана тевтонов: там разместился один из народов, присоединившихся к ним во время похода на Италию, – мужчины, женщины и дети.
– Пусть идут амброны, – приказал он. – На Родане они не слишком нам помогали. Пора им заняться чем-нибудь еще, кроме еды, питья и совокупления.
Затем Тевтобод проследил, как его начальники направляются к лагерю амбронов.
– Да, пусть римляне посидят без воды, – добавил он с широкой улыбкой.
Средняя часть долины Акв Секстиевых[18]
Римские водоносы набирали речную воду в сотни мехов. Это была лишь первая ходка – им предстояло наполнить все емкости, имевшиеся в лагере. Было решено запасти достаточное количество чистой и свежей воды, которой хватило бы на несколько дней: если начнется битва, доставлять воду на вершину холма будет невозможно. Тевтонам было лучше – они расположились у широкого ручья. Водоносы, как и прочие легионеры, не понимали, почему консул выбрал для лагеря именно этот холм. Может, с него удобно наблюдать за долиной? Нет, этого маловато.
Вот о чем они размышляли, увидев колонну вражеских воинов, двигавшуюся на них с другого конца долины, не оттуда, где стояли тевтоны. Большой отряд варваров, примкнувших к тевтонам в поисках новых земель.
– Амброны, – проговорил один из римских водников.
– Нужно вызвать подкрепление, – заметил другой.
Они спешно отправили гонцов в лагерь на вершине проклятого холма, где их разместил консул.
Колонна амбронских воинов
Они шли медленно. Недавно они устроили настоящий пир, чтобы прийти в себя после многодневного похода, – и вдруг оказалось, что царь тевтонов по пути в Рим желает отдохнуть пару дней в этой уютной долине, изобилующей пресной водой.
Амброны не только как следует набили брюхо, но и немало выпили. Близость робких римлян, окопавшихся неподалеку, нисколько не смущала их. Они уже убедились, что римские солдаты способны лишь прятаться за валом, в лагере, дни, недели, месяцы напролет. Когда тевтонский царь велел им напасть на водоносов, посланных этими трусами, амброны, недолго думая, с набитыми животами и хмельными головами, бросились к реке, похватав мечи, щиты и копья. Несомненно, римляне проявили кое-какую стойкость, защищая свой проклятый лагерь на Родане, но в открытом поле они ни на что не годились. Предстоящий бой казался увлекательной прогулкой.
Середина долины
Легионеры, сопровождавшие водоносов, встали на пути амбронов. Им предстояло защищать товарищей, которые продолжали наполнять мехи водой.
Амброны завопили, как дикари, ускорили шаг и вскоре перешли на неторопливую рысь.
– Вперед! Во имя Юпитера! – одновременно приказали несколько центурионов, когда сочли, что враги находятся на нужном расстоянии.
Копья тучей просвистели над долиной и обрушились на неповоротливых амбронов, удивленных быстротой горстки римлян, охранявших водоносов. Их было мало, но они были проворными, внимательными и отлично обученными, а еще строго выполняли приказы.
– А-а-а-а!
Несколько десятков раненых амбронов пали; некоторые сразу же испустили дух, пронзенные вражескими копьями.
Однако неудача раззадорила их. Вначале они намеревались устроить нечто вроде торжественного шествия и как следует напугать трусливых римлян, рассеянных вдоль реки, но теперь кровь их собратьев хлынула на траву: надо было свести счеты. Амброны забыли о повелении тевтонского царя и двинулись напролом, чтобы отомстить за убитых и раненых.
Столкновение вышло беспорядочным и внезапным, и хотя римляне построились как полагалось – крепкие щиты, мечи, выглядывающие из-за них и готовые в любой миг пронзить врагов, – этого оказалось недостаточно.
Их было слишком мало.
Амброны, которых насчитывалось намного больше, неудержимо стремились вперед, движимые чистой яростью и сознанием своего численного превосходства, и вонзали мечи и топоры в любую прореху между щитами противника.
– Отступаем! – приказали центурионы, когда стало ясно, что удерживать строй невозможно.
Консул учил их отступать, если устоять на месте нельзя. Первым делом нужно спасать легионеров…
Но тут появились когорты, посланные с холма на подмогу. Отступление не было беспорядочным бегством – передние ряды, смятые натиском противника, пополнялись сильными и свежими легионерами, спешно прибывшими для участия во внезапной битве.
Центурионы занялись наведением порядка в передовой части отряда. Прочие начальники направились к водоносам:
– Тащите воду в лагерь и возвращайтесь с новыми мехами! Не вздумайте прекращать работу!
Они передавали приказы трибуна Сертория, который, в свою очередь, получал распоряжения от консула.
Римский лагерь
Стоя на башне, возведенной для защиты ворот, Гай Марий наблюдал за сражением легионеров со множеством амбронов, посланных Тевтободом, чтобы помешать римлянам таскать воду.
– Битва идет своим чередом, – заметил Серторий, – но если отправить более сильное подкрепление, мы могли бы разбить амбронов и обратить их в бегство. А при удаче даже поджечь их повозки.
Марий размышлял об обстоятельствах, в которых разгорелось сражение. Да, оно не было решающим – по крайней мере, до тех пор, пока в нем не приняли участие тевтоны, составлявшие костяк вражеских сил. Лагерь амбронов располагался поодаль от тевтонского. Тевтобод так и не отдал распоряжений своим людям, занятым разборкой шатров, приготовлением пищи и даже отдыхом, – будто события на берегу не имели к ним отношения.
– Отправь еще пять когорт, – согласился Марий. Пять когорт, половина легиона – немалая сила, но он готов был рискнуть ею, пока тевтоны не покидали лагерь. – Если окажется, что Тевтобод вмешался, пусть отступают на холм. – Он повернулся и посмотрел в глаза своему подчиненному. – Все ли тебе понятно?
– Да, славнейший муж, но…
Серторию хотелось кое-что уточнить.
– Говори.
– Если амброны побегут, можем ли мы настигнуть беглецов в их лагере?
Марий глубоко вздохнул.
– Да, но только в их лагере, – кивнул он. – Ни в коем случае не приближайтесь к лагерю тевтонов. Понятно?
– Да, – кивнул Серторий.
– Хорошо. Ты сам возглавишь когорты. Только тебе я могу доверить руководство отступлением, если тевтоны вступят в битву. Строго выполняй мои указания. У большинства наших трибунов мигом закипает кровь в жилах, но нет ни выдержки, ни мозгов. А у тебя – горячее сердце и холодная голова.
Консул впервые выражал ему такую откровенную признательность.
Серторий прижал кулак к груди, готовый возглавить натиск когорт, которым предстояло спуститься к реке. Он больше не сомневался в том, что каждое решение консула обосновано. Если они чего-то не понимают, это не значит, что объяснения не существует.
Середина долины[19]
Амброны бились, не щадя себя. У многих болели животы, кое-кто передвигался с трудом, к тому же они слишком много выпили, но гнев при виде гибели товарищей пробудил в них необычайную жестокость, и римляне, которые заменили уставших легионеров, начали сдавать. Почувствовав это, кельты усилили напор, как вдруг – амброны следили только за первыми рядами вражеского отряда – к римлянам пришло новое подкрепление.
Силы уравнялись.
Как только все когорты вступили в бой, Серторий навел порядок в своем войске и стал постоянно менять тех, кто сражался в первых рядах. Теперь легионеры не бились с противником до полного изнеможения: там, где было жарче всего, на место уставших солдат приходили свежие. Амброны сражались достойно, но беспорядочно и вскоре, сами того не заметив, отступили. Толкая варваров щитами, римляне оттеснили их от реки.
Сотни римских водоносов беспрепятственно наполнили мехи водой, наблюдая за тем, как бой откатывается все дальше.
Серторий двигался рядом с первыми рядами, не переставая раздавать указания. Близость военного трибуна придавала храбрости и стойкости центурионам, начальникам и всему отряду.
Амброны начали отступать, у многих были раны, нанесенные мечами легионеров.
Вскоре отступление превратилось в отчаянное бегство.
Настало время принимать решения.
Серторий посмотрел на холм, на сторожевую башню, с которой консул наблюдал за сражением. Не было никаких знаков, говоривших о необходимости возвращаться, к тому же Марий разрешил преследовать врагов до тех пор, пока они не приблизятся к тевтонам.
Затем Серторий посмотрел на долину: амброны врассыпную бежали к своему лагерю.
– За мной! – велел военный трибун.
Кое-кого удивил этот приказ: за долгие месяцы легионеры привыкли защищаться и делали это на славу, они давно не ходили в наступление, не говоря уже о преследовании беспорядочно бегущего врага. И все-таки они жаждали победы. Несколько центурионов оглянулись через плечо, высматривая консула: тот неподвижно стоял на сторожевой башне, у ворот строившегося лагеря. Трубачи – buccinatores – не издавали никаких звуков, приказа отступать не было. Молчание трубачей означало молчание самого консула, а значит, распоряжения трибуна Сертория были совершенно законными.
Римляне бросились в погоню и вскоре ворвались в лагерь амбронов. Варвары даже не попытались вступить в бой и, побросав своих женщин, детей и повозки, принялись отступать. Одни бежали к тевтонскому лагерю, другие – к близлежащему лесу.
Серторий приказал было преследовать тех, кто направился к лесу, но внезапно столкнулся с непредвиденным обстоятельством: амбронские женщины встали на защиту лагеря. Почти безоружные, они брали все, что могло пригодиться, – домашнюю утварь и другие принадлежности, а то и вовсе дрались голыми руками. Рядом с ними сновали дети: одни плакали, другие бросались на римлян, впиваясь зубами им в ноги. Легионеры начали давать отпор, и вскоре женщины и дети были безжалостно убиты в неравном бою. Солдатам пришлось постараться: женщины оказали ожесточенное сопротивление. Однако римляне помнили оскорбления варваров, рассказы о том, как те обесчестят римлянок, взяв город на Тибре. Память об этих насмешках была еще жива, не оставляя места для сострадания, и Серторий был не в силах остановить резню. Он не мог преследовать амбронов, укрывшихся в тевтонском лагере, а погоня в лесу, среди деревьев, казалась опасной затеей.
– Поджигайте повозки! – приказал он.
Через нескольких минут лагерь амбронов был охвачен жарким пламенем, поглощавшим все на своем пути и отрезавшим все пути выхода для отважных женщин, которые сражались до последнего вздоха.
Серторий увидел, как некоторые солдаты тащат уцелевших женщин в низину, с вполне определенными намерениями. Трибун посмотрел в сторону леса: там скрылись варвары, которые должны были их защищать. Дети женщин, пойманных его солдатами, плакали неподалеку. Серторий приблизился.
– Отпустите их, – спокойно произнес он. Точно так же отдавал свои распоряжения консул: не повышая голоса, не повторяя сказанного.
Легионеры, жаждавшие отомстить врагам, которые совсем недавно потешались над ними, не желали расставаться с добычей, но под ледяным взглядом трибуна ослабили хватку. Женщины вырвались из рук похитителей и бросились наутек.
Лагерь пылал.
Все происходило очень быстро.
– Отступаем, – велел Серторий.
И люди подчинились ему.
Тевтонский лагерь
– Неужели мы не вмешаемся? – спросил один из советников Тевтобода за несколько секунд до того, как римляне подожгли повозки амбронов.
Германский вождь огляделся: его солдаты все еще устанавливали шатры или обедали и не могли вступить в бой. Амброны ввязались в поединок с римлянами, не подготовившись должным образом, и это обернулось бедой. Он мог бы послать все свое войско; римляне либо сразу же отступили бы, либо, напротив, начали бы решающую битву, которую он не собирался давать. Знать наперед он не мог.
– Неужели мы будем спокойно смотреть на это, мой царь? – заговорил другой советник.
Тевтобод наугад отправил амбронов на стычку с римскими водоносами, и вот что из этого вышло. Отныне действовать можно было только наверняка.
– Воины, которые бросили своих женщин и детей, не заслуживают нашей помощи, – ответил германский царь.
Он сделал глоток. Та самая речная вода, из-за которой погибли амброны. Тевтобод выплеснул все, что осталось в чаше, прочистил горло, сплюнул и повернулся к сожженным повозкам, возле которых лежали трупы мужчин, женщин и детей.
Затем бросил взгляд в сторону сторожевой башни, откуда римский консул наблюдал за происходящим. Он не мог ничего различить из-за большого расстояния, но ему показалось, что вражеский полководец пристально смотрит на него.
Римский лагерь
Задыхающийся Серторий – в окровавленном плаще, с мокрым от пота лбом – поднялся на сторожевую башню.
– Мы подожгли лагерь, – объяснил он, представ перед консулом, – но мне показалось неразумным преследовать воинов, бежавших в лес, как и тех, кто укрылся у тевтонов.
– Ты все сделал правильно, – согласился скупой на слова Марий и вновь повернулся к бесчисленным палаткам, устанавливаемым внизу. Он видел, как германский царь отошел в сторону и встал спиной к пожару, пожиравшему осиротевший лагерь амбронов.
– Надо раздать вино легионерам, участвовавшим в сражении, – предложил один из трибунов.
Серторий молчал, переводя дыхание.
– Лучше всем легионерам, – предложил другой начальник. – Это их подбодрит.
Гай Марий продолжал внимательно следить за перемещениями тевтонского царя. Из уважения к консулу все хранили молчание и терпеливо ждали его ответа.
– Сейчас не время для празднеств, – наконец сказал тот, даже не взглянув на начальников. – Нам повезло, что амброны отправили на битву пьяных солдат, а не своих женщин. Судя по зрелищу, открывавшемуся с холма, все сложилось бы иначе, если бы женщинам раздали оружие.
Трибуны растерянно заморгали. Никому не приходила в голову такая нелепая мысль: сражающиеся женщины. Правда, те, несомненно, проявили больше храбрости, чем мужчины.
Гай Марий повернулся и устремился вниз, отдавая последние распоряжения тем, кто направился вслед за ним:
– Никакого вина. Пусть поужинают и ложатся спать. Встанут на рассвете, позавтракают и займутся укреплениями.
Оказавшись у подножия башни, Марий зашагал к преторию, расположенному между палатками легионеров.
– Вы все слышали, – сказал Серторий остальным трибунам, которые отправились передавать полученные приказы. Потом ускорил шаг и догнал консула. – Решающая, окончательная битва впереди, не так ли, славнейший муж? – спросил он.
– Верно, – ответил Марий, не сбавляя шага.
Серторий почувствовал, что Марию не хочется разговаривать, и остановился, молча глядя вслед удалявшемуся консулу. Тот шел один. Наконец его прямой, четкий силуэт затерялся среди множества легионеров, которые почтительно отдавали честь, видя, как он проходит мимо палаток.
XXI
Memoria in memoriana
Родные легионы
Долина рядом с Аквами Секстиевыми, Южная Галлия
102 г. до н. э.
Тевтобод вновь попытался сбить с толку или раздразнить римлян: стоя у «канавы Мария», он заставлял своих людей оскорблять легионеров, а теперь небольшие тевтонские отряды под покровом ночи подкрались к римским укреплениям. Германцы принялись колотить мечами о щиты, производя такой грохот, что враги не могли сомкнуть глаз.
Гай Марий ответил в том же духе: отправил дозорных, чтобы нарушить сон тевтонов.
Казалось, всем снова предстоит долгое ожидание, но однажды вечером все ускорилось.
Римский лагерь
Консул вызвал трибунов в преторий на вершине холма.
Он был немногословен. Он был прямолинеен. Он был точен.
– Сегодня вечером все солдаты поужинают сытно, но без излишеств, и ни капли вина. А завтра, до рассвета, позавтракают молоком или водой. Мне не нужны легионеры, мучимые жаждой с утра. – Он развернул папирус с картой, набросанной крупными линиями – холм, река, римский лагерь, тевтонский лагерь, – и, не выпуская ее из рук, отдал распоряжения, над которыми размышлял в последние дни: – В эту ночь следует удвоить число дозорных вокруг тевтонского лагеря. А ты, Клавдий Марцелл, – он посмотрел на одного из старейших трибунов, стоявших рядом с Серторием, – возьми три тысячи легионеров и спрячься в дубраве неподалеку. – Он указал на подножие холма. – Возьми с собой вьючных животных, мулов и большую часть рабов. Я бы дал тебе больше людей, но мне нужно, чтобы основные силы оставались на холме. Ты появишься в разгар битвы, когда тевтоны начнут отводить войска, причем все должно выглядеть так, будто вас не три тысячи, а гораздо больше. Вот почему ты возьмешь животных и рабов. Объедини их со своими легионерами. Это создаст видимость грозной силы. Понятно?
Клавдий Марцелл кивнул, еле сдерживая удивление.
Как и большинство военачальников, он не верил тому, что слышал: консул отдавал приказы для решающего сражения. Наконец-то!
Сертория, однако, это не удивило. После погони за амбронами ему стало ясно, что консул выбирает день для нападения.
– Хорошо, во имя всех богов, – продолжил Гай Марий. – Завтра на рассвете часть пехоты заберет Клавдий Марцелл, остальные когорты мы построим в triplex acies: одна когорта занимает квадратный участок, а соседний квадрат остается пустым, в следующем ряду – то же самое, но наоборот.
Консул знал, что его начальники прекрасно разбираются в древнем triplex acies, напоминающем игральную доску: клетки, занятые солдатами, чередовались с пустыми клетками, перед которыми становилась следующая когорта. Как в шашках, за которые с недавних пор стали садиться римляне. Марий знал, что его воины знакомы с этим построением, но стремился избежать малейшего недопонимания и ничего не принимал на веру. Предстояла решающая битва, и все должно было соответствовать замыслу, который он вынашивал в последние… дни, недели, месяцы? Нет. В последние годы.
Марий мечтал об этой битве с тех пор, как узнал о поражениях консульских войск при Норее, Бурдигале и Араузионе.
– На рассвете, – сказал он, – с первыми лучами солнца, собрав войска перед лагерем на склоне холма, мы бросим на врага наши турмы. Всадники будут изводить врагов до тех пор, пока тевтонский царь не прикажет бросить против них своих людей. Тевтонам придется пересечь реку и подняться на холм. Там их встретят легионы, которые расчистят проход для конницы, идущей сзади. И в эту минуту начнется битва.
Консул умолк, глядя на карту.
– Есть вопросы? – обратился он к капралу.
Все казалось предельно ясным. Серторий молчал, повторяя в уме только что услышанное.
Клавдий Марцелл осмелился задать вопрос, который в той или иной мере волновал всех.
– Тевтоны превосходят нас числом, – заметил он. – Даже после уничтожения амбронов их намного больше.
Консул кивнул и сухо ответил:
– Вот почему мы сражаемся на холме, вот почему река будет за спиной у них, а не у нас, вот для чего нужна засада, которую ты устроишь в разгар боя. Никто не обещал, что будет легко. Но ведь ты мечтал о битве долгие месяцы? Что ж, день настал.
Тевтонский лагерь, раннее утро следующего дня
Тевтобод спал плохо. В ту ночь римляне особенно сильно досаждали им. Но не только это омрачало с самого утра настроение царя.
– Вон они, мой царь! – воскликнул один из советников, указывая на склон.
Все римляне вышли из лагеря в строгом боевом порядке и рассредоточились по склону холма. Но это было не все: к тевтонскому лагерю приближалась конница противника и, по всей видимости, собиралась завязать бой.
Тевтобод огляделся: большинство его воинов готовили завтрак. Никто не ожидал крупного наступления, но, так или иначе, вражеские всадники приближались. Небольшое соединение – но все же надо было что-то делать.
– Пусть все воины приготовятся, – приказал царь.
Вскоре к сторожевым отрядам, расставленным вокруг лагеря, присоединились остальные солдаты Тевтобода со щитами, мечами, топорами и копьями. Многие не успели позавтракать. Они были голодны и, подобно царю, плохо спали из-за римских дозорных, которые в ту ночь бесчинствовали с особенной силой.
Римский лагерь[20]
Всадники галопом возвращались к аккуратным рядам пехотинцев. Они сражались с тевтонами до тех пор, пока основные силы германцев не собрались и не набросились на врага. Римлян было слишком мало, чтобы принимать неравный бой; кроме того, трибуны приказали им дразнить противника до тех пор, пока тот не начнет преследование. Видя, что на них идет огромная тевтонская рать, декурионы приказали отступать к холму, где ожидали легионы. Конники с лету пересекли реку и поднялись на холм.
Гай Марий спустился с вершины сторожевой башни, откуда наблюдал за происходящим и, как полагали его приближенные, собирался руководить битвой. Увидев, что конница возвращается в лагерь, а за ней по пятам несутся тевтоны, он быстро спустился по лестнице.
Консул с Серторием и остальными военными трибунами поспешно покинул лагерь через главные ворота, оставив позади оборонительный частокол. Все они направились к замыкающим когортам, расположившимся на обширном склоне холма.
– Стройтесь! – приказал Марий.
Трибуны и центурионы повторили его слова.
Когорты выстроились, как шашки на доске, разделенные широкими проходами.
По одному из них, проходившему через середину войска, Марий направился к первым рядам. Тем временем по проходам, разрезавшим крылья, двигались конники, призванные замыкать построение – до тех пор, пока консул не прикажет им вернуться в передовой отряд.
Вскоре, ко всеобщему изумлению, Гай Марий оказался в первом ряду. Нечто необычное, почти неслыханное: такого не случалось со времен Сципионов.
Консул пристально смотрел на врагов: те приближались, но медленно. У него было время, чтобы обратиться к своим солдатам.
Гай Марий прошелся вдоль передовых когорт.
– Закройте проходы! – приказал он.
Когорты перестроились, как кружочки на доске для игры в ludus latrunculorum. Отныне не оставалось места, через которое можно было прорвать срединную часть римских сил – разве что враг нанесет невероятно могучий удар, и безупречный строй рассыплется. Такое уже случалось. При Араузионе. И могло повториться.
Тевтоны двигались по равнине.
– Легионеры Рима! – Марий поднял руки, чтобы всецело завладеть вниманием воинов. Его голос эхом разнесся по холму, наклонная поверхность которого позволяла легионерам из средних и замыкающих когорт видеть главноначальствующего. Кроме того, местность была своего рода естественным театром, и поэтому все воины слышали консула.
Стоя за спиной Мария, Серторий удивленно посмотрел на него. Он еще не знал, что тот задумал. Возможно, консул поприветствует легионеров, а затем вернется в тыл, чтобы руководить битвой с безопасного расстояния…
– Легионеры Рима! – воскликнул Марий, убеждаясь в том, что солдаты слушают его с предельным вниманием. – Я хотелось бы сказать вам, что вы – украшение Рима, любимцы Сената, что вами гордятся все учреждения нашей великой республики! Мне хотелось бы сказать вам все это, но тогда я бы солгал!
Он ненадолго прервался.
Тридцать тысяч легионеров хранили полнейшее молчание. В этой тишине шаги шестидесяти с лишним тысяч тевтонов гремели гулко, как барабаны, выстукивающие ритмы неизбежной, неумолимой, неотвратимой битвы. Всем было не по себе. Они уступали противнику числом: так было и в последних трех битвах, и каждый раз римляне терпели поражение. Солдат обуревало огромное желание сражаться, но внезапно… они почувствовали страх.
– Нет, вы не лучшие в Риме! – продолжал консул. – Вы даже не посредственные, второстепенные или малоценные римляне! Вы – нечто гораздо худшее: вы – отбросы Рима! Вы – худшие из худших!
Серторий нахмурился. Помрачнели и трибуны, стоявшие рядом с ним.
Легионеры притихли, ничего не понимая. Они надеялись, что консул воодушевит их перед битвой и ожидали чего угодно, только не оскорблений. Серторий опустил взгляд и молча покачал головой: не время обижать солдат, которым предстоит сражаться до последней капли крови. Неужто консул утратил рассудок?
– Да, вы – отбросы Рима, вы бедняки, Рим с вами не считается, ваши голоса ни на что не влияют! Вы – те, кого Сенат не пожелал вооружить, поскольку, согласно закону, только обладатели имущества могут иметь оружие и участвовать в войне! Вы – те, кому не позволили быть защитниками Рима, а значит, вам не достанется славы, побед и, конечно же, богатств! Вы – воплощение нищеты! Для Рима вы ничто! Для Рима вас попросту не существует! Рим вам не доверяет, Рим ждет вашего поражения, вашей неудачи! Городской сенат подумывает о том, чтобы набрать еще одно войско, старого образца, из состоятельных граждан! Вы не можете и никогда не сможете рассчитывать на римские власти! Для римских властей вы перестали существовать еще до начала решающего сражения!
Легионеры сглатывали слюну, с трудом подавляя ярость, которая росла в их груди, жаждущей мести обидчикам. В «канаве Мария» над ними измывались тевтоны, а теперь и консул туда же. Откровение Мария сильно задевало солдат, ведь в глубине души они знали, что, несмотря на беспощадность его речей, он говорит правду: впервые за столетие с лишним, считая от Ганнибала, Рим сколотил войско из городских бедняков.
Гай Марий снова поднял руки.
Легионеры оцепенели. Они жаждали одного: слушать. Они ненавидели всех и вся, и все-таки ими владело желание сражаться и отдавать свои жизни за Рим, который их не любил.
– Нет, Сенат вам не доверяет! – продолжал Марий. – Но знаете ли вы, кто вам доверяет? Знаете ли вы, кто верит в вашу силу, в вашу стойкость, которую вы обрели за годы неустанного обучения?! Знаете ли вы, кто готов сражаться вместе с вами, умереть вместе с вами, победить вместе с вами?!
Консул снова сделал паузу, молча расхаживая вдоль переднего ряда воинов.
Тевтоны подошли к реке, пересекавшей равнину, и начали переправу.
Серторий, слушавший полководца и одновременно следивший за передвижениями врага, подошел к консулу и тихо сказал ему на ухо:
– Враг переправляется через реку.
Марий кивнул, не глядя на своего помощника. Его внимание было приковано к лицам легионеров.
– И кто же нам доверяет? – спросил наконец один из солдат.
Марий снова кивнул, с большей силой, показывая, что доволен вопросом, который задал рядовой солдат:
– Я – Гай Марий, римский консул, победитель войны в Африке, разгромивший Югурту! Я верю в вас, в вашу доблесть и силу вашего духа! Я, Гай Марий, решил, что государство обязано выдать всем вам оружие, притом одинаковое, создать войско из равных по силе когорт! Я, Гай Марий, верю в вас! Вы скажете: если вы в нас верите, почему не позволили сражаться с тевтонами, с врагами, которые идут на нас огромной толпой, которые издевались над нами в устье Родана? И я отвечу вам: потому что устье Родана было отличным местом для того, чтобы запасаться продовольствием и совершенствоваться в военном деле, а также следить за движением врага на Рим – но не для решающей битвы. Зато вот это подходит как нельзя лучше! – Он указал на склоны холма, окаймленные непроходимыми лесистыми оврагами. – Здесь они не могут нас окружить, и пусть их вдвое больше, линия соприкосновения одинакова для обоих войск! В лагере на Родане река осталась бы позади нас, как это случилось при Араузионе, но теперь она за спиной у наших врагов! Неужто вам не хочется промочить уста, напиться вдоволь? Так оттесните тевтонов вниз, заставьте вернуться к реке, которую они сейчас пересекают, а затем напейтесь воды, обагренной вражеской кровью! Уничтожьте тевтонов раз и навсегда! Почему я не позволил вам сразиться на Родане? Не потому, что я сомневался в вашем умении одерживать победу, в вашей храбрости и силе, а потому, что в победе не было уверенности! И знаете что? Бедняки, отбросы Рима, не имеют права на вторую попытку! Сенаторы – да, консулы, подобные мне, тоже, но вам никто в Риме не разрешит сделать вторую попытку! У вас, городских отбросов, оборванцев, на которых никто не взглянет по пути на Форум или на рынок, не будет возможности сделать вторую попытку, если вы проиграете! Вам, римским беднякам, доступна только одна! Ваша попытка – этот склон, этот холм, эта река, эти овраги по краям, ваше оружие, годы неустанных упражнений – вот ваша единственная попытка!
Гай Марий умолк. Ему нужно было перевести дух, но он горел, пламенел, он говорил от сердца, от души…
– На это вы возразите, – продолжал он, – «Зачем воевать за город, который нас не любит?» И я вам отвечу! Неправда, что Рим вас не любит! Это Сенат не доверяет вам, это patres conscripti в большинстве своем презирают вас! Особенно те, кто называет себя оптиматами, как будто они – лучшие из лучших! Но в Риме остались ваши жены и дети, с которыми, как и с вами, тоже никто не считается! И ваших жен и детей тевтоны будут бесчестить наравне с женами и детьми богачей и знати, как тысячу раз уверяли нас сами тевтоны, презирая нас за то, что мы не покидаем лагерь на Родане! Но я не доверяю… я совершенно не доверяю новому войску, которое собираются набрать сенаторы! Это опять будет вялая, неуклюжая толпа, которой недостает мужества, ярости и выдержки, необходимых для того, чтобы защитить город, остановить и уничтожить дикарей, которые сейчас наступают на нас, а завтра, в случае нашей неудачи, беспрепятственно двинутся на Рим, к вашим женам и детям!
Марий вспотел. Он старался говорить как можно громче, чтобы его услышали все солдаты в этом гигантском естественном театре на склоне холма.
Встревоженный близостью врага Серторий, для которого смысл речи был уже очевиден, снова шепнул ему на ухо:
– Тевтоны перешли реку и поднимаются по склону холма, славнейший муж.
Марий снова кивнул.
– Пусть мне поправят панцирь, – сказал он. – Ремни плохо затянуты.
Серторий сделал знак, один из колонов подошел к главноначальствующему и подтянул шнурки с обратной стороны панциря, чтобы нагрудник плотнее прилегал к телу и не сместился во время боя.
В этот миг Серторий понял: консул вышел на передовую не только для того, чтобы произнести речь, которая больше не казалась трибуну безумием: он видел сверкающие глаза легионеров, воодушевленных словами полководца.
– Доложи, когда они будут в тысяче шагов, – добавил Гай Марий, не глядя на трибуна и обращаясь к солдатам.
Он сделал пару шагов, оказавшись еще ближе к легионерам, обвел взглядом передовые когорты, находившиеся под его началом: и тех, кто был ближе к нему, и тех, кто стоял дальше, на склоне холма. Марий в последний раз перед битвой обратился к солдатам:
– Готовы ли вы сражаться за жен и детей, за братьев и сестер, за тысячи таких же простых людей, как вы, населяющих улицы Рима, за всех тех, кого Сенат презирает, за всех женщин и детей, за ваших друзей, которые действительно в вас верят, на вас надеются? Готовы ли вы сражаться за меня, своего начальника, который дал вам оружие, обучил ратному делу и предоставляет эту единственную возможность? Готовы ли вы сражаться не только для того, чтобы победить варваров, но и для того, чтобы изменить историю Рима? Готовы ли вы доказать, что легионы, собранные из простых римлян, сильнее, могущественнее и тверже любого другого войска? Готовы ли вы биться за то, чтобы быть причастными к славной победе? Отвечайте, ибо я готов сражаться с вами плечо к плечу в передних рядах! Я готов сражаться вместе с вами, умереть вместе с вами и победить вместе с вами! Но готовы ли вы? Во имя богов, отвечайте!
Последнее слово консул проревел из всех сил. Его возглас не мог остаться без ответа.
– Да, мы готовы! Да, готовы! Мы готовы! – вскричали несколько легионеров из передних рядов. Вскоре к ним присоединились солдаты остальных когорт, и все голоса слились в оглушительном тридцатитысячном крике, который разнесся над равниной и достиг ушей тевтонов.
Этот вопль навсегда изменил историю Рима.
XXII
Memoria in memoria
Заключительная битва
Долина рядом с Аквами Секстиевыми, Южная Галлия
102 г. до н. э.
Передовой отряд тевтонов
Царь Тевтобод не шел в первых рядах своего огромного войска. Он вместе со всеми продвигался к холму, но его окружали солдаты. Как бы то ни было, он тоже отчетливо слышал вопли легионеров.
Окружавшие царя военачальники были поражены яростью, звучавшей в этих возгласах. Тевтобод уловил на их лицах тень сомнения.
– Нас вдвое больше, – сказал он, – и мы уже несколько раз побеждали врагов. Все их ничтожные силенки ушли в этот крик…
Он рассмеялся. В ответ по рядам прокатился громовой хохот, к которому присоединились сначала советники, а затем и все воины. Смех пошел тевтонам на пользу, потому что на долю секунды их всерьез встревожил вой легионеров.
Передовой отряд римлян
Смех, наполненный нескончаемым презрением, достиг ушей римских легионеров. Они онемели, будто их окатили ледяной водой, возвращая к действительности после оцепенения, вызванного речами консула.
Но Гай Марий уже все сказал. Его люди были достаточно взбешены, чтобы их пыл не погас от вражеского хохота. И все же он хотел произнести несколько последних слов…
– Они в тысяче шагов, – шепнул Серторий.
– Хорошо, – тихо ответил консул и, еще больше повысив свой зычный голос, так что он загремел по всему склону, снова обратился к легионерам: – Да, они смеются над вами, как много лет делали римские сенаторы, но настал день, когда вы пресечете любые издевательства, любые насмешки над собой! Сегодня – день вашего появления на свет, день рождения новых римских легионов! Сегодня ваш день! За ваших жен и детей! За ваших друзей и за народ Рима! Во имя богов! – Он обнажил меч и поднял его, направив в небо. – За вас! За вас! Смерть или победа! Смерть или победа!
И легионы взвыли в ответ:
– Смерть или победа! Смерть или победа!
Наконец консул повернулся и взглянул на тевтонов, тяжело поднимавшихся по склону холма: медлительных, но возбужденных, готовых завершить эту битву еще до того, как солнце достигнет вершины в своем путешествии по небу. Марий обратился к доверенному трибуну:
– Если тевтоны окружат меня, всех нас и не будет ни малейшей возможности спастись, убей меня. Понял? Вонзи в меня меч, умертви меня. Римский консул погибает в бою, его нельзя взять в плен. Истинный консул никогда не будет пленником. Ты понял меня, трибун?
Серторий кивнул, удивляясь настойчивости Гая Мария.
– Да, я понял, славнейший муж, – подтвердил он, – если мы попадем в окружение, я помогу консулу в его devotio.
Devotio означало самоубийство римского полководца в случае поражения; трибун понял, чего от него хотят.
– Ладно, будь что будет: пора идти навстречу проклятым тевтонам, – отозвался Марий.
Он давно не участвовал в сражении самолично. Да, он бился в Африке, но сейчас его мысли устремились к славным временам юности: Марий вспомнил, как сражался под началом Сципиона Эмилиана во время осады Нуманции.
– Все будет, как в Иберии, – пробормотал он. – Великое сражение, великая слава.
Гай Марий молодцеватым шагом обошел передовые когорты.
– Не двигайтесь, еще рано! – кричал он, и центурионы повторяли его приказы.
– Они в шестистах шагах, славнейший муж, – доложил Серторий, не отстававший от консула ни на шаг: он смотрел то на тевтонское полчище, то на римские когорты.
– Пусть еще приблизятся. Чем ближе они подойдут, тем круче будет склон, тем тяжелее им придется в бою, а нам гораздо удобнее биться, когда мы сверху.
Серторий кивнул, но в его ушах отдавалось лихорадочное биение сердца. Никогда раньше он не видел такой огромной толпы варваров, неудержимо наступающей на римский лагерь.
– Да, славнейший муж, – согласился трибун и тут же добавил: – Они на расстоянии пятисот пятидесяти шагов.
– Приготовьте копья! – прогрохотал консул.
Легионеры подняли копья.
– Пятьсот шагов, славнейший муж.
– Да, я консул и сенатор вопреки желанию мерзавцев-оптиматов, и нет надобности напоминать мне об этом каждую минуту. Докладывай только о количестве шагов. Ты отлично считаешь. И видишь лучше, чем я.
Серторий хотел было ответить, но промолчал и только кивнул.