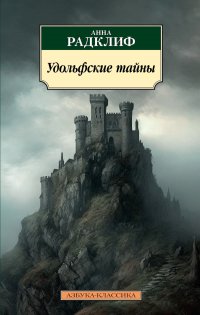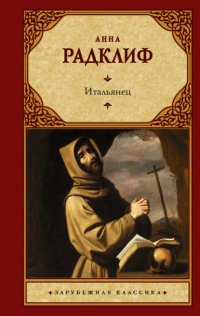Читать онлайн Удольфские тайны бесплатно
- Все книги автора: Анна Радклиф
Ann Radcliffe
The Mysteries of Udolpho
* * *
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© Перевод. Т. Осина, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Глава 1
Томсон Дж. Времена года
- Дом, милый дом – святой приют
- Любви, заботы и покоя.
- Здесь дарят свет, здесь друга ждут,
- Здесь обретают счастье двое.
В 1584 году в провинции Гасконь, на живописном берегу Гаронны, возвышался замок месье Сен-Обера, из окон которого открывались пасторальные картины провинций Гиень и Гасконь: протянувшиеся вдоль реки пышные леса, виноградники и оливковые плантации. На юге простор окаймляли величественные Пиренеи, чьи вершины, лишенные растительности, просвечивали сквозь голубую воздушную дымку и то парили в облаках, принимая пугающие формы, то пропадали за облаками, а местами хмурились, сползая к подножию темными сосновыми лесами. Глубокие пропасти соседствовали с мягкими зелеными пастбищами, обрамленными кудрявыми рощами, где, спустившись с грозных вершин, глаз отдыхал на мирных стадах и простых хижинах. К северу и востоку терялись в туманной дымке провинции Гиень и Лангедок, а на западе Гасконь омывалась водами Бискайского залива.
Месье Сен-Обер любил бродить по берегу Гаронны вместе с женой и дочерью, вслушиваясь в витавшую над рекой музыку волн. Он успел познать иной образ жизни, отличный от пасторальной простоты, и приобретенный печальный опыт изменил благоприятный образ человечества, который был создан юношеским воображением. И все же среди разнообразных впечатлений принципы его остались неизменными, а благожелательность не охладела. Не столько в гневе, сколько в сожалении он удалился от светского общества к естественным радостям природы, чистым восторгам литературы и благородным добродетелям семейной жизни.
Наш герой принадлежал к младшей ветви знаменитого рода, а потому изначально считалось, что недостаток фамильного богатства следует восполнить или великолепным браком, или успехами в деловой сфере. Однако Сен-Обер был весьма неамбициозен и обладал слишком возвышенным чувством чести, чтобы соответствовать этим ожиданиям и ради приобретения богатства пожертвовать тем, что называл счастьем. После смерти отца он женился на милой женщине, равной ему по происхождению и благосостоянию. Жизнь на широкую ногу, а скорее экстравагантность месье Сен-Обера-старшего, до такой степени нарушила материальные обстоятельства семьи, что сыну пришлось расстаться с частью фамильных владений. Через несколько лет после свадьбы он продал главное поместье брату жены месье Кеснелю и удалился в маленькое имение в Гаскони, где посвятил себя супружеским радостям, родительским обязанностям, а также постижению наук и порывам вдохновения.
Счастливые озарения посещали его с детства. Еще мальчиком он часто им предавался, а восторг как от добродушных похвал седовласого крестьянина-слушателя, так и от его неизменных угощений, не потускнел со временем. Зеленые луга, где он бегал в порыве детской радости и свободы; леса, в чьей густой тени родилась та задумчивая меланхолия, которая потом стала важной чертой характера; уединенные горные тропы; дарившая блаженную прохладу река; казавшиеся бескрайними, словно детские надежды, широкие долины – все это Сен-Обер вспоминал с неизменной любовью и грустью, пока наконец не исполнил многолетнюю мечту и не удалился от мира, вернувшись в родные края.
В то время дом представлял собой всего лишь летний коттедж, вызывавший интерес стороннего наблюдателя простотой стиля и красотой окружающего пейзажа. Чтобы превратить его в удобное семейное жилище, потребовалось значительное дополнительное пространство. Сен-Обер с нежностью относился к каждой сохранившейся с детства мелочи, не позволял передвинуть ни одного камня, а потому новое здание, построенное в стиле старого, слилось с ним в единое целое, образовав простой и элегантный замок. Мадам Сен-Обер проявила тонкий вкус в оформлении интерьера: мебель и отделка комнат отличались все той же простотой и отражали склонности ее обитателей.
Западное крыло замка занимала библиотека, содержавшая богатую коллекцию книг на древних и новых языках. Ее окна выходили на мягко спускавшуюся к реке рощу, а высокие деревья погружали посетителей в меланхолическую задумчивость. В то же время на западе сквозь раскидистые ветви открывался веселый пейзаж, ограниченный вершинами и пропастями Пиренеев. К библиотеке примыкала оранжерея, полная прекрасных редких растений, ибо одним из увлечений месье Сен-Обера была ботаника. Нередко он проводил целые дни в горах, охотясь за невиданными экземплярами. Иногда в походах участвовала мадам Сен-Обер, но куда чаще компанию отцу составляла дочь. С плетеной корзинкой для растений и еще одной, с холодными закусками, которых нельзя было найти в хижине пастуха, не уставая восхищаться могуществом природы, они зачарованно бродили среди величественных романтических пейзажей. А устав пробираться среди голых скал, где оставляли следы лишь горные серны, находили уютный зеленый уголок у подножия и под сенью раскидистого кедра наслаждались отдыхом, простой едой, чистой вкусной водой из прохладного ручья и ароматом окружавших камни диких цветов и трав.
С восточной стороны оранжереи, окнами на провинцию Лангедок, располагалась комната, которую Эмили называла своей. Там хранились ее книги, рисунки, музыкальные инструменты, росли ее любимые растения и даже жили любимые птицы. Здесь она занималась милыми сердцу изящными искусствами, в постижении которых благодаря природному дару и мудрому наставничеству отца и матери рано достигла успеха. Окна этой комнаты, доходившие до самого пола, выглядели особенно изысканно: из них открывался вид на окружавшую дом лужайку. Сквозь рощи миндаля, вербы, белого ясеня и мирта взгляд скользил к далекому пейзажу, где несла свои воды великолепная Гаронна.
По вечерам, завершив работу, на берегу реки часто плясали крестьяне. Веселые мелодии, бойкие прыжки и причудливые фигуры их плясок в сочетании с простыми, но оригинальными нарядами девушек придавали картине неповторимый французский колорит.
В передней части замка, обращенной на юг, на горную цепь, по обе стороны оформленного в сельском стиле холла располагались две элегантные гостиные. Второй и последний этаж занимали спальни за исключением единственной просторной комнаты с балконом, где обычно завтракали.
Сен-Обер с большим вкусом обустроил окружающее дом пространство, однако любовь к воспоминаниям детства оказалась столь властной, что в некоторых случаях вкус уступил чувству. Так, сохранились две старые лиственницы, затенявшие замок и закрывавшие перспективу. Признаваясь в собственной сентиментальности, Сен-Обер каждую осень со слезами наблюдал, как деревья сбрасывают листья, и в компанию к лиственницам посадил небольшую рощу из буков, сосен и рябин. На высоком берегу реки были обустроены плантации апельсиновых, лимонных и финиковых деревьев, по вечерам наполнявших воздух волшебным ароматом. Здесь же встречались и деревья других видов. Жаркими летними днями Сен-Обер любил сидеть с женой и детьми в щедрой тени могучего платана, сквозь листву наблюдая за движением солнца до тех пор, пока разноцветные сумеречные тени не сливались в сплошную темно-серую массу. Здесь же он любил читать и беседовать с мадам Сен-Обер или играть с детьми, невольно поддаваясь обаянию теплых чувств, неизменно сопутствующих простоте и природе. Со слезами радости он нередко признавался, что такие минуты приносят значительно больше счастья, чем время, проведенное среди мирского блеска и шума. Сердце его было занято и, как редко случается, не стремилось к счастью большему, чем то, которое уже познало. Сознание правильной жизни придавало манерам Сен-Обера спокойствие, для человека его моральных устоев иным путем не достижимое и побуждающее ценить окружающее блаженство.
Даже глубокие сумерки не могли выманить Сен-Обера из-под милого сердцу платана. Он любил тот мирный час, когда гасли последние солнечные лучи, когда звезды одна за другой возникали в эфире и, мерцая, отражались в темном зеркале воды. Тот единственный час, который наполняет сознание задумчивой нежностью и часто склоняет к утонченному размышлению. И даже тогда, когда сквозь листву начинал пробиваться свет луны, он оставался под деревом, куда ему приносили незамысловатый ужин из фруктов и сливок. А вскоре в ночной тиши возникала, пробуждая меланхолию, сладкая соловьиная песня.
Впервые счастье уединенной жизни было омрачено смертью двух сыновей. Они покинули мир в том возрасте, когда детская простота особенно очаровательна. Оберегая чувства жены, Сен-Обер скрывал собственные страдания, стараясь воспринимать их философски, однако никакая философия не могла примирить его с тяжкой утратой. Теперь в семье осталась одна дочь. С тревожной нежностью наблюдая за развитием детского характера, Сен-Обер неустанно стремился противодействовать тем чертам, которые впоследствии могли помешать ее счастью. С ранних лет девочка отличалась душевным теплом и доброжелательностью, но наряду с этим ярко проявлялась и чрезмерная впечатлительность, которая с годами придала налет грусти ее восприятию мира и мягкость манерам, подчеркнув особую грацию и красоту. Однако Сен-Обер, обладавший достаточной долей здравого смысла и проницательностью, считал эти качества слишком опасными для дочери, чтобы видеть в них благословение. Именно поэтому отец упорно развивал ум девушки, воспитывал привычку к самообладанию, учил сдерживать порывы чувств и хладнокровно воспринимать разочарования, которые порой собственноручно воздвигал на ее пути. Обучая дочь противостоять первым впечатлениям и полагаться на достоинства ума, способные уравновесить страсти и тем самым вознести над обстоятельствами, Сен-Обер одновременно и сам получал уроки выдержки, с искусственным безразличием наблюдая страдания и слезы дочери.
Внешностью Эмили напоминала матушку, унаследовав от нее стройную фигуру, тонкие черты лица и исполненные нежной свежести голубые глаза. Однако при всей внешней прелести особое обаяние ее облику придавало выражение лица, живо реагировавшие на любые, возникавшие в процессе разговора чувства:
- Те нежные черты, что избегают взглядов
- Коварного мирского любопытства.
С неутомимой тщательностью месье Сен-Обер развивал познания дочери, преподавая общие принципы естественных наук, но особое внимание уделяя всевозможным видам изящной словесности; обучал латыни и английскому языку, чтобы дочь могла постигать все тонкости лучших поэтических произведений. Уже в раннем детстве Эмили проявила склонность к прекрасному, и отец всеми силами старался доставить дочке невинное счастье. Он любил повторять, что развитый ум – лучшая защита от безрассудства и порока. Праздный ум постоянно ищет забав и ради избавления от скуки готов погрузиться в пучину греха. Но наполните этот ум идеями, научите его мыслить – и искушения внешнего мира будут уравновешены удовольствиями мира внутреннего. Умственная деятельность и образование в равной степени необходимы как в сельской, так и в городской жизни. Во-первых, они предотвращают неприятное ощущение безделья и доставляют радость интересом к прекрасному и возвышенному, а во-вторых, превращают развлечения из досужей необходимости в желанный отдых.
Эмили с детства любила бродить на лоне природы, но не столько по уютным живописным окрестностям, сколько по диким лесным тропам у подножия гор и еще больше – вдоль грандиозных ущелий, где тишина и величие вселяли священный ужас и направляли помыслы к Богу Небесному и Земному. В меланхоличном очаровании она часто замирала до тех пор, пока последний солнечный луч не касался горизонта, а вечерняя тишина нарушалась лишь одиноким звуком овечьего колокольчика и далеким лаем сторожевой собаки. В такие минуты лесной мрак, трепет листьев при легком дуновении ветерка, бесшумный полет летучей мыши и мерцающий свет хижин пробуждали в ней поэтическое вдохновение.
Любимый маршрут вел к принадлежавшей Сен-Оберу маленькой рыбацкой хижине, которая стояла в узкой лесистой долине, на берегу быстрой речки, сбегавшей с Пиренеев и, с шумом миновав каменистый участок, тихо несшей свои воды под кронами высоких деревьев. Над всем миром здесь царствовали горы, притягивавшие взгляд даже сквозь густые заросли. То тут, то там выделялась изрезанная бурями скала, увенчанная стойкими кустами, или пастушья хижина, ютившаяся под сенью кипариса или раскидистого ясеня. Возникнув из глубины лесов, неожиданно открывался простор, где покрывавшие склоны Гаскони тучные пастбища и пышные виноградники постепенно переходили в долины, и там, на извилистых берегах Гаронны, радовали глаз гармонией далекие рощи, деревни или виллы.
Сен-Обер тоже любил приходить сюда жарким днем вместе с женой, дочерью и книгами или в безмятежный вечерний час, чтобы встретить молчаливые сумерки и услышать трели соловья. Иногда он приносил с собой гобой и пробуждал волшебное эхо прекрасными мелодиями, а порой округу оживлял нежный голос дочери.
Однажды на стене хижины Эмили обнаружила начертанное карандашом стихотворение:
Сонет
- Лети, сонет! Покорен воле дум,
- Скажи Богине этих нежных строк,
- Когда пройдет она легко, словно цветок,
- Что к ней одной с тоской стремится ум.
- О! Нарисуй лицо, прекрасные глаза,
- Задумчивость улыбки, стройность стана:
- Что воспевать готов я неустанно,
- Хотя мешает горькая слеза.
- Слова раскроют смысл сердечных мук,
- Но ах! Не верь отчаянным признаньям:
- Как часто пылкие стенанья —
- Пустого эха гулкий звук!
- Но разве тот, кому свет чувства дан,
- Поверит в горестный обман?
Поэтические строки не адресовалось никому конкретно, поэтому Эмили не могла принять их на свой адрес, хотя, несомненно, обладала правом считаться нимфой этих мест. Мысленно осмотрев тесный круг знакомых дам и не увидев ни в одной из них героиню сонета, она осталась в недоумении. Для особы праздного ума такое недоумение, возможно, оказалось бы болезненным, но Эмили не имела привычки предаваться долгим раздумьям по пустякам и превращать незначительный случай в важное событие. Небольшая доля тщеславия скоро испарилась, а само происшествие улетучилось из памяти, вытесненное книгами, учебой и исполнением ежедневных благотворительных обязанностей.
Вскоре, вызвав серьезную тревогу, заболел отец. Лихорадка оказалась неопасной, однако неблагоприятно подействовала на его организм. Жена и дочь неустанно ухаживали за больным, но выздоровление наступало медленно. Когда же наконец месье Сен-Обер пошел на поправку, начала слабеть мадам.
Едва обретя силы выйти из дома, Сен-Обер отправился в любимую рыбацкую хижину, распорядившись заранее отнести туда корзинку с едой, книги и лютню для Эмили. Удочка не требовалась, поскольку он никогда не рыбачил, не находя удовольствия в истязании живых существ.
После занятий ботаникой был подан обед, особую прелесть которому придавала возможность вновь посетить живописное место и ощутить семейное счастье. Месье Сен-Обер беседовал с обычной живостью: после тяжелой болезни и тесноты душной комнаты все вокруг доставляло ему радость, которая не поддается пониманию здорового человека. Зеленые леса и пастбища, цветущие луга, ароматный воздух, журчание прозрачного ручья и даже жужжание насекомых оживляло его душу и наделяло существование блаженством.
Воодушевленная выздоровлением и жизнерадостностью мужа, мадам Сен-Обер уже не ощущала собственной слабости. Она бодро шагала по романтической долине, разговаривала с ним и с дочерью и с нежностью смотрела на обоих полными слез глазами. Заметив сентиментальное настроение супруги, Сен-Обер обратился к ней с нежной укоризной, однако мадам лишь улыбнулась, крепко сжала ладони спутников и заплакала, уже не сдерживаясь. Муж с болезненной остротой ощутил значение момента. Сразу став серьезным, он тайно вздохнул и подумал: «Возможно, когда-нибудь я вспомню эту сцену с безнадежным сожалением. Но не стоит злоупотреблять дурным предчувствием; хочется верить, что я не доживу до потери тех, кто дорог мне больше жизни».
Пребывая в меланхолическом настроении, Сен-Обер попросил Эмили принести лютню и порадовать их искусной игрой. Однако, подойдя к рыбацкой хижине, она с удивлением услышала, как кто-то с глубоким чувством исполняет грустную выразительную мелодию. Эмили слушала в полном молчании, застыв на месте, чтобы ни единым движением не нарушить покой исполнителя и не помешать плавному течению музыкальной фразы. Вокруг стояла тишина, никого не было видно. Эмили слушала до тех пор, пока удивление и восторг не сменились робостью. Вспомнив о начертанном на стене сонете, она не знала, как следует поступить: переступить порог или незаметно удалиться.
Пока она раздумывала, музыка стихла. Собравшись с духом, Эмили вошла в хижину и обнаружила ее пустой! Лютня лежала на столе, в комнате царил порядок, и она начала думать, что слышала звуки другого инструмента, пока не вспомнила, что, уходя из хижины вместе с родителями, оставила лютню на подоконнике. Сама не зная почему, Эмили встревожилась. Меланхолия сумерек и глубокая тишина, нарушаемая лишь легким шелестом листьев, обострили игру воображения. Эмили захотела немедленно уйти, однако внезапно обессилела и присела отдохнуть. Пытаясь собраться с духом, она неожиданно заметила стихи на стене и вздрогнула, словно встретила незнакомца, но поборола тревогу и подошла к окну. Теперь стало очевидно, что к прошлым строкам добавились новые, где фигурировало ее имя.
И хотя больше не приходилось гадать, кому посвящены стихи, оставалось неясным, кто их написал. Размышляя, Эмили услышала на улице шаги и, в испуге схватив лютню, поспешила прочь. Родителей она нашла на вьющейся по краю долины тропинке.
Поднявшись на затененную высокими деревьями зеленую вершину, все трое устроились на траве. Пока мадам и месье Сен-Обер наслаждались живописным видом бескрайней долины Гаскони и вдыхали сладкий аромат цветов и трав, Эмили со свойственной ей деликатностью спела несколько их любимых арий.
Музыка и беседа задержали семью в этом благословенном месте до захода солнца, когда паруса на Гаронне превратились в тени, а все вокруг погрузилось во мрак – печальный, однако приятный. Только тогда Сен-Обер, его жена и дочь с сожалением покинули чудесный уголок. Увы! Мадам Сен-Обер знала, что покидает любимое место навсегда.
Подойдя к рыбацкой хижине, она не обнаружила на руке браслета и вспомнила, что после обеда, отправляясь на прогулку, сняла его и положила на стол. Однако после долгих поисков, в которых Эмили приняла самое активное участие, пришлось смириться с потерей. Ценность браслету придавал миниатюрный портрет дочери, написанный всего несколько месяцев назад и отличавшийся поразительным сходством. Убедившись, что браслет действительно исчез, Эмили покраснела и задумалась. Звуки лютни и новые строки на стене свидетельствовали, что в хижине кто-то побывал. Скорее всего музыкант, поэт и вор были одним лицом. И хотя звучавшая музыка, стихотворные строки и исчезнувший браслет могли быть простым стечением обстоятельств, Эмили вовсе не собиралась сообщать об этом родителям, твердо решив больше никогда не приходить в хижину без отца или матушки.
Семья вернулась домой в задумчивости. Эмили вспоминала недавние события. Месье Сен-Обер размышлял о дарованном ему счастье. Мадам сожалела и недоумевала по поводу исчезновения милого сердцу портрета дочери. Возле замка царило необычное оживление: раздавались голоса, между деревьями метались слуги, – и, наконец, появился экипаж. Подойдя ближе, хозяева увидели на лужайке ландо и взмыленных лошадей. Сен-Обер сразу узнал ливреи лакеев шурина, а в гостиной обнаружил месье и мадам Кеснель. Несколько дней назад они выехали из Парижа, а теперь направлялись в свое поместье Эпурвиль всего в десяти милях от Ла-Валле, которое месье Кеснель в свое время купил у месье Сен-Обера. Этот господин доводился мадам Сен-Обер единственным братом, однако семейные связи не подкреплялись родством характеров, а потому общение оставалось редким. Месье Кеснель вращался в высшем обществе, видя смысл жизни в достижении влияния и роскоши. Знание людей и хитрость позволили ему достичь поставленных целей. Неудивительно, что человек подобных взглядов не ценил достоинств месье Сен-Обера, считая простоту и умеренность во всем проявлением слабого интеллекта и ограниченного мировоззрения. Замужество сестры унижало его достоинство: Кеснель полагал, что брачный союз столь близкой родственницы должен служить достижению желанного положения в обществе, тем более что некоторые из отвергнутых ею женихов вполне соответствовали подобному требованию. Однако, узнав Сен-Обера, сестра вообразила, что счастье и богатство не одно и то же, и без сомнения пренебрегла вторым ради достижения первого. Трудно сказать, считал ли эти понятия идентичными сам месье Кеснель, однако с готовностью пожертвовал бы желанием сестры ради достижения собственных амбиций, а после свадьбы не постеснялся выразить сестре свое презрение относительно ее выбора. Мадам Сен-Обер скрыла оскорбление от мужа, но впервые в ее сердце вспыхнуло негодование. Хотя самоуважение и соображения благоразумия сдержали ее от выражения своих чувств, впоследствии в ее обращении с братом неизменно присутствовала холодность, которую тот и чувствовал, и понимал.
В собственном браке месье Кеснель не последовал примеру сестры. Его супругой стала богатая итальянка, особа тщеславная и ветреная.
Месье и мадам Кеснель решили переночевать в замке Сен-Оберов, а поскольку места для слуг не хватило, их отправили на постой в соседнюю деревню. Покончив с приветствиями и размещением, месье Кеснель приступил к демонстрации своего ума и блестящего положения в обществе. Давно отойдя от дел, Сен-Обер слушал чванливые рассуждения шурина с терпеливым вниманием, принятым гостем за униженное изумление. И действительно, ведь он в мельчайших подробностях описывал празднества при дворе Генриха III, правда не забывая при этом немного прихвастнуть. Однако, когда месье Кеснель перешел к рассказу о личности герцога Жуайеза, о секретном договоре, который тот замыслил с Портой, и о приеме, оказанном Генриху Наваррскому, месье Сен-Обер пришел к выводу, что гость принадлежит к низшему классу политиков. Судя по важности решаемых вопросов, он никак не мог находиться на том уровне, на который претендовал. Больше того, Сен-Обер даже не счел нужным отвечать на высказанные им суждения, ибо знал, что гость не обладает способностью чувствовать и понимать справедливость.
Тем временем мадам Кеснель выражала хозяйке изумление относительно жизни в столь далеком уголке мира, как она изволила высказаться, и, очевидно желая пробудить зависть, описывала роскошь балов, банкетов и торжественных церемоний в честь бракосочетания герцога Жуайеза с сестрой королевы Маргаритой Лотарингской. Она во всех подробностях повествовала как о тех событиях, которые видела собственными глазами, так и о тех, на которых не присутствовала. Эмили слушала ее с пылким любопытством и, обладая живым воображением, мгновенно представляла в голове яркие картины. А мадам Сен-Обер со слезами на глазах смотрела на мужа и дочь, чувствуя, что, хоть пышность и великолепие способны украсить счастье, только добродетель может его даровать.
– Прошло уже двенадцать лет, Сен-Обер, с тех пор, как я купил ваше фамильное поместье, – заявил месье Кеснель.
– Да, около того, – подавив вздох, подтвердил хозяин.
– И уже пять лет в нем не был, – продолжил гость. – Париж и окрестности – единственное на свете место, где можно жить. Я настолько погружен в политику и так завален делами, что не могу выбраться даже на месяц-другой.
Поскольку Сен-Обер молчал, месье Кеснель продолжил:
– Иногда я пытаюсь понять, как вы, долгое время живший в столице и привыкший к обществу, миритесь с существованием в глуши, где ничего не видите и не слышите: то есть, иными словами, почти не осознаете течения жизни.
– Я живу ради семьи и самого себя, – возразил Сен-Обер. – Сейчас для меня только это и есть счастье, в то время как прежде я знал жизнь.
– Я собираюсь потратить тридцать-сорок тысяч ливров на ремонт, – не заметив слов собеседника, продолжил месье Кеснель. – Планирую следующим летом на пару месяцев пригласить в гости друзей – герцога Дюрфора и маркиза Рамона.
В ответ на вопрос Сен-Обера относительно ремонта гость ответил, что хочет снести все восточное крыло замка и возвести там конюшни.
– Затем построю столовую, гостиную, служебные помещения и комнаты для слуг. Сейчас негде разместить треть моих людей.
– В замке хватало места для всего штата моего отца, – заметил опечаленный намерением шурина Сен-Обер. – А он был далеко не маленьким.
– С тех пор понятия изменились, – возразил месье Кеснель. – То, что тогда считалось приличным стилем жизни, сейчас кажется нестерпимым.
От этих слов покраснел даже выдержанный Сен-Обер, однако вскоре гнев уступил место презрению.
– Территория вокруг замка заросла деревьями. Хочу спилить бóльшую их часть.
– Пилить деревья! – воскликнул хозяин.
– Конечно. Почему нет? Они загораживают вид. Один каштан разросся так, что закрыл ветвями всю южную стену. Он настолько стар, что говорят, будто его дупло вмещает целую дюжину человек. Даже вы с вашим энтузиазмом вряд ли согласитесь, что от такого старого дерева есть польза или красота.
– Боже мой! – воскликнул Сен-Обер. – Неужели вы готовы уничтожить благородный каштан, в течение нескольких веков служивший гордостью поместья! Когда строился нынешний замок, дерево находилось в расцвете сил. В детстве и отрочестве я часто забирался в густую крону и прятался там от дождя. Ни одна капля меня не доставала! А порой я сидел среди ветвей с книгой в руке, то читая, то сквозь листву любуясь пейзажем и закатным солнцем, пока сумерки не заставляли птиц вернуться в свои гнезда. Как часто… Но простите, – остановился Сен-Обер, вспомнив, что говорит с человеком, не способным ни понять, ни допустить подобных соображений. – Я рассуждаю о временах и чувствах столь же старомодных, как жалость, побуждающая меня сохранить почтенное дерево.
– Дерево непременно будет уничтожено, – заявил месье Кеснель. – Я оставлю на аллее несколько каштанов, а среди них посажу ломбардские тополя. Мадам Кеснель любит тополя и постоянно рассказывает, как они украшают виллу ее дядюшки недалеко от Венеции.
– Но ведь это на берегах Бренты! – горячо воскликнул Сен-Обер. – Там тополя с их похожими на шпили кронами сочетаются с пиниями и кипарисами на фоне легких элегантных портиков и колоннад. Но среди обширных лесов, возле готического особняка…
– Что ж, дорогой Сен-Обер, – перебил его месье Кеснель, – я не собираюсь с вами спорить. Прежде чем мы сможем о чем-то договориться, вам следует вернуться в Париж. И кстати о Венеции: вполне возможно, что следующим летом мне придется туда отправиться. Обстоятельства складываются так, что я могу завладеть этой виллой, которую называют самой очаровательной на свете. В таком случае я отложу ремонт на год и проведу некоторое время в Италии.
Эмили удивили его слова об отъезде за границу, так как несколько минут назад месье Кеснель утверждал о необходимости постоянного присутствия в Париже и невозможности вырваться в деревню хотя бы на месяц. Однако Сен-Обер хорошо знал самовлюбленность собеседника и не считал его заявление странным. А главное, перенос ремонта замка на неопределенное время означал, что он может и вовсе не состояться.
Прежде чем удалиться на ночь, месье Кеснель пожелал побеседовать с хозяином наедине, и они перешли в другую комнату, где провели долгое время. Тема их разговора осталась неизвестной, но, вернувшись в гостиную, Сен-Обер выглядел взволнованным и опечаленным, чем глубоко встревожил супругу. Она хотела узнать причину огорчения, однако в силу природной деликатности сдержалась: если бы Сен-Обер счел нужным посвятить ее в свои дела, то не стал бы дожидаться расспросов.
На следующий день, перед отъездом, месье Кеснель снова уединился с хозяином.
После обеда по прохладе гости отправились в Эпурвиль, настойчиво пригласив хозяев посетить их поместье. Впрочем, приглашение было продиктовано скорее тщеславным стремлением продемонстрировать роскошь собственной жизни, чем желанием доставить удовольствие родственникам.
Проводив месье и мадам Кеснель, Эмили с радостью вернулась к привычным занятиям: к чтению книг, прогулкам, беседам с отцом и матушкой, не меньше дочери довольным освобождением от заносчивых и легкомысленных родственников.
Сославшись на нездоровье, мадам отказалась от обычной прогулки, и отец с дочерью отправились вдвоем.
Они пошли в сторону гор, собираясь навестить старых подопечных месье Сен-Обера, которых, несмотря на скромный достаток, он поддерживал материально.
Терпеливо выслушав жалобы одних, утешив в печали других и порадовав всех сочувствием и доброй улыбкой, Сен-Обер вместе с дочерью отправился в обратный путь через лес,
- Где,
- Как сказывают старики,
- В вечерней тьме лесной народ
- Проводит славно время[1].
– Вечерний лес всегда доставляет радость, – признался Сен-Обер, умиротворенный от осознания оказанной помощи беднякам и оттого особенно настроенный на восприятие красоты. – Помню, как в юности темнота вызывала у меня тысячи волшебных видений и романтических образов. Да и сейчас еще я не избавился от того возвышенного энтузиазма, который рождает поэтические мечты. Я могу разгуливать в глубоких сумерках, вглядываться в темноту и с трепетным восторгом вслушиваться в мистическое бормотание леса.
– Ах, дорогой отец! – со слезами воскликнула Эмили. – Как точно вы описали чувства, которые часто испытываю и я. Но я и не предполагала, что кто-то еще способен на подобные переживания! Однако прислушайтесь! Вот ветер шелестит в вершинах деревьев и замирает. Как торжественна тишина! И снова ветер! Он напоминает голос сверхъестественного существа – духа леса, хозяина ночи. Но что там за свет? Пропал… и снова появился возле корней большого каштана. Смотрите, отец!
– Ты так любишь природу и не узнала светлячков? – улыбнулся Сен-Обер и весело продолжил: – Но пойдем дальше. Возможно, мы встретим фей. Феи и светлячки часто появляются вместе: одни делятся своим светом, а другие взамен дарят музыку и танцы. Ты не замечаешь движения?
Эмили рассмеялась:
– Дорогой папа, поскольку вы заметили эту дружбу, должна признаться, что опередила вас. И даже почти готова прочитать поэтические строки, однажды родившиеся в этом самом лесу.
– Нет, – возразил месье Сен-Обер, – отбрось нерешительность и посвяти в свое откровение. Давай услышим, какие причуды создала твоя фантазия. Если она поделилась с тобой магией, то незачем завидовать феям.
– Если стихотворение достаточно сильное, чтобы очаровать вас, то я не стану им завидовать, – ответила Эмили и принялась декламировать:
Светлячок
- Как приятно в свежем лесу
- Ранним вечером после дождя,
- Когда ласточки кружат вовсю
- И лучи сквозь листву глядят.
- Но приятней еще, поверь,
- Когда солнце уходит спать.
- Феи нежные в сумерки дверь
- Любят легкой рукой открывать.
- Под музыку леса кружатся толпой,
- Встречая приход луны.
- Луга и долины дарят покой,
- Серебряным светом полны.
- Песнь соловьиная грустно звучит
- В полночи час одинокий.
- Голос певца по округе летит,
- Феи внимают зароку.
- Когда в небесной вышине
- Холодная звезда мерцает,
- А ненадежная луна
- Бездонный свод свой покидает,
- Я освещаю все вокруг
- Сияньем бледным, но живым.
- Веселых фей игривый друг,
- Готов помочь гостям ночным.
- Но озорницы мне мешают
- И путников с пути сбивают.
- Кричат отчаянно, пугают,
- Уйти с тропинки заставляют!
- Потом встают в просторный круг.
- Под песню скрипки, лютни шелест
- И тамбурина ровный стук
- Встречают танцем утра свежесть.
- Вот несколько влюбленных пар
- Скрываются от королевы фей.
- Я им помог найти нектар,
- Что власти царственной сильней.
- Теперь, желая наказать,
- Она таит оркестра звуки.
- Волшебный жезл спешит поднять,
- Чтоб власть над музыкой взять в руки.
- Ах, если б у меня был тот цветок,
- Нектар которого от рабства избавляет,
- Давно бы я покинул сей чертог,
- И путникам помог, что в темноте блуждают.
- Но скоро звездный луч и бледный луч луны
- Покинут лес, и тьма восторжествует.
- Тогда взгрустнется феям до поры.
- Пусть позовут меня, и свет верну я.
Что бы ни подумал месье Сен-Обер о стансах, он не лишил дочь радости поверить, что всецело их одобряет, а похвалив, погрузился в раздумья. Путь продолжился в молчании.
- Где слабый ненадежный луч
- Упал на все вокруг
- И взору даровал
- Неясную картину:
- Лесные дали, села и ручьи,
- Вершины гор и скалы
- Слились в туманной дымке[2].
Сен-Обер не произнес ни единого слова до самого дома. Мадам Сен-Обер уже удалилась в свою комнату. Слабость и уныние, угнетавшие ее в последнее время, после отъезда гостей вернулись с новой силой. На следующий день появились симптомы лихорадки. Сен-Обер послал за доктором, и тот постановил, что это та же болезнь, которую недавно перенес супруг. Мадам заразилась, ухаживая за мужем, а организм оказался не способен немедленно подавить инфекцию. Беспокоясь за жену, Сен-Обер оставил доктора в доме. Вспомнилась недавняя прогулка с семьей в рыбацкую хижину и мимолетное, но тяжелое предчувствие фатальности болезни. Однако он скрыл печальные мысли и от жены, и от дочери, которую поддержал заверениями, что ее рвение в уходе за матушкой принесет пользу. Доктор на все расспросы отвечал, что исход болезни зависит от многих обстоятельств, ему неведомых. Сама же мадам Сен-Обер уже поняла приближение конца, что читалось по ее глазам. Она часто устремляла нежный печальный взгляд на встревоженного мужа и испуганную дочь, словно предчувствуя ожидавшее их горе и желая сказать, что, расставаясь с жизнью, жалеет только о причиненных им страданиях. На седьмой день наступил кризис. Доктор заметно помрачнел, и это не укрылось от больной. Когда семья ненадолго покинула комнату, мадам воспользовалась моментом и призналась, что ощущает приближение конца.
– Не пытайтесь меня обмануть. Я знаю, что долго не протяну, и готова спокойно встретить смерть. Я давно готова. Поскольку жить мне осталось недолго, не поддавайтесь ложному сочувствию и не тешьте близких фальшивыми надеждами. От этого грядущее страдание станет еще тяжелее. Я постараюсь собственным примером научить их покорности.
Доктор последовал ее завету и довольно резко заявил супругу, что надежды нет. Услышав правду, Сен-Обер не нашел сил стоически принять известие, однако, заботясь о покое жены, старался владеть собой в ее присутствии. Эмили поначалу поддалась горю, но потом в душе появилась надежда на выздоровление матушки, и эта надежда упрямо поддерживала ее до последнего часа.
Во время болезни мадам Сен-Обер терпеливо переносила все страдания. Мысли о постоянном присутствии Бога и вера в высший мир придавали ей сил, однако не могли целиком подавить горечь от расставания с любимыми. В последние часы жизни мадам много беседовала с мужем и дочерью о потусторонней жизни, затрагивая и другие философские темы. Безусловное смирение жены, твердая надежда на встречу в будущей жизни с теми, кого покидала в жизни этой, постоянные усилия скрыть печаль от предстоящей разлуки часто заставляли Сен-Обера выходить из комнаты, чтобы справиться с чувствами. Дав волю слезам, он осушал глаза и возвращался с наигранным спокойствием, лишь углублявшим горе.
Никогда еще Эмили с такой ясностью не ощущала важность умения владеть собой, как в эти печальные моменты. Однако, когда настал конец, она сломалась под тяжестью горестных переживаний, понимая, что все это время держалась только за счет надежды и стойкости духа. А Сен-Обер слишком страдал сам, чтобы поддерживать дочь.
Глава 2
Шекспир У. Гамлет
- История моя легчайшим словом
- Волнует трепетную душу.
Мадам Сен-Обер обрела вечный покой на кладбище возле сельской церкви. Муж и дочь проводили ее в последний путь во главе длинной процессии крестьян, искренне оплакивавших добрую госпожу.
Вернувшись с похорон, Сен-Обер надолго уединился в своей комнате, а затем вышел со спокойным, хотя и бледным лицом и попросил, чтобы все домочадцы присоединились к его молитве. Отсутствовала только Эмили: запершись у себя в спальне, заливалась слезами. Отец потребовал его впустить и, взяв плачущую дочь за руку, несколько минут молчал, стараясь овладеть собой.
– Милая Эмили, – наконец произнес он дрожащим голосом, – я собираюсь помолиться вместе со всеми домочадцами. Раздели с нами обращение к Господу. Мы попросим поддержки свыше. Где еще искать помощи? Где еще можно найти сострадание?
Эмили осушила слезы и вслед за отцом спустилась в гостиную, где уже собрались слуги. Негромким торжественным голосом Сен-Обер прочитал вечернюю службу и добавил молитву за упокой души усопшей. Его голос заметно дрожал, слезы капали на страницы книги, и вот, наконец, он умолк, однако высокое чувство любви и преданности постепенно подняло его над миром и подарило сердцу покой.
Когда служба закончилась и слуги разошлись, отец нежно поцеловал Эмили и проговорил:
– С детства я пытался научить тебя самообладанию и показывал, как важно не терять его по жизни, поскольку самообладание не только хранит нас от опасных искушений, сбивающих с пути истины и добродетели, но и сдерживает потакание чувствам, которые считаются правильными, но, перейдя границу меры, становятся порочными, ибо несут зло. Всякая чрезмерность превращается в порок. Даже благородная в своей природе печаль обретает черты эгоистичной и неправедной страсти, если препятствует исполнению обязанностей. Под обязанностями я понимаю все, что мы должны как самим себе, так и другим. Излишнее потакание горю иссушает ум, почти лишая его способности вернуться к тем невинным радостям, которые Господь создал для освещения нашей жизни. Дорогая Эмили, постарайся вспомнить и применить те заповеди, которые я так часто тебе внушал, тем более что на собственном опыте ты познала их справедливость. Твоя печаль тщетна. Не принимай эти слова как банальное замечание, но позволь разуму одолеть печаль. Я не призываю тебя отказаться от чувств, дитя мое, но лишь учу ими владеть. Какой бы вред ни порождало слишком впечатлительное сердце, бесчувственное сердце отнимает надежду. Ты знаешь, как я страдаю, а потому понимаешь, с каким трудом мне даются эти слова. Я готов показать своей Эмили, что способен следовать собственным советам, а сказал это все потому, что не могу видеть, как ты поддаешься тщетному горю, не находя поддержки в разуме. Я молчал до сих пор, понимая, что есть периоды, когда все рассуждения должны уступить природе. Это время миновало и сейчас приходит другое, когда чрезмерные страдания превращаются в привычку и подавляют силу духа, делая победу над собой почти невозможной. Тебе, моя Эмили, предстоит доказать, что ты сможешь совладать с чувствами.
Эмили улыбнулась сквозь слезы и дрожащим голосом ответила:
– Дорогой отец, я постараюсь доказать, что достойна быть вашей дочерью.
Благодарность, любовь и острое горе нахлынули на нее и заставили замолчать.
Сен-Обер позволил дочери вдоволь поплакать, а потом заговорил на посторонние темы.
Первым с соболезнованиями в Ла-Валле приехал месье Барро, суровый и внешне бесчувственный человек. С Сен-Обером его сблизило увлечение ботаникой, поскольку они часто встречались во время скитаний по горам. Месье Барро отошел от дел и почти удалился от мира, поселившись в элегантном особняке на краю леса, неподалеку от Ла-Валле. Он также испытывал глубокое разочарование человеческим родом, однако, в отличие от Сен-Обера, не жалел и не оплакивал людей, испытывая больше негодования относительно их пороков, чем сострадания к слабостям.
Появление месье Барро удивило Сен-Обера, поскольку прежде тот никогда не принимал приглашений, а сейчас явился без церемоний и вошел в гостиную на правах давнего друга. Судя по всему, несчастье соседа смягчило его суровую, неласковую душу. Казалось, что мысли месье Барро заняты исключительно утратой Сен-Обера, однако сочувствие он выражал не столько словами, сколько поведением. О причине своего визита он говорил мало, но проявленным вниманием, мягким голосом и добрым взглядом от сердца к сердцу передал и сочувствие, и поддержку.
В это печальное для Сен-Обера время его навестила мадам Шерон – единственная оставшаяся в живых сестра, несколько лет назад овдовевшая и поселившаяся в своем поместье возле Тулузы. Общались родственники нечасто. Соболезнования мадам Шерон изливались обильным потоком слов. Она не понимала магии говорящих взглядов и мягкого, словно бальзам на душу, голоса, а потому подробно объяснила Сен-Оберу степень своего сочувствия, изложила достоинства покойной супруги, а затем утешила как могла. Пока тетушка говорила, Эмили без конца плакала, а Сен-Обер, стойко выслушав монолог сестры, перевел разговор на другую тему.
Прощаясь, мадам Шерон настойчиво приглашала брата и племянницу в гости, убеждая:
– Смена обстановки пойдет вам на пользу. Неправильно поддаваться горю.
Конечно, Сен-Обер признавал справедливость этих слов, но в то же время больше обычного не хотел покидать место, освященное былым счастьем. Все вокруг напоминало ему о жене, а каждый следующий день, притупляя остроту горя, все крепче привязывал к родному дому.
Однако существуют обязательства, которые приходится исполнять: таким стал визит к шурину месье Кеснелю, откладывать который было уже невозможно. Желая отвлечь дочь от грустных помыслов, Сен-Обер взял Эмили с собой в Эпурвиль.
Как только экипаж въехал в прилегавший к отцовским владеньям лес, сквозь пышные кроны каштанов взгляд сразу выхватил угловые башни замка. Вздохнув, Сен-Обер вспомнил, как много времени прошло с тех пор, как он был здесь в последний раз. Теперь поместье принадлежало человеку, не способному оценить его по достоинству. Вскоре экипаж покатил по аллее, под высокими сводами старинных деревьев, так восхищавших в детстве. Сейчас их меланхолические тени вполне соответствовали его мрачному настроению. Меж ветвей то и дело мелькали грандиозные фрагменты замка: широкая орудийная башня, арка главных ворот, подъемный мост и окружающий территорию сухой ров.
Услышав стук колес, у парадного входа собралось целое войско слуг. Сен-Обер вышел из экипажа и ввел дочь в готический холл, теперь уже лишенный фамильного герба и древних знамен. Старинные панели на стенах, как и потолочные балки, были выкрашены в белый цвет. Некогда украшавший дальний конец зала длинный стол, где хозяин замка любил демонстрировать гостеприимство и откуда доносились взрывы смеха и жизнерадостные песни, тоже исчез. Мрачные стены теперь оживляли фривольные картины – свидетельство дурного вкуса и испорченного нрава нынешнего хозяина.
Вслед за развязным парижским слугой Сен-Обер и Эмили вошли в гостиную, где сидели месье и мадам Кеснель. Те приветствовали гостей с церемонной вежливостью и после нескольких формальных слов соболезнования, казалось, забыли о том, что когда-то у них была сестра.
Эмили почувствовала, как к глазам подступают слезы, но негодование быстро их осушило. Спокойный и сдержанный Сен-Обер сохранял достоинство, не подчеркивая важности собственной персоны, однако присутствие его почему-то особенно раздражало Кеснеля.
После недолгой беседы Сен-Обер попросил разрешения поговорить с хозяином дома наедине. Эмили осталась с мадам Кеснель, которая сообщила, что к обеду ожидается много гостей, и пояснила, что никакие непоправимые события прошлого не должны препятствовать нынешнему веселью.
Услышав о предстоящем празднестве, Сен-Обер возмутился бесчувствием шурина и хотел немедленно уехать домой, однако передумал, услышав, что для встречи с ним была приглашена мадам Шерон. К тому же, взглянув на дочь, он предположил, что враждебность дяди способна когда-нибудь ей навредить, и решил не раздражать неугодным поведением тех, кто сам вовсе не заботился о сохранении приличий.
Среди собравшихся за обедом были два итальянских джентльмена. Один из них, по имени Монтони, доводился мадам Кеснель дальним родственником. Это был мужчина лет сорока, необыкновенной красоты и мужественности, однако в целом его внешность производила впечатление скорее высокомерия и острой проницательности, чем благожелательности и дружелюбия.
Его друг синьор Кавиньи – господин лет тридцати – выглядел не столь величественно, но не уступал в благородстве внешности и даже превосходил в утонченности манер.
Приветствие мадам Шерон, обращенное к отцу, неприятно поразило Эмили.
– Дорогой брат! – воскликнула она. – Ты выглядишь совсем больным! Умоляю, обратись к докторам!
С грустной улыбкой Сен-Обер ответил, что чувствует себя ничуть не хуже обычного, однако испуганной Эмили показалось, что отец действительно нездоров.
Если бы не эта тревога, она непременно заинтересовалась бы новыми людьми и их разговорами во время пышного застолья. Синьор Монтони, только недавно приехавший из Италии, рассказывал о захлестнувших страну беспорядках, с жаром рассуждал о партийных противоречиях и жаловался на возможные последствия событий. С равной горячностью его друг говорил о политике своей страны, хвалил правительство и процветание Венеции, а также хвастался несомненным превосходством города над остальными итальянскими государствами. Затем, повернувшись к дамам, он переключился на парижскую моду, французскую оперу и французские манеры, причем в последней теме постарался особенно польстить местным вкусам. Тонкая лесть прошла не замеченной слушателями, однако ее благоприятное воздействие не ускользнуло от внимания рассказчика. Когда удавалось отвлечься от настойчивых ухаживаний других дам, синьор Кавиньи обращался к Эмили, но она ничего не знала ни о парижской опере, ни о парижских фасонах, а ее скромность, простота и естественность манер резко контрастировали с поведением остальных приглашенных особ.
После обеда Сен-Обер вышел на улицу, чтобы навестить тот самый старинный каштан, который Кеснель собрался спилить. Стоя под деревом, он смотрел на все еще роскошные, полные жизни ветви, сквозь которые просвечивало голубое небо, а в памяти всплывали события детства и мелькали лица давно ушедших друзей. В эту минуту он особенно остро ощущал свое одиночество, ведь у него осталась только Эмили.
Он рано велел подать экипаж, и на обратном пути Эмили заметила особую подавленность и молчаливость отца, однако решила, что причина кроется в посещении места, где прошло его детство, не подозревая о существовании другой причины, которую он тщательно скрывал.
Вернувшись в замок, Эмили расстроилась еще больше: она привыкла, что матушка всегда встречала ее теплыми объятиями и ласковыми словами. А теперь родной дом казался пустым и холодным!
И все же время совершает то, что не подвластно усилиям рассудка и сердца: одна неделя сменяла другую, унося с собой остроту утраты, до тех пор, пока боль не превратилась в ту нежность, которую чувствительная душа хранит как священную. Сен-Обер, напротив, заметно ослаб, хотя неотлучно находившаяся рядом Эмили заметила это едва ли не последней. После тяжелой лихорадки здоровье его так полностью и не восстановилось, а смерть жены нанесла сокрушительный удар. Доктор посоветовал ему совершить путешествие: считалось, что горе разрушительно подействовало на ослабленные болезнью нервы, а перемена мест, возможно, развеет ум и восстановит здоровье.
В течение нескольких дней Эмили занималась подготовкой к поездке, а сам Сен-Обер пытался максимально сократить на это время домашние расходы, в конце концов решив уволить слуг.
Эмили редко возражала против желаний и намерений отца, иначе непременно спросила бы, почему он не берет с собой лакея, присутствие которого необходимо, учитывая слабое здоровье Сен-Обера, но, узнав накануне отъезда, что Жак, Фрэнсис и Мари уволены, а осталась только старая экономка Тереза, удивилась и осмелилась спросить, что заставило его так поступить.
– Нужно экономить, дорогая, – ответил отец. – Нам предстоит дорогое путешествие.
Доктор прописал воздух Лангедока и Прованса, поэтому Сен-Обер решил неспешно отправиться по берегу Средиземного моря в сторону Прованса.
Вечером накануне отъезда отец и дочь рано разошлись по своим комнатам, однако Эмили еще предстояло собрать книги и кое-какие мелочи. Когда часы пробили полночь, она вспомнила, что оставила в гостиной необходимые рисовальные принадлежности, и отправилась за ними. Проходя мимо спальни отца, она заметила, что дверь приоткрыта, и, тихонько постучав, вошла, чтобы убедиться, там ли он. В комнате было темно, однако сквозь стекло в верхней части двери, что вела в маленькую смежную комнату, пробивался свет. Эмили удивилась, что отец до сих пор не спит, и предположила, что ему нездоровится. Но, испугавшись, что ее внезапное появление в столь поздний час его встревожит, оставила свечу в коридоре и только потом подошла к двери.
Осторожно посмотрев сквозь стекло, она увидела отца сидящим за маленьким столом над разложенными бумагами, которые он читал с глубоким интересом и вниманием, время от времени всхлипывая и даже громко рыдая.
Эмили застыла, поддавшись любопытству и тревоге. Она не могла наблюдать за его горем, не попытавшись понять причину, а потому продолжала молча смотреть, решив, что на столе лежат письма матушки.
Через некоторое время Сен-Обер опустился на колени и со странным, диким и даже полным ужаса взглядом принялся молиться.
Когда он встал, лицо его покрывала отвратительная, призрачная бледность. Эмили хотела быстро уйти, однако увидела, что отец снова вернулся к бумагам, и остановилась. Он взял со стола небольшой футляр и вынул из него миниатюрный портрет. При свете яркой свечи Эмили увидела изображение молодой дамы, но не матушки.
Сен-Обер долго, нежно смотрел на портрет, потом поднес его к губам и к сердцу и громко, порывисто вздохнул.
Эмили не поверила глазам. До этой минуты она не знала, что отец хранит портрет какой-то другой особы, кроме жены, а тем более так им дорожит.
Наконец, Сен-Обер убрал миниатюру в футляр, а Эмили, осознав, что тайно подсматривает за отцом, бесшумно вышла из спальни.
Глава 3
Песнь менестреля
- Как можешь отвергать роскошный пир,
- Дарованный поклонникам природы?
- Богатство рек, бескрайний моря мир,
- Полей простор, лесов тенистых своды?
- Все, что окрасил ясный солнца луч
- И что вечерний свет укрыл туманом?
- Поток дождя, что вырвался из туч
- И землю напоил, пусть и обманом?
- Как можешь отвергать и ждать прощенья?
- Лишь в чудесах природы жизнь души
- Находит счастье, отвергая мщенье.
Вместо того чтобы поехать в Лангедок по короткой дороге вдоль подножия Пиренеев, Сен-Обер выбрал путь через перевал, открывавший широкие просторы и романтические пейзажи. Он немного отклонился от маршрута, чтобы заехать к месье Барро, которого обнаружил в лесу неподалеку от дома, в ботанических изысканиях. Узнав о цели визита, тот выразил искреннее сожаление, какого Сен-Обер от него не ожидал.
– Если бы что-то и смогло вытащить меня из родного угла, – заявил месье Барро, – то только удовольствие сопровождать вас в этом небольшом путешествии. Я нечасто расточаю комплименты, а потому можете поверить, что с нетерпением буду ждать вашего возвращения.
Путники отправились дальше.
Поднявшись на перевал, Сен-Обер то и дело оглядывался на оставшееся в долине поместье Ла-Валле; нежные образы переполняли ум, а меланхолическое воображение подсказывало, что он сюда не вернется.
Несколько миль миновали в молчании. Эмили первая очнулась от задумчивости: юношеская фантазия отозвалась на величие природы и красоту окружающих пейзажей. Дорога то спускалась в долину, окруженную огромными серыми валунами за исключением тех редких мест, где выживали кусты или клочки бедной растительности, дававшие корм диким козам, то вела к величественным скалам, откуда открывались бескрайние просторы.
Эмили не сдерживала восторга, глядя поверх сосновых лесов на обширную равнину, оживленную рощами, деревнями, виноградниками, плантациями миндаля и оливковых деревьев, которая уходила вдаль, пока ее яркие цвета не сливались в единый гармоничный оттенок, словно объединявший небо и землю. По этой великолепной земле, спускаясь с высот Пиренеев и впадая в Бискайский залив, несла свои голубые воды прекрасная Гаронна.
Из-за неровностей пустынной дороги путники часто были вынуждены покидать экипаж и идти пешком, однако это неудобство с лихвой восполнялось величием открывавшихся взору пейзажей. Пока погонщик медленно переводил мулов по неудобным участкам, отец и дочь с восторгом осматривали окрестности и предавались возвышенным размышлениям, наполнявшим сердце уверенностью в присутствии Бога. И все же радость Сен-Обера несла оттенок той задумчивой меланхолии, которая придает каждому предмету налет грусти и распространяет вокруг священное очарование.
Предвидя отсутствие удобных гостиниц, путешественники захватили запас провизии. Ничто не мешало им подкрепиться на открытом воздухе, в любом понравившемся месте, и переночевать в приятной хижине. Позаботились они и о пище для ума, взяв написанный месье Барро ботанический справочник, а также несколько книг латинских и итальянских поэтов. Эмили не давала отдыха карандашу, то и дело зарисовывая красоты природы.
Пустынность дороги, на которой лишь время от времени можно было встретить крестьянина в повозке или игравших среди камней детей, усиливало впечатление от пейзажа. Сен-Обер до такой степени восхитился окружающим величием, что решил продолжить путь по диким местам, углубиться на юг, в Руссильон, чтобы оттуда по берегу Средиземного моря проехать в Лангедок.
Вскоре после полудня показалась вершина одной из тех гор, которые своей пышной растительностью, подобно драгоценностям, украшают массивные склоны, обращенные к Гаскони и Лангедоку. Здесь, в тени деревьев, протекала холодная речка, а потом, пробравшись по камням, терялась в пропасти, осыпая белой пеной вершины растущих внизу сосен.
Место идеально подходило для отдыха. Путешественники расположились на обед, в то время как мулы мирно паслись среди тучной травы.
Сен-Обер и Эмили не сразу смогли отвлечься от созерцания и обратиться к скромной трапезе. Сидя в тени деревьев, отец объяснял дочери направление рек, расположение больших городов и границы провинций, опираясь не столько на зримое пространство, сколько на свои знания. Во время беседы он не раз замолкал в задумчивости, с трудом сдерживая слезы. Эмили замечала печаль отца, а чуткое сердце подсказывало причину: открывшаяся их взору картина напоминала, хотя и в увеличенном масштабе, любимый пейзаж мадам Сен-Обер возле рыбацкой хижины – невозможно было не заметить сходства. Отец и дочь подумали, как обрадовалась бы матушка дивной красоте, хотя оба знали, что ее добрые глаза закрылись навсегда. Сен-Обер вспомнил, как в последний раз побывал в любимом месте вместе с женой и ощутил печальное предчувствие – увы, так скоро оправдавшееся! Эти воспоминания глубоко ранили его душу. Он порывисто встал и отошел, чтобы скрыть горе от дочери.
Вскоре Сен-Обер вернулся, нежно сжал руку Эмили и окликнул сидевшего в отдалении погонщика. Мишель сказал, что в сторону Руссильона пролегает несколько дорог, но он не знает, как далеко они ведут и можно ли вообще по ним проехать. Не желая путешествовать в темноте, Сен-Обер спросил, есть ли неподалеку деревни. Погонщик ответил, что на их пути лежит деревня Мато, но если свернуть по склону на юг, в направлении Руссильона, то до наступления темноты можно успеть в другую деревню.
После недолгих колебаний Сен-Обер выбрал второй маршрут. Мишель завершил трапезу, запряг мулов, и путешественники снова тронулись в путь. Впрочем, скоро погонщик остановился возле массивного каменного креста и принялся молиться, а завершив обряд, погнал мулов галопом, не обращая внимания на неровности дороги и усталость животных (на которую сам недавно жаловался), по самому краю глубокой пропасти, от одного взгляда на которую кружилась голова. Эмили испугалась почти до обморока, а Сен-Обер, опасаясь остановить возницу, сидел неподвижно, доверившись силе и благоразумию мулов. Выяснилось, что благоразумием животные значительно превосходили хозяина и вскоре благополучно доставили путников в долину, остановившись на берегу небольшой речки.
Лиственницы и кедры охраняли покой этой пустынной местности, окруженной утесами. Вокруг не было заметно ни одного живого существа, кроме пробиравшихся среди камней пиренейских серн, порой принимавших такие опасные позы, что воображение заставляло наблюдателя отвернуться или зажмуриться. Такой пейзаж выбрал бы для своей картины Сальватор[3], живи он в то время. Вдохновленный суровым романтическим пейзажем, Сен-Обер вообразил, что сейчас появятся разбойники, а потому оружие, без которого никогда не путешествовал, держал наготове.
По мере продвижения вперед долина расширялась, а дикий нрав природы постепенно смягчался, и ближе к вечеру дорога уже вилась среди поросших вереском гор, где то и дело слышались колокольчики овец и голос пастуха, собирающего стадо на ночлег. Его хижина, почти скрытая пробковым дубом, оказалась здесь единственным жильем. Долину покрывала буйная растительность, а в низинах, в тени дубов и каштанов, паслись небольшие стада коров. Некоторые животные отдыхали на берегу речки или, зайдя в воду, утоляли жажду.
Солнце уже садилось. Последние его лучи блестели в воде, подчеркивая желтый цвет кустов ракитника, покрывавших склоны, и лиловый оттенок вересковых полян. Сен-Обер спросил погонщика, сколько еще ехать до деревни, о которой тот говорил. Мишель не смог точно ответить, и Эмили начала опасаться, что он сбился с дороги. Людей вокруг не было: пастух со своим стадом и хижиной остался далеко позади. Сумерки сгустились настолько, что глаз уже не различал очертаний отдаленных предметов, будь то хижины или деревья. Единственный свет исходил от линии горизонта на западе, и путники смотрели на него с надеждой. Погонщик поддерживал дух песней, однако исполнение его, скорее напоминавшее монотонную молитву, не могло развеять меланхолию. Вскоре Сен-Обер выяснил, что парень действительно молился любимому святому.
Путь продолжался в грустной задумчивости, какую всегда навевают сумерки и безмолвие. Внезапно послышался выстрел. Сен-Обер приказал погонщику остановиться и прислушался. Звук не повторился, однако из кустов донесся шорох. Сен-Обер достал пистолет и распорядился гнать как можно быстрее. Вскоре округу огласил пронзительный звук рога. Сен-Обер взглянул в окно и увидел, как из кустов на дорогу выскочил молодой человек, а за ним две собаки. Незнакомец был одет как охотник, за плечами висело ружье, а на поясе болтался охотничий рог. В руке он держал небольшое копье, придававшее его фигуре мужественную красоту.
После недолгого сомнения Сен-Обер снова остановил экипаж и дождался, пока незнакомец приблизится, чтобы спросить, далеко ли до деревни. Охотник ответил, что осталось проехать всего полмили, сам он идет туда же и с радостью покажет дорогу. Сен-Обер поблагодарил его за любезность и, привлеченный благородным видом и открытым выражением лица юноши, предложил место в экипаже. Охотник с благодарностью отказался, сказав, что пойдет рядом с мулами, и добавил:
– Боюсь только, что удобного ночлега вы не получите. В этих горах живут простые люди, лишенные не только роскоши, но и самых необходимых условий.
– Полагаю, вы, месье, к ним не относитесь, – заметил Сен-Обер.
– Нет. Я здесь чужак.
Экипаж катился по неровной дороге. Тьма сгущалась, и путешественники радовались присутствию проводника. Вокруг то и дело стали появляться узкие лощины. Заглянув в одну из них и заметив вдалеке нечто вроде яркого облака, Эмили с недоумением спросила:
– Что там за свет?
Сен-Обер посмотрел в том же направлении и увидел горы – такие высокие, что их вершины до сих пор освещали последние лучи солнца, в то время как внизу уже царила темнота.
Наконец сквозь сумрак мелькнули огни, а вскоре показались и хижины, – точнее, их отражение в освещенной закатными лучами реке, на берегу которой они стояли.
Незнакомец сообщил путешественникам, что в этой местности нет не только гостиницы, но и приличного дома, предназначенного для ночлега путешественников, но предложил пройтись до деревни и выяснить, не удастся ли устроиться в одной из хижин. Сен-Обер поблагодарил его за любезность, добавив, что, поскольку деревня уже совсем близко, он пойдет вместе с ним, а Эмили медленно поедет следом.
По пути Сен-Обер поинтересовался, успешно ли прошла охота.
– Добыча невелика, – ответил незнакомец. – Да я и не особенно старался. Я люблю эти места и обычно провожу здесь пару недель, а собак беру с собой скорее ради компании. Костюм и снаряжение позволяют местным жителям с первого взгляда определить, чем я занимаюсь, – это обеспечивает мне уважение, недоступное одинокому путнику без определенной цели.
– Я восхищен вашим вкусом, – ответил Сен-Обер. – Будь я помоложе, с удовольствием провел бы несколько недель в скитаниях. Я тоже путешествую, но с иной целью – в поисках здоровья и душевного равновесия. – Он вздохнул и после короткой паузы продолжил: – Если найдется терпимая дорога, где можно найти ночлег, то я хочу доехать до Руссильона, а оттуда по берегу Средиземного моря попасть в Лангедок. Вы, месье, наверняка знакомы с округой. Может быть, поделитесь опытом?
Незнакомец заверил его, что охотно сообщит все, что знает, и рассказал о дороге, проходившей значительно восточнее, в направлении города, откуда легко добраться до Руссильона.
Они пришли в деревню и занялись поисками места для ночевки, но побывав в нескольких хижинах, до того бедных и грязных, что рассчитывать на постель даже не приходилось, Сен-Обер отказался от дальнейших попыток. Эмили заметила разочарование отца и посетовала, что он выбрал дорогу, непригодную для путешествия человека со слабым здоровьем. Другие хижины произвели не столь страшное впечатление: они состояли из двух так называемых «комнат». В первой помещались мулы и свиньи, а вторую занимали семьи, как правило, состоявшие из родителей и шести-восьми детей, которые спали вповалку на сухих березовых листьях и шкурах, покрывавших земляной пол. Свет поступал сквозь отверстие в крыше, через него же выходил дым очага. В помещении стоял крепкий запах алкоголя, так как контрабандисты не обошли стороной Пиренеев и познакомили местных жителей с горячительными напитками.
Отвернувшись от нерадостной картины, Эмили с нежной тревогой посмотрела на отца. Их спутник, видимо заметив выражение ее лица, отозвал Сен-Обера в сторону и предложил свою постель.
– По сравнению с этими мои условия вполне приличны, хотя при других обстоятельствах я постыдился бы о них упомянуть.
Сен-Обер поблагодарил его за великодушие, отказался, но молодой человек отказа не принял.
– Не заставляйте меня краснеть, зная, что вы ночуете на жестком полу, в то время как я нежусь в мягкой постели. К тому же, месье, ваш отказ оскорбляет мою гордость: создается впечатление, что вы считаете мое предложение недостойным. Позвольте вас проводить. Не сомневаюсь, что хозяйка удобно устроит и молодую даму.
В конце концов Сен-Обер принял предложение, хотя и несколько удивился, что незнакомец не проявил галантности, предложив свою комнату пожилому нездоровому мужчине, а не прелестной молодой девушке. Эмили же, напротив, заботу об отце встретила благодарной улыбкой.
Незнакомец наконец назвал свое имя: Валанкур – и, подведя спутников к лучшему в деревне дому, вошел первым, чтобы поговорить с хозяйкой. Спустя пару минут та показалась сама и пригласила гостей в комнаты. Добрая женщина с радостью приняла путников, предложив занять две имевшиеся в доме кровати. Из еды на столе оказались только яйца и молоко, но Сен-Обер предусмотрительно запасся провизией, поэтому с радостью пригласил Валанкура разделить трапезу. Приглашение было с благодарностью принято. Час прошел в просвещенной беседе. Сен-Обер с удовольствием отметил, что их нового знакомого отличает мужественная простота, открытость и глубокое восхищение величием природы. Сам он нередко утверждал, что это свойство души немыслимо без сердечной простоты.
Разговор прервал донесшийся с улицы шум: особенно громко кричал погонщик. Валанкур быстро поднялся и направился узнать причину ссоры, а поскольку крики не стихали, Сен-Обер вышел следом. Выяснилось, что Мишель требует, чтобы хозяйка позволила мулам ночевать в маленькой комнате, где она спала вместе с тремя сыновьями. Помещение отличалось крайней бедностью, но другого места не было, и с душевной тонкостью, не совсем обычной для жителей этого дикого края, женщина отказывалась впустить животных в помещение. Погонщик, почувствовав себя оскорбленным непочтительным отношением к благородным существам – пожалуй, даже пощечину он принял бы с бóльшим смирением, – торжественно заявил, что его мулы самые достойные во всей провинции и заслуживают уважительного отношения.
– Они кроткие как ягнята, – заверил Мишель, – конечно, если их не сердить. За всю жизнь я только раз-другой сталкивался с их неправильным поведением, да и то для гнева существовал серьезный повод. Однажды они наступили на спавшего в стойле мальчика и сломали ему ногу. Но я их отругал, и, видит святой Антоний, они меня поняли, потому что больше такое никогда не повторялось.
Красноречивый монолог закончился заверением, что животные всегда ночуют вместе с ним.
Валанкур попытался уладить разногласия: отозвал хозяйку в сторону и стал уговаривать уступить комнату погонщику, а детей уложить на предназначенную ему шкуру. Ну а сам он был готов завернуться в плащ и устроиться на скамье возле двери. Та не соглашалась, но Валанкур все же настоял на своем, и после долгих препирательств мир был восстановлен.
Уже наступила ночь, когда Сен-Обер и Эмили разошлись по своим кроватям, а Валанкур устроился на скамейке, которую предпочел шкуре и духоте хижины.
Сен-Обер с удивлением обнаружил на полке в комнате несколько книг Гомера, Горация и Петрарки, однако начертанное на книгах имя – Валанкур – подсказало, кому они принадлежат.
Глава 4
Песнь менестреля
- Сказать по правде, сей человек был странен:
- Любил тоску зимы и радость лета,
- Искал восторга он в густом тумане
- Не меньше, чем в сиянье света.
- Под солнцем юга счастливо он жил,
- Ловил удачу и не знал печали.
- Бог наградил его избытком сил,
- А люди всюду радостно встречали.
- Ни вздоха грустного, ни слез не ведал он.
Сен-Обер проснулся рано, освеженный сном и готовый продолжить путь. Он пригласил Валанкура разделить с ним завтрак. За столом тот поведал, что несколько месяцев назад добрался до Божё – городка по пути в Руссильон, и рекомендовал выбрать этот путь. Сен-Обер решил последовать совету.
– Дорога из этой деревни пересекается с дорогой в Божё на расстоянии примерно полутора миль отсюда. Если позволите, я покажу погонщику направление. Мне все равно надо куда-то идти, а ваше общество сделает путешествие приятнее любого другого.
Сен-Обер с благодарностью принял предложение, и новые знакомые тронулись в путь вместе, причем молодой охотник отказался от места в экипаже и пошел пешком.
Дорога вилась у подножия гор, по мирной долине, где обильно росли карликовые дубы, буки и платаны, а в густой тени деревьев отдыхали стада. Выше, на склонах, где скудная почва едва скрывала корни, простирали ветви рябины и плакучие березы, чьи легкие листья отвечали каждому дуновению ветерка.
В этот ранний прохладный час то и дело встречались пастухи, гнавшие стада на горные пастбища. Сен-Обер специально поспешил с выездом: не только для того, чтобы насладиться восходом солнца, но и чтобы подышать свежим утренним воздухом, особенно целительным для слабого здоровья благодаря изобилию диких цветов и ароматных трав.
Предрассветные сумерки, смягчавшие пейзаж особой серой дымкой, уступили место солнечному свету, и Эмили заметила наступление дня, поначалу робко трепетавшего на верхушках гор, а потом уверенно вступившего в свои права, в то время как склоны и долина еще дремали в росистом тумане. Постепенно угрюмые серые облака на востоке начали розоветь, краснеть и, наконец, окрасились тысячью цветов, когда золотистый свет наполнил воздух, коснулся нижнего яруса гор и обратился к долине и реке длинными косыми лучами. Казалось, природа пробудилась от вечного сна и вернулась к жизни. Сен-Обер ощутил обновление. Сердце его наполнилось чувствами, он заплакал и обратился мыслями к великому Создателю.
Эмили хотелось пройтись по траве – такой зеленой и блестящей от росы; хотелось ощутить восторг свободы подобно горной серне, легко прыгавшей с камня на камень. Валанкур часто обращался к спутникам, привлекая их внимание к особенно красивым видам.
Сен-Оберу молодой человек очень понравился. «Вот истинное проявление непосредственности и душевного благородства. Этот парень никогда не был в Париже», – подумал он.
К сожалению, через некоторое время их дороги разошлись. Настала минута прощания, и сердце Сен-Обера с сожалением приняло необходимость расставания.
Остановившись возле экипажа, Валанкур долго разговаривал со спутниками. Несколько раз он собирался уйти, но тут же поспешно находил новую тему, чтобы протянуть время. Сен-Обер заметил, что, уходя, он задумчиво и грустно посмотрел на Эмили, когда та поклонилась новому знакомому с выражением дружелюбной скромности. Когда экипаж отъехал, Сен-Обер выглянул в окошко и увидел, что Валанкур продолжает стоять на краю дороги, обеими руками опершись на копье, и неотрывно смотрит им вслед. Сен-Обер помахал ему рукой. Словно очнувшись, Валанкур ответил на прощальный салют и пошел своим путем.
Пейзаж постепенно менялся: вскоре вокруг показались горы, сплошь покрытые темным сосновым лесом, кроме редких гранитных скал с теряющимися в облаках снежными вершинами. Речушка, по берегу которой шла дорога, превратилась в полноводную реку и теперь текла важно и неспешно, отражая черноту нависающих гор.
Порой над лесом и парящим туманом гордо поднимала голову скала или из реки вздымался каменный остров, на котором раскинула гигантские ветви старинная лиственница, местами раненная молниями, местами покрытая буйной растительностью.
Путь по-прежнему пролегал по дикой и пустынной местности. Лишь время от времени вдалеке, в долине, проходил одинокий пастух с собакой да в ветвях сосен шелестел ветер, а высоко в небе вскрикивали орлы и другие хищные птицы.
Экипаж медленно двигался по ухабистой дороге. Сен-Обер то и дело выходил из экипажа, чтобы рассмотреть удивительные растения на обочине, а Эмили углублялась в лес и в полной тишине прислушивалась к голосам обитателей и шуму деревьев.
На протяжении многих миль не встречалось ни сел, ни деревушек. О присутствии человека напоминали лишь приютившиеся среди скал хижины пастухов и охотничьи избушки.
Путники пообедали на свежем воздухе, под сенью кедров, и отправились дальше.
Теперь дорога пошла под уклон и, миновав сосновый лес, начала пробираться между каменистыми ущельями. Солнце уже клонилось к закату, и путники не знали, далеко ли еще до Божё. Сен-Обер предполагал, что расстояние не может быть очень большим, и утешал себя мыслью, что после этого города, где он надеялся найти ночлег, дорога станет более оживленной.
В сумраке неясно виднелись смешанные леса и поросшие вереском горные склоны, однако вскоре и эти неясные картины утонули во тьме.
Мишель двигался осторожно, с трудом различая дорогу. К счастью, мулы видели в темноте лучше и потому ступали уверенно.
Внезапно за поворотом появился яркий свет, озаривший и горы, и горизонт. Сен-Обер предположил, что это костер, разведенный скрывавшимися в Пиренеях бандитами, и забеспокоился, не пролегает ли путь мимо их стоянки. Конечно, пистолет мог защитить от нападения, хотя сопротивляться отчаянным грабителям было почти невозможно. Пока он раздумывал, позади экипажа прозвучал приказ погонщику остановиться. Сен-Обер в свою очередь потребовал ехать как можно быстрее, однако то ли Мишель, то ли мулы отличались редким упрямством и продолжали неторопливое движение. Вскоре послышался стук лошадиных копыт. К экипажу подъехал всадник и повторил приказ. Теперь Сен-Обер уже не усомнился в намерениях чужака и поспешно выхватил пистолет. В этот момент бандит схватился за дверь кареты. Сен-Обер выстрелил, и всадник, застонав, закачался в седле. К своему ужасу, Сен-Обер узнал слабый голос Валанкура и приказал погонщику остановиться, затем окликнул раненого по имени и, получив не оставивший сомнений ответ, бросился на помощь. Валанкур по-прежнему держался в седле, однако истекал кровью и страдал от боли, хотя и пытался заверить, что ранен легко, всего лишь в руку. Вместе с погонщиком Сен-Обер помог ему спешиться, усадил на обочине и попытался перевязать рану, но руки дрожали, и ничего не получалось. Мишель бросился догонять убежавшую лошадь, а потому пришлось призвать на помощь Эмили. Дочь не отзывалась, и, подойдя к экипажу и заглянув внутрь, Сен-Обер обнаружил ее лежащей в глубоком обмороке. Растерявшись и не зная, кому помогать в первую очередь, он попытался поднять Эмили и крикнул Мишелю, чтобы тот принес воды из реки, но погонщик был слишком далеко. Валанкур же, услышав крик и неоднократно повторенное «Эмили», сразу понял, в чем дело, и, забыв о собственных страданиях, бросился на помощь. Когда он подошел, девушка уже начала приходить в себя. Поняв, что причиной обморока стало беспокойство за него, Валанкур дрожащим (но не от боли) голосом заверил ее, что ранение несерьезное. Сен-Обер повернулся к нему и, увидев, что кровь по-прежнему обильно течет, принялся перевязывать рану носовыми платками. Наконец кровотечение прекратилось, но тревога за последствия ранения не отступила, и Сен-Обер уточнил, далеко ли еще до Божё. Валанкур ответил, что осталось две мили. Трудно было представить, как, ослабев, он вынесет поездку в тряском экипаже, но стоило Сен-Оберу заговорить на эту тему, как Валанкур попросил не беспокоиться за него, заверив, что прекрасно справится, а само происшествие не стоит внимания. Вернувшийся с лошадью погонщик помог ему сесть в экипаж. Эмили уже пришла в себя, и путешествие в Божё пусть и медленно, но продолжилось.
Придя в себя после ужаса, вызванного несчастным случаем, Сен-Обер выразил удивление по поводу внезапного появления Валанкура, и тот объяснил свой поступок следующим образом:
– Вы, месье, пробудили во мне интерес к обществу. Расставшись с вами, я ощутил одиночество. Поскольку ничто не ограничивало моей свободы передвижения, я решил поехать этой дорогой и насладиться романтичными видами. – На миг задумавшись, он добавил: – К тому же – почему бы не признаться? – я надеялся вас догнать.
– А я в свою очередь оказал неожиданный прием, – ответил Сен-Обер, все еще переживавший из-за собственной поспешности в действиях.
Валанкур, дабы не расстраивать спутников и избавить их от тревоги и чувства вины, боролся с болью и старался говорить весело. Эмили все время молчала, отвечая лишь на прямые вопросы, причем при каждом обращении к ней голос Валанкура по-прежнему красноречиво дрожал.
Они подъехали к костру уже так близко, что теперь различили движущихся вокруг него людей с дикими лицами, хорошо заметными в свете пламени. Это был один из многочисленных цыганских таборов, которые в то время кочевали по Пиренеям, часто промышляя разбоем и грабежом. Языки пламени придавали сцене романтический характер, отбрасывая красные отсветы на ближайшие скалы и деревья, но оставляя в глубокой тени окружающее пространство, куда боялся проникнуть осторожный взгляд.
Цыгане готовили еду. Над костром висел большой котел, рядом суетились несколько фигур. Неподалеку виднелось подобие шатра, возле которого играли дети и собаки. Сомнений в опасности не оставалось. Валанкур молча положил руку на один из пистолетов Сен-Обера, он сам достал другой и приказал Мишелю ехать как можно быстрее. К счастью, обошлось без неприятных последствий. Очевидно, цыгане не были готовы к стремительным действиям и больше интересовались ужином, чем припозднившимися путешественниками.
Проехав в темноте еще полторы мили, путники наконец прибыли в Божё и остановились возле единственной в городке гостиницы. Конечно, она выглядела лучше тех жилищ, что довелось встретить в горах, но все же не дотягивала до мало-мальски приличной для ночлега.
Немедленно послали за местным лекарем, если можно так назвать того, кто пользовал не только людей, но и лошадей, а так же брил и вправлял кости. Добрый человек осмотрел рану и, убедившись, что пуля прошла навылет, перевязал руку, предписав раненому соблюдать покой. Впрочем, подчиняться тот не собирался.
Воспрянув духом, Валанкур с готовностью завел беседу со спутниками, и те, обрадовавшись, что опасность миновала, весело поддержали разговор. Несмотря на поздний час, Сен-Обер отправился вместе с хозяином гостиницы купить к ужину мяса. Эмили некоторое время занималась обустройством в комнате, которая превзошла ее ожидания, но теперь вернулась, чтобы составить компанию Валанкуру. Они беседовали об удивительном крае, по которому пролегал их путь, о необыкновенных растениях, о поэзии и Сен-Обере: об отце Эмили всегда говорила и слушала с особым интересом и нескрываемым удовольствием.
Вечер прошел очень приятно, но, поскольку Сен-Обер утомился в дороге, а Валанкур страдал от боли, вскоре после ужина все разошлись по своим комнатам.
Утром выяснилось, что раненый провел беспокойную ночь: началась лихорадка, боль не отступала. Лекарь посоветовал не продолжать путь, а остаться в Божё: разумный совет, отвергать который не следовало, – но Сен-Обер не доверял местному эскулапу и хотел передать Валанкура в более надежные руки. К сожалению, оказалось, что на расстоянии нескольких миль не было ни одного города, где могли бы предоставить квалифицированную помощь, поэтому Сен-Обер изменил планы и решил дождаться выздоровления раненого. Впрочем, сам Валанкур пытался возражать, хотя и не вполне искренне, скорее из приличия.
По рекомендации лекаря в тот день Валанкур не покидал своей комнаты, в то время как Сен-Обер и Эмили отправились изучать окрестности. Городок приютился у подножия гор, поражавших воображение то глубиной ущелий, то высотой кедров, пихт и кипарисов, почти достигавших горных вершин. Среди темных хвойных лесов весело зеленели буки и рябины, а кое-где в вышине шумели бурные потоки.
Недомогание Валанкура на несколько дней задержало путешественников в Божё. Все это время Сен-Обер со свойственным ему философским интересом изучал характер спутника. Перед ним предстала натура искренняя, пылкая и щедрая, восприимчивая ко всему возвышенному и прекрасному, хоть и излишне страстная и романтическая. Валанкур плохо представлял реальную жизнь. Взгляды его отличалось ясностью, а чувства – благородством. Осуждение недостойного поступка или одобрение поступка великодушного он выражал с равной горячностью. Порой Сен-Обер улыбался откровенности молодого человека, но редко пытался ее обуздать, не раз повторив про себя: «Этот юноша никогда не бывал в Париже». Сен-Обер решил не оставлять спутника до тех пор, пока тот полностью не поправится. Вскоре Валанкур восстановил силы настолько, что мог отправиться дальше, хотя и не верхом. Поэтому Сен-Обер предложил ему место в своем экипаже – тем охотнее, что узнал о принадлежности молодого человека к весьма достойной семье Валанкур из Гаскони. Приглашение было с благодарностью принято, и по дикой, но необыкновенно живописной местности все отправились дальше, в Руссильон.
Ехали неспешно, останавливаясь при виде особенно впечатляющего пейзажа. Часто выходили из экипажа, поднимались на недоступные мулам возвышенности и смотрели вдаль, бродили по холмам, поросшим лавандой, тимьяном, можжевельником и тамариском, или под сенью деревьев, между которыми то тут, то там виднелось длинное горное ущелье дивной красоты.
Время от времени Сен-Обер занимался сбором редких растений, а Валанкур и Эмили медленно шли вперед. Молодой человек показывал то, что казалось ему особенно интересным, и наизусть читал строки любимых латинских и итальянских поэтов. Порой, в паузах, он украдкой смотрел на ее лицо, а когда заговаривал снова, в голосе его слышалась особая нежность, хотя он и пытался скрыть свои чувства. Постепенно молчание становилось все более продолжительным, и Эмили старалась возобновить беседу, снова и снова восхищаясь лесами, долинами и горами, лишь бы избежать опасности многозначительного безмолвия.
Дорога неуклонно поднималась. Вскоре показались суровые ледники и горные вершины, покрытые вечными снегами. Путешественники часто останавливались и, присев на скалу, где могли выжить только падубы и лиственницы, смотрели поверх хвойных лесов и бездонных ущелий вниз, в долину – такую глубокую, что едва слышался шум протекавшего по ее дну потока. Над этими утесами возвышались другие – непостижимой высоты и фантастической формы. Одни вытягивались конусами, другие нависали над своим основанием огромными гранитными глыбами, покрытыми снегом, который угрожал обрушиться при малейшем звуке и принести в долину несчастье.
Вокруг, на сколько хватает глаз, природа поражала величием: окрашенными в эфемерные голубые тона или белыми от снега длинными линиями горных вершин, ледяными долинами, мрачными хвойными лесами. Особое восхищение вызывала безмятежная прозрачность воздуха, возвышавшая дух и дарившая покой сознанию. Для выражения не испытанных прежде чувств не хватало слов. Душа Сен-Обера переполнилась торжественным благоговением. К глазам то и дело подступали слезы, и чтобы скрыть их от спутников, ему приходилось отходить в сторону. Валанкур время от времени обращал внимание Эмили на особенно выдающиеся картины; ее же особенно поражала обманчивая прозрачность воздуха: трудно было поверить, что кажущиеся близкими объекты на самом деле находятся очень далеко. Глубокая тишина нарушалась лишь криками сидевших на скалах грифов и паривших в вышине орлов. Изредка далеко внизу прокатывался глухой гром. В небесах царила не замутненная ни единым облачком голубизна, а под ногами собирался густой туман.
Проехав много миль по необыкновенному краю, путешественники начали спускаться к Руссильону. Пейзаж стал более привычным. Хотя уставший от величия природы глаз с радостью отдыхал при созерцании мирной реки и раскинувшихся на ее берегах рощ и пастбищ, они то и дело с сожалением оборачивались назад. Сердце радовалось при виде приютившихся под кедрами скромных хижин, весело игравших детей, притаившихся среди холмов цветочных полян.
Немного ниже показался один из ведущих в Испанию грандиозных перевалов. Его укрепления и башни сияли в лучах закатного солнца, желтые вершины лесов золотили склоны, а над головой по-прежнему возвышались розовеющие снежные вершины гор.
Сен-Обер начал осматриваться в поисках небольшого городка Монтиньи, который жители Божё рекомендовали для ночлега, однако пока никаких признаков жилья видно не было. Валанкур помочь не мог, так как никогда не бывал в этой части Альп, но других дорог не наблюдалось, ни одного перекрестка не встретилось, так что в правильности выбранного пути сомневаться не приходилось.
Солнце дарило последние скудные лучи, и Сен-Обер постоянно торопил погонщика. После долгого утомительного дня он испытывал слабость и мечтал об отдыхе. Вскоре их внимание привлек длинный караван, состоящий из лошадей и тяжело нагруженных мулов. Он спускался по противоположному склону, то пропадая за лесом, то снова появляясь, так что судить о его численности было невозможно. Порой в лучах солнца блестело оружие; сидевшие в повозках люди были в военных мундирах, как и некоторые из тех, кто следовал в авангарде. Когда процессия скрылась в долине, из леса донесся стук копыт, и показался вооруженный отряд. Сен-Обер успокоился, поняв, что это перехваченные регулярным войском контрабандисты, переправлявшие через Пиренеи запрещенные товары.
Восхищаясь живописными горными пейзажами, путешественники потеряли так много времени, что теперь не знали, смогут ли приехать в Монтиньи до наступления темноты. Но неожиданно за поворотом показался грубый альпийский мост, переброшенный между двумя утесами, на котором стайка детей развлекалась тем, что бросала камешки в протекавшую внизу реку и наблюдала за фонтанами белых брызг в сопровождении гулкого, протяжного эха. Под мостом открывалась долина с ниспадающим с обрыва потоком и хижиной на скале, под соснами. Стало ясно, что городок уже близко. Сен-Обер остановил погонщика и обратился к детям с вопросом, далеко ли до Монтиньи. Однако шум воды заглушил его голос, а утесы выглядели настолько крутыми, что взобраться на любой из них, не имея опыта, казалось невозможным. Сен-Обер решил не тратить времени понапрасну и продолжил путешествие даже после того, как тьма окончательно скрыла дорогу – такую неровную, что идти пешком показалось предпочтительнее. Уже поднялась луна, но тусклый серебряный свет не смог помочь усталым путникам. К счастью, они услышали звон церковного колокола. Темнота не позволяла рассмотреть само здание, однако звуки долетали с лесистого склона с правой стороны. Валанкур предложил немедленно отправиться на поиски монастыря.
– Если монахи не смогут устроить нас на ночь, то во всяком случае подскажут, далеко ли до Монтиньи, и объяснят, как туда добраться.
Не дожидаясь ответа, молодой человек устремился в лес, но Сен-Обер его остановил.
– Я очень устал и хочу одного: как можно скорее прилечь. Пойдемте в монастырь все вместе. Монахи могут отказать вам, но, увидев нас с Эмили, наверняка сжалятся.
С этими словами он взял дочь за руку, приказал Мишелю сторожить экипаж и начал подниматься вверх по склону. Заметив нетвердую походку спутника, Валанкур великодушно предложил ему свою здоровую руку, чтобы опереться. Луна поднялась уже достаточно высоко, освещая тропинку и какие-то башни над вершинами деревьев. Следуя призыву колокола, путники вошли в лес. Теперь лунный свет скользил среди листвы и отбрасывал на крутую извилистую тропу лишь дрожащие отблески. Мрак, тишина, нарушаемая лишь колокольным звоном, и дикая местность повергли бы Эмили в ужас, если бы не спасал мягкий, но уверенный голос Валанкура.
Через некоторое время Сен-Обер пожаловался на усталость. Для отдыха выбрали маленькую зеленую полянку, где деревья расступились, впуская лунный свет. Сен-Обер сел на траву между Эмили и Валанкуром. Колокол умолк, и уже ничто не нарушало глубокую тишину, а глухое бормотание далекого потока скорее подчеркивало молчание природы. Внизу простиралась долина, по которой они только что ехали. Посеребренные луной камни и деревья слева представляли контраст с противоположными скалами, едва тронутыми светом. Сама же долина терялась в туманной дымке. Путники долго сидели, погрузившись в умиротворенный покой.
– Такие картины, – наконец заговорил Валанкур, – смягчают сердце, подобно нежной мелодии, и вселяют в душу восхитительную меланхолию. Кто хоть раз испытал это чувство, никогда не променяет его на самые веселые развлечения. Пейзажи пробуждают лучшие – высокие и чистые – чувства, располагают к великодушию, сопереживанию и дружбе. В такой час, как этот, я всегда еще больше люблю тех, кого люблю.
Голос его задрожал, и речь прервалась.
Сен-Обер молчал. Эмили ощутила на своей руке, которую сжимал отец, теплую слезу и поняла, о ком он думает. Она тоже часто вспоминала матушку.
Он с усилием поднялся и, подавив печальный вздох, проговорил:
– Да, воспоминания о любимых, об ушедших счастливых временах в такой час трогают ум, как далекая музыка в ночной тишине; они такие же нежные и гармоничные, как дремлющий в мягком серебряном свете пейзаж. – Помолчав мгновение, Сен-Обер добавил: – Мне всегда казалось, что в подобные минуты думается яснее, и только бесчувственные сердца не смягчаются под влиянием трогательных мыслей. И все же таких сердец немало.
Валанкур вздохнул.
– Неужели такое возможно? – удивилась Эмили.
– Пройдет несколько лет, дорогая дочка, и ты улыбнешься, вспомнив свой вопрос, – если, конечно, не заплачешь. Но, кажется, я немного отдохнул. Пришла пора продолжить путь.
Вскоре лес закончился, и на зеленой возвышенности показался монастырь, окруженный высокой стеной. Путники постучали в старинные ворота, и появившийся на стук монах проводил гостей в небольшую комнату, попросив подождать, пока сообщит настоятелю.
Наконец монах вернулся и проводил путников в кабинет, где за столом перед большой раскрытой книгой сидел сам настоятель. Он принял посетителей любезно, хоть и не поднялся с кресла, задал несколько вопросов и позволил им провести ночь в монастыре.
После короткой беседы путников проводили в трапезную, а один из молодых братьев вызвался помочь Валанкуру найти Мишеля и мулов. Впрочем, не успели они спуститься и до половины склона, как услышали голос погонщика. Тот по очереди звал то Сен-Обера, то Валанкура. Шевалье заверил его, что бояться нечего, устроил на ночлег в хижине у подножия холма и вернулся к друзьям, чтобы разделить скромный ужин, предложенный монахами.
Сен-Обер ослаб настолько, что не мог есть. Беспокоясь об отце, Эмили совсем забыла о себе, а молчаливый, задумчивый Валанкур наблюдал за обоими с глубоким вниманием и при малейшей возможности старался помочь больному. Сен-Обер, в свою очередь, замечал, с какой нежностью молодой человек смотрел на Эмили, когда та пыталась накормить отца или поправить подушку у него за спиной. Особенно важным ему показалось то обстоятельство, что дочь благосклонно принимала это восхищенное внимание.
После ужина все разошлись по своим комнатам. Эмили постаралась как можно скорее проститься с провожавшей ее монахиней, так как из-за переживаний с трудом могла поддерживать разговор. Она ясно видела, что отец слабеет день ото дня, и объясняла нынешнюю усталость не трудностями путешествия, а болезненным состоянием. Черные мысли заполонили ум, долго не давая уснуть.
Едва беспокойный сон все-таки пришел, его прервал звон колокола, и галерея, куда выходила дверь ее комнаты, тут же наполнилась звуком торопливых шагов. Эмили так плохо знала монастырские обычаи, что сразу встревожилась. Решив, что отцу стало совсем плохо, она поспешила на помощь, но пока стояла в коридоре, пропуская монахов, мысли ее пришли в порядок, и она поняла, что колокол призывал на ночную молитву.
Наконец звон стих. Снова воцарилось спокойствие, и Эмили не захотела нарушать отдых отца. Спать уже не хотелось, да и луна, заглянувшая в окно, так манила открыть его полюбоваться сказочным пейзажем.
Стояла тихая прекрасная ночь. Ни единое облачко не тревожило небесный покой, ни единый лист не дрожал на деревьях. В ночном безмолвии из часовни на скале донесся стройный монашеский хор. Священный гимн поднимался к небесам, а вместе с ним возвышались и мысли.
От раздумий о величии его деяний сознание обратилась к поклонению Господу в его величии и милости. Чего бы ни коснулся взгляд – будь то спящая земля или недоступные постижению сияющие высоты, – повсюду проявлялось могущество и всевластие божественного присутствия.
Глаза Эмили наполнились слезами безмерной любви и бескрайнего восхищения. Она ощутила ту чистую, превосходящую все человеческие понятия преданность, которая возносит душу над миром и погружает в иные сферы. Преданность, которую можно испытать в те редкие мгновения, когда, освободившись от земных забот, сознание стремится воспринять его силу в безупречности его созданий, а его милость – в бесконечности его благословений.
- Разве не настал тот час,
- Священный час, когда в безоблачную высь
- Небес восходит светлый шар луны
- И в тишине торжественного мира
- Знак посылает, что пора к божественному уху
- Свой голос обратить? Ребенок малый
- Знает это и из колыбели ручонки тянет,
- Прося благословенья[4].
Вскоре монашеский хор стих, но, желая сохранить благоговейное состояние, Эмили еще долго смотрела на заходившую луну и тонувшую во мраке долину, а потом вернулась на узкую монастырскую кровать и погрузилась в спокойный сон.
Глава 5
Томсон Дж. Времена года
- Когда в долине, полной роз,
- Любовь цвела, не ведая печали.
В достаточной мере восстановив силы, утром Сен-Обер вместе с дочерью и Валанкуром выехал в надежде попасть в Руссильон до захода солнца. Край, по которому проходил путь, оставался таким же диким и романтичным, как прежде, хотя время от времени пейзаж смягчался. Все чаще среди гор появлялись небольшие рощи, украшенные яркой листвой и цветами, или в тени скал открывалась взору пасторальная долина, где на берегах мирной речки паслись стада овец и коров.
Сен-Обер не жалел о том, что выбрал этот трудный маршрут, хотя и сегодня ему приходилось то и дело покидать экипаж, шагать по краю пропасти или взбираться на крутые каменистые склоны. Сложности и испытания щедро вознаграждались разнообразием живописных пейзажей. Восторженный энтузиазм молодых спутников пробуждал в нем воспоминания о своей юности, когда душа познавала волшебство природы. Валанкур оказался приятным собеседником: Сен-Обера привлекала меткость его наблюдений и глубина рассуждений, а также простота и искренность манер. Сен-Обер с одобрением замечал в его чувствах правдивость и достоинство возвышенного ума, еще не испорченного высшим светом.
Взгляды Валанкура казались не навязанными извне, а сформированными скорее в результате раздумий, чем обучения. Об обществе он не знал ровным счетом ничего, поскольку, основываясь на примере собственного сердца, искренне верил в доброту людей.
Время от времени останавливаясь, чтобы изучить дикие растения, Сен-Обер с радостью наблюдал за молодыми людьми. Валанкур вдохновенно указывал спутнице на очередной грандиозный вид, а Эмили слушала и смотрела с нежной серьезностью, говорившей о возвышенности ее ума. Со стороны они казались влюбленной парой, никогда не покидавшей пределов этих диких гор и свободной от суетности внешнего мира, мыслящей столь же простыми и чистыми, как окружающий ландшафт, понятиями, не знающей иного счастья, кроме союза верных сердец. Сен-Обер улыбался, лицезрея эту романтическую картину счастья, а потом вздыхал, думая о том, как мало знакомы миру природа и простота, если их радости считаются романтическими.
«Мир, – заключил он, следуя собственным мыслям, – смеется над страстью, которую редко испытывает. Его образы и интересы расстраивают ум, убивают вкус, развращают душу. Любовь не может жить в сердце, утратившем кроткое достоинство невинности. Как же можно искать любовь в больших городах, где место нежности, простоты и правды занимают эгоизм, распутство и неискренность?»
Около полудня путешественники достигли особо крутого участка дороги, и дальше отправились пешком, но вместо того чтобы следовать за экипажем, вступили под своды лесного шатра. Воздух дышал росистой прохладой, а ярко-зеленая трава в тени деревьев, богатый аромат тимьяна и лаванды, величие сосен, буков и каштанов превращали этот уголок в восхитительный приют отдохновения. Время от времени густая листва полностью закрывала обзор, а порой снисходительно приоткрывала далекие пейзажи, позволявшие воображению рисовать картины более интересные и впечатляющие, чем те, что открывались взгляду. Путники часто останавливались, чтобы дать волю фантазии.
Сегодня разговор Валанкура и Эмили чаще обычного прерывался продолжительным молчанием. Валанкур то и дело внезапно переходил от оживления к глубокой задумчивости, а улыбка его не могла скрыть меланхолии, которую Эмили пыталась разгадать.
Отдохнув в тени, Сен-Обер ощутил прилив сил, и путники пошли лесом, стараясь держаться как можно ближе к дороге, пока не поняли, что заблудились. Завороженные красотой пейзажа, они шли по краю ущелья, в то время как дорога поднималась над скалами. Валанкур принялся громко звать Мишеля, но ответом ему служило лишь гулкое эхо. Столь же безуспешными оказались попытки разыскать дорогу. Неожиданно вдалеке между деревьями мелькнула пастушья хижина, и Валанкур бросился туда за помощью, однако обнаружил лишь двух игравших на пороге маленьких мальчиков. Он заглянул в хижину, но там никого не было, а старший из детей объяснил, что отец пасет стадо, а мама ушла в долину и скоро вернется. Пока шевалье размышлял, что делать дальше, сверху, со скал, донесся крик Мишеля, многократно усиленный эхом. Валанкур сразу ответил и начал поспешно подниматься на голос. С трудом пробравшись сквозь колючие заросли ежевики, он наконец увидел Мишеля. Оказалось, что дорога пролегала в значительном отдалении от того места, где остались Сен-Обер и Эмили. Спуститься к опушке леса экипаж не мог, точно так же как Сен-Обер не мог осилить долгий и крутой подъем к экипажу, поэтому Валанкур отправился искать более легкий путь по тому склону, который только что преодолел сам.
Тем временем Сен-Обер и Эмили подошли к хижине и присели на грубую скамью между двумя соснами дожидаться возвращения спутника.
Старший из братьев прервал игру и принялся с интересом рассматривать незнакомцев, в то время как младший продолжал прыгать. Некоторое время Сен-Обер с удовольствием наблюдал милую картину, но вскоре вспомнил своих сыновей, которых потерял примерно в таком же возрасте, их безутешную мать и впал в печальную задумчивость. Эмили заметила настроение отца и запела одну из его любимых простых и трогательных песен, которые исполняла с неподражаемым искусством. Сен-Обер улыбнулся сквозь слезы, нежно сжал руку дочери и постарался отвлечься от печальных мыслей.
Пока Эмили пела, вернулся Валанкур и, не желая ее прерывать, остановился неподалеку. Как только песня закончилась, он подошел к своим спутникам и рассказал, что нашел Мишеля, а также обнаружил путь, по которому они могут дойти до того места, где стоит экипаж. Валанкур указал вверх, на крутой подъем, и Сен-Обер взглянул в ту сторону с опасением. Он уже изрядно устал, и новое испытание казалось ему непреодолимым. И все же прямой путь наверх представлялся менее изнурительным, чем долгая неровная дорога, так что он отважился рискнуть. Однако Эмили решила, что перед трудным подъемом отцу необходимо отдохнуть и пообедать, и Валанкур снова отправился к экипажу за едой.
Вернувшись, он предложил перейти чуть выше: туда, откуда открывался обширный вид, но не успели путники удалиться, как увидели, что к хижине подошла молодая женщина и принялась со слезами обнимать и ласкать детей.
Наблюдая за ней, путешественники помедлили. Та заметила их внимание, поспешно вытерла слезы и, взяв младшего сына на руки, скрылась в хижине. Сен-Обер вошел следом, спросил о причине ее горя и услышал в ответ, что муж, который все лето пас по найму стадо в горах, прошлой ночью потерял все, что имел. Пришедшие в округу цыгане украли несколько хозяйских овец.
– Жак скопил немного денег и купил овец, а теперь их нужно вернуть хозяину взамен украденных, – пояснила бедная женщина. – Но хуже всего то, что, когда господин узнает о случившемся, сразу уволит Жака и больше никогда не доверит ему стадо. Что же будет с нашими детьми?
Искреннее лицо молодой матери убедило Сен-Обера в правдивости ее слов. Валанкур же спросил, сколько стоят овцы, но, услышав цену, разочарованно отвернулся. Сен-Обер вложил в руку женщины немного денег, Эмили тоже что-то достала из своего маленького кошелька, и оба вышли из хижины. Валанкур, однако, задержался, чтобы поговорить с женой пастуха, которая теперь плакала уже от благодарности и удивления. Он спросил, сколько не хватает, чтобы заплатить за похищенных овец, и с огорчением услышал, что нужна сумма чуть меньше той, которой он располагал.
«Эти деньги вернут в семью счастье, – подумал Валанкур. – И я могу это сделать! Но что же тогда будет со мной? Как вернуться домой на оставшиеся жалкие средства?»
Пока он стоял в растерянности, появился сам пастух, и дети бросились ему навстречу. Младшего он взял на руки, а старшего прижал к себе. Несчастный, обреченный вид главы семейства мгновенно разрешил сомнения Валанкура: он положил на стол почти все деньги, оставив себе лишь несколько луидоров, и бросился догонять своих спутников, которые медленно поднимались в гору. Валанкур редко чувствовал себя таким счастливым, как в этот миг: сердце его танцевало от радости, все вокруг казалось лучше и красивее, чем прежде. Такое необычайное оживление не ускользнуло от внимания Сен-Обера, и он поинтересовался:
– Что вас так развеселило, друг мой?
– Ах, что за чудесный день! Как ярко светит солнце! – восторженно воскликнул молодой человек. – Какой чистый воздух! До чего прекрасен пейзаж!
– Пейзаж действительно прекрасен, – подтвердил Сен-Обер, поняв природу его чувств. – Но как жаль, что богачи, способные создать себе такое удовольствие, проводят жизнь во мраке, в холодной тени эгоизма! Пусть же вам, мой юный спутник, солнце всегда светит так же ярко, как сегодня! Пусть ваши поступки неизменно дарят свет великодушия и разума!
Безмерно польщенный тонким комплиментом, Валанкур благодарно улыбнулся в ответ.
Продолжая идти по лесу, среди поросших травой невысоких холмов, все трое не смогли сдержать восхищенных восклицаний, когда достигли тенистой вершины. Позади того места, где они стояли, вздымалась высокая перпендикулярная скала с нависшими наверху огромными камнями. Серый фон эффектно подчеркивал яркость растущих в расщелинах цветов, особенно заметных под сенью сосен и кедров. Склоны, по которым взгляд скользил в долину, радовали зарослями альпийских кустарников, а еще ниже зеленели пышные кроны скрывавших подножие горы каштанов. Среди них проглядывала только что оставленная путниками хижина, откуда сейчас поднимался голубой дымок очага. Вокруг громоздились грандиозные вершины Пиренеев, на некоторых сияли поминутно менявшие цвет мраморные глыбы, а другие, самые высокие, гордо поднимали снежные головы над спускавшимися по склону могучими соснами, лиственницами и дубами. Так восхищенным взорам предстала одна из узких долин, что вела в провинцию Руссильон. Зеленые пастбища и возделанные рукой человека поля словно мерялись своей красотой с окружающим романтическим величием. Чуть дальше, в легкой дымке, появились омытые водами Средиземного моря низины Руссильона, где на мысу, привлекая птиц, стоял одинокий маяк. Время от времени сияли на солнце паруса, движение которых было заметно лишь относительно маяка, а порой мелькал парус – настолько далекий, что казалось, будто он отмечает границу между небом и волнами.
С другой стороны долины, напротив того места, где отдыхали путники, открывался каменистый перевал в провинцию Гасконь. Здесь следов человеческой деятельности заметно не было. Скрывавшие ущелье гранитные скалы упрямо поднимались и тянули голые вершины к облакам, не уступая лесам и не допуская в свое одиночество даже охотничью хижину. Лишь иногда гигантская лиственница простирала над пропастью мощные ветви да на краю обрыва мрачно возвышался каменный крест, напоминая дерзкому путешественнику об ожидавшей его участи. Эта картина заставила вспомнить о разбойниках, облюбовавших это место для укрытия, и Эмили живо представила, как из какой-нибудь пещеры в поисках легкой добычи выбираются вооруженные люди. Вскоре ее поразила картина не менее ужасная: возле входа на перевал, непосредственно над одним из крестов, возвышалась виселица. Простые и страшные символы рассказывали понятную, но оттого не менее печальную историю. Эмили не стала привлекать внимание отца, однако заметно погрустнела и заторопилась дальше, чтобы попасть в Руссильон до наступления темноты. Но Сен-Оберу непременно требовалось подкрепиться, поэтому путники устроились на короткой сухой траве и открыли корзинку с провизией, в то время как
- Прохладным ветром освеженный,
- Высокий кедр раскинул пышно ветки,
- И пальмы стройные дарили щедро тень.
- Дыша живым сосновым духом
- И ароматом солнечных долин,
- Прислушивались к гулу водопада[5].
Отдых и прозрачный горный воздух взбодрили Сен-Обера, а Валанкур настолько проникся очарованием природы и увлекся приятной беседой, что, казалось, совсем забыл о необходимости продолжить путь. Завершив скромную трапезу, все трое бросили последний взгляд на волшебный пейзаж и отправились дальше.
Сен-Обер с радостью встретил экипаж, и Эмили села вместе с отцом. Однако Валанкур захотел получше рассмотреть новую местность, а потому отвязал собак и вслед за ними зашагал по краю дороги. Он то и дело отклонялся от маршрута ради более широкого обзора, а потом без труда догонял медленно тянувшихся мулов. Заметив особенно впечатляющий пейзаж, он с восторгом сообщал об этом Сен-Оберу, а тот, хотя и не имел сил выйти сам, останавливал экипаж, чтобы Эмили могла подняться на скалу и полюбоваться видом.
К вечеру они спустились к основанию Альп, окружавших Руссильон плотным кольцом и открывавших единственный выход на восток, к Средиземному морю. Здесь ландшафт вновь напомнил о присутствии человека: низина сияла самыми яркими красками, рожденными союзом благодатного климата и неустанного труда. В воздухе витал живительный аромат апельсиновых и лимонных рощ, а сквозь плотную листву светились оранжевые и ярко-желтые плоды. Склоны украшали пышные виноградники. Дальше, в сторону расцвеченного парусами моря, простирались леса и пастбища, виднелись города и деревни. Вечер мягко окутывал пейзаж лиловой дымкой. В соседстве с суровыми Альпами эта картина поражала единством красоты и величия.
Спустившись в долину, путешественники отправились в Арль, где планировали остановиться на ночлег, и действительно нашли простую, но уютную гостиницу и после трудной, хотя и прекрасной дороги провели приятный вечер, омраченный лишь близостью расставания. Сен-Обер собирался уже утром отправиться на побережье Средиземного моря и продолжить путь в Лангедок. Валанкур же, окончательно выздоровев и утратив повод для продолжения совместного путешествия, решил проститься с ними. Составив самое благоприятное впечатление о новом друге, Сен-Обер предложил ему и дальше ехать вместе, однако не настаивал, а потому Валанкур не поддался искушению, чтобы не показаться навязчивым. Таким образом, утром предстояла разлука: Сен-Обер с дочерью должен был направиться в Лангедок, а Валанкуру не оставалось ничего иного, как на обратном пути домой искать в горах новые великолепные пейзажи. В последний вечер молодой человек то и дело умолкал и глубоко задумывался. Сен-Обер обращался с ним по-дружески, но серьезно, а Эмили заметно грустила, хотя и пыталась казаться жизнерадостной. Наконец, после самого печального совместного вечера, все разошлись по своим комнатам.
Глава 6
Томсон Дж. Замок праздности
- Не страшно мне, Судьба,
- Что ты меня накажешь.
- Лишить не сможешь
- Широты небес.
- Ты солнцу скрыться
- Властно не прикажешь
- И не закроешь путь
- В прибрежный лес.
- Красу природы, силу мирозданья
- Отнять не сможешь даже в смертный час.
- Воображенье – сила созиданья
- Оставит след вокруг и после нас.
Утром Сен-Обер встретился с Валанкуром и Эмили за завтраком. Молодые люди выглядели расстроенными и, судя по всему, оба дурно провели ночь. Эмили беспокоилась за отца, чья болезнь казалась ей все более заметной, и, с тревогой наблюдая за симптомами, делала неутешительные выводы.
Еще в самом начале знакомства Валанкур назвал свою фамилию, и оказалось, что Сен-Обер знает его семью. Менее чем в двадцати милях от Ла-Валле располагались фамильные угодья, принадлежавшие ныне старшему брату Валанкура, с которым Сен-Обер часто встречался, приезжая в город. Давнее знакомство помогло Сен-Оберу легче принять молодого спутника. Хоть он и вполне доверял собственному впечатлению, вряд ли доверил бы случайному встречному свободное общение с дочерью.
Завтрак прошел в таком же унылом молчании, как и вчерашний ужин, но грустить было некогда: экипаж уже стоял наготове. Валанкур быстро встал, посмотрел в окно и, убедившись, что расставание неминуемо, молча вернулся на место. Настала минута прощания. Сен-Обер выразил надежду, что, оказавшись в Ла-Валле, молодой человек непременно его навестит, и Валанкур с благодарностью заверил, что воспользуется приглашением. Говоря это, он не сводил с Эмили робкого взгляда, так что ей пришлось спрятать свои невеселые думы за улыбкой. Несколько минут прошли в оживленном разговоре, потом Сен-Обер первым направился к экипажу, Эмили и Валанкур молча последовали за ним. Когда путники заняли места, молодой человек все еще стоял у дверцы экипажа, и никому не хватало мужества первым произнести слова прощания. Наконец Сен-Обер взял грустную миссию на себя. Валанкур с натянутой улыбкой отошел в сторону, и экипаж тронулся.
Путешественники пребывали в состоянии спокойной задумчивости, которую трудно назвать неприятной, пока Сен-Обер не заметил:
– Весьма многообещающий молодой человек. Давно никто не производил на меня столь благоприятного впечатления после краткого знакомства. Валанкур заставил меня вспомнить дни молодости, когда все казалось новым и восхитительным!
Он вздохнул и снова погрузился в задумчивость, а Эмили оглянулась и у двери гостиницы увидела Валанкура, который все еще смотрел им вслед. Он помахал ей рукой, и Эмили принялась махать ему в ответ, а через несколько секунд Валанкур скрылся из вида.
– Помню себя в его возрасте, – продолжил Сен-Обер. – Я думал и чувствовал точно так же, как он. Тогда весь мир открывался передо мной, а теперь закрывается.
– Мой дорогой отец, не допускайте таких мрачных мыслей, – дрожащим голосом взмолилась Эмили. – Я надеюсь, что вы проживете еще много-много лет – ради меня и ради себя самого!
– Ах, милая Эмили! Ради тебя! Что же, хочется в это верить!
Он вытер предательскую слезу, заставил себя улыбнуться и бодро проговорил:
– В искренности и пылкости юности есть что-то особенно приятное для сознания старика, если его чувства не окончательно испорчены миром. Черты эти оживляют и придают силы, действуя так же, как весна действует на больного человека. Сознание наполняется весенним духом, а глаза отражают яркий свет солнца. Валанкур для меня – та же весна.
Эмили благодарно сжала руку отца. Никогда еще она не слушала его похвалы с таким удовольствием – даже если он хвалил ее.
Дорога шла среди виноградников, лесов и пастбищ. Романтический пейзаж с одной стороны ограничивали величественные Пиренеи, а с другой – бескрайний морской простор. Вскоре после полудня показался расположенный на берегу городок Кольюр. Здесь путешественники пообедали, скоротали знойные дневные часы и по чудесному побережью поехали дальше, в Лангедок.
Эмили не сводила восторженного взгляда с постоянно менявшего цвет моря. Вода отражала свет и тени, а поросший лесом берег уже окрашивался в оттенки ранней осени.
Сен-Обер спешил попасть в Перпиньян, где предполагал получить письма от месье Кеснеля. Именно ожидание этих писем заставило его покинуть Кольюр, хотя он был слаб и нуждался в продолжительном отдыхе.
После нескольких миль пути Сен-Обер заснул, и Эмили обратилась к книгам, взятым из дома. Она хотела найти среди них одну – ту, что накануне читал Валанкур, в надежде увидеть ту самую страницу, на которой останавливались глаза милого друга, прочитать вызвавшие его восхищение строки и вспомнить его голос – одним словом, создать иллюзию его присутствия. Нужную книгу она так и не нашла, зато обнаружила небольшой том сонетов Петрарки с начертанным на титульном листе именем «Валанкур». Именно из этой книги он часто читал ей гениальные, полные чувств строки.
Эмили не сразу поняла то, что сразу стало бы ясно особе более искушенной: молодой человек намеренно оставил эту книгу вместо утерянной, и поступить так ему подсказала любовь. С радостным нетерпением она перевернула страницы, увидела отмеченные карандашом прочитанные вслух строки, равно как и те более откровенные признания, которые Валанкур не осмелился произнести, и только после этого поняла его намерение.
Несколько мгновений Эмили осознавала только то, что любима, потом вспомнила его голос и то, с каким выражением он читал эти строки об отражении чистой очарованной души, и от наплыва чувств заплакала.
В Перпиньян прибыли вскоре после заката. Как и предполагал Сен-Обер, письма от месье Кеснеля пришли, но их содержание до такой степени его расстроило, что Эмили встревожилась и в меру своей деликатности потребовала от отца открыть причину его огорчения. Однако Сен-Обер ответил лишь слезами и немедленно заговорил на другие темы.
Эмили не стала упорствовать, но встревожилась и провела ночь без сна.
Утром они поехали по побережью дальше, в Лёкат – город, расположенный на границе провинций Лангедок и Руссильон.
По дороге Эмили снова упомянула о письмах, причем с такой настойчивостью, что Сен-Обер не выдержал ее напора и нарушил молчание.
– Не хотелось омрачать тебе удовольствие от этих пейзажей, поэтому я решил на время скрыть некоторые обстоятельства, хотя рано или поздно тебе все равно придется с ними столкнуться. Однако твоя тревога изменила планы: возможно, сейчас ты страдаешь ничуть не меньше, чем будешь страдать, услышав то, что я должен рассказать. Во время своего приезда месье Кеснель сообщил ужасные новости. Должно быть, ты слышала, как мы упоминали имя некоего месье Моттевиля из Парижа, но не знала, что в его руках сосредоточена значительная часть моего состояния. Я глубоко ему доверял и даже сейчас хочу надеяться, что он не полностью нарушил это доверие. Неблагоприятные обстоятельства разорили его, а следовательно, и меня тоже.
Сен-Обер умолк, чтобы овладеть чувствами, а потом, стараясь говорить спокойно, продолжил:
– Полученные от месье Кеснеля письма содержали сообщение Моттевиля с подтверждением моих худших опасений.
– Значит, нам придется покинуть Ла-Валле? – после долгого раздумья уточнила Эмили.
– Пока неизвестно. Это зависит от того, удастся ли Моттевилю заключить компромисс с кредиторами. Тебе известно, что мой доход никогда не был большим, а теперь сократится до ничтожного! Больше всего я печалюсь о тебе, дитя мое, – ответил Сен-Обер, и голос его дрогнул.
Эмили улыбнулась сквозь слезы и, преодолев волнение, проговорила:
– Дорогой отец, не горюйте ни обо мне, ни о себе. Мы все равно сможем быть счастливы. А если останемся в Ла-Валле, то просто обязаны быть счастливы. Ограничимся одной служанкой, и вы не заметите сокращения доходов. Не переживайте: мы не нуждаемся в роскоши, которую так ценят другие, потому что никогда к ней не стремились, – а бедность не лишит нас многих утешений: не украдет любви друг к другу, не отнимет взаимного уважения и уважения тех людей, чьим мнением мы дорожим.
Закрыв лицо платком, Сен-Обер молчал, однако Эмили продолжала перечислять те истины, которые он сам когда-то ей внушил.
– К тому же, дорогой отец, бедность не сможет лишить нас духовных радостей. Не запретит вам доказывать свою стойкость и великодушие, а мне – утешать любимого отца. Не отнимет у нас вкуса к возвышенному и прекрасному, ведь красоты природы – удивительные зрелища, превосходящие любую искусственную роскошь, – в равной степени доступны как богатым, так и бедным. На что же тогда жаловаться, если все необходимое останется с нами? Мы сохраним высшее наслаждение природы, а утратим только фальшивые радости жизни.
Сен-Обер не нашелся ответом и молча обнял дочь; оба заплакали, но это не были слезы печали. После беседы на языке сердца все другие речи показались бы слабыми. Некоторое время отец и дочь молчали, а потом Сен-Обер стал разговаривать о других предметах; хотя его дух, может быть, и не обрел своей прежней безмятежности, но по крайней мере с виду он стал спокойнее.
В романтичный городок Лёкат приехали в разгар дня, однако Сен-Обер устал и было решено остаться здесь на ночь. Вечером, когда стало прохладнее, он нашел в себе силы отправиться вместе с дочерью на прогулку и осмотреть живописные окрестности: озеро Лёкат, Средиземноморское побережье, часть Руссильона с Пиренеями и обширное пространство провинции Лангедок, особенно красивой в пору созревания и сбора винограда. Отец с дочерью наблюдали за группами работающих крестьян, слушали их веселые песни и с удовольствием представляли завтрашнее путешествие по этому благодатному краю. Сен-Обер решил ехать вдоль берега моря. В глубине души он стремился как можно быстрее вернуться домой, но в то же время хотел доставить удовольствие дочери и ощутить благотворное воздействие морского воздуха, поэтому на следующий день путешественники отправились дальше по провинции Лангедок, следуя линии побережья.
Пиренеи по-прежнему составляли величественный фон: справа плескалось море, а слева уходили к горизонту бескрайние равнины. Сен-Обер выглядел довольным и много разговаривал, и все же его жизнерадостность была несколько искусственной: время от времени тень грусти падала на его лицо и выдавала истинное душевное состояние. Эмили старалась радовать отца улыбкой, чтобы облегчить страдания его души и тела.
Вечером они приехали в небольшую деревню Верхний Лангедок, где хотели переночевать, но не нашли комнат, потому что во время сбора винограда здесь собралось много народу. Пришлось продолжить путь. Сен-Обер устал, ему требовался отдых, тем более что темнота сгущалась. Однако остановиться было негде, и он приказал Мишелю двигаться дальше.
Украшенные роскошью спелого винограда и весельем праздника пышные равнины Лангедока уже не радовали Сен-Обера, а его состояние составляло печальный контраст с окружающим буйством красок и разгула молодости. Созерцая яркие проявления жизни, он с грустью осознавал, что прощается с миром.
«Далекие величественные горы, – думал он, глядя на протянувшуюся на западе цепь вершин, – роскошные равнины, синий купол неба, яркий свет дня – все это скоро навсегда исчезнет с моих глаз, так же как перестанут звучать веселые песни».
Проницательный взгляд Эмили быстро прочитал мысли отца, и лицо ее отразило столь глубокое горе, что Сен-Обер забыл сожаление о мире и сосредоточился на мысли, что оставит дочь без поддержки и защиты. Он глубоко вздыхал, но не произносил ни слова. Эмили, понимая значение этих вздохов, нежно сжала руку отца и отвернулась к окну, чтобы скрыть слезы. Солнце окрасило морские волны последними желтыми отсветами. Равнину укрыла сумеречная дымка, и только на западе, на линии горизонта, сохранился меланхолический луч, отмечая то место, где только что скрылось осеннее солнце. С моря подул свежий бриз, и Эмили опустила стекло. Однако приятный для здорового человека воздух оказался слишком холодным для больного, и Сен-Обер попросил закрыть окно. Самочувствие его ухудшилось, хотелось отдохнуть, и он спросил погонщика, сколько осталось ехать до следующей остановки.
– Девять миль, – ответил Мишель.
– Я больше не могу, – признался Сен-Обер. – Смотри, не появится ли дом, готовый приютить нас на ночь.
Он откинулся на спинку сиденья, а Мишель щелкнул хлыстом и погнал мулов галопом, пока Сен-Обер, едва не теряя сознание от тряски, его не остановил. Взволнованная Эмили посмотрела в окно и увидела крестьянина, который шел по дороге. Путешественники дождались, пока тот подойдет, и спросили, нет ли поблизости хижины, где можно переночевать.
Крестьянин ответил, что не знает такого места, и добавил:
– Справа, в лесу, стоит замок, но думаю, что туда никого не пускают, и я не могу показать дорогу, потому что сам нездешний.
Сен-Обер хотел расспросить насчет замка поподробнее, однако крестьянин пошел дальше. После недолгих сомнений он приказал Мишелю медленно ехать по лесу. Сумерки с каждой минутой сгущались, и дорога терялась. Вскоре показался еще один крестьянин.
– Как проехать к лесному замку? – окликнул его Мишель.
– К лесному замку? – удивился тот. – Вы имеете в виду вон ту башню?
– Насчет башни не знаю, – ответил Мишель. – Я говорю о белом строении, которое виднеется за деревьями.
– Да, это и есть башня. Но кто вы такие, если направляетесь туда? – озадаченно уточнил крестьянин.
Услышав странный вопрос и особенно странный тон, которым он был задан, Сен-Обер выглянул в окно и вступил в разговор:
– Мы путешественники и ищем приют, где можно переночевать. Не знаете, есть ли поблизости подходящее место?
– Нет, месье, если не попытаете счастья вон там, – и крестьянин показал на лес. – Но я бы вам не советовал.
– Кому принадлежит замок?
– Сам не знаю, месье.
– Значит, он пустует?
– Нет, не пустует. Кажется, там живут дворецкий и экономка.
Услышав это, Сен-Обер решил все-таки ехать к замку и рискнуть получить отказ в гостеприимстве, а потому попросил крестьянина показать дорогу и пообещал вознаграждение. Незнакомец, на миг задумавшись, ответил, что спешит по своим делам, однако объяснил, что если поехать по аллее направо, то заблудиться невозможно, а затем пожелал доброй ночи и ушел.
Экипаж свернул к указанной аллее. Мишель спешился, открыл ворота и повел мулов под плотным шатром из крон дубов и каштанов. Аллея выглядела настолько пустынной, мрачной и зловеще молчаливой, что Эмили вздрогнула и вспомнила, как отзывался о замке крестьянин. Теперь его слова приобрели новый, таинственный смысл. Но она постаралась подавить дурные предчувствия, сочтя их следствием меланхолического воображения, болезненно отзывавшегося на каждое новое впечатление.
Экипаж двигался медленно: темнота, неровная дороги и торчавшие из земли корни старых деревьев требовали осторожности. Внезапно Мишель остановил мулов. Сен-Обер выглянул, чтобы спросить, что случилось, и увидел вдалеке движущуюся фигуру. Темнота не позволила различить, кто или что именно это было, и все же он приказал ехать дальше.
– Место совсем дикое, – ответил погонщик. – Поблизости нет ни одного дома. Не думаете ли вы, что лучше повернуть обратно?
– Давай проедем еще немного, а если так и не увидим никакого строения, то вернемся на дорогу, – решил Сен-Обер.
Мишель неохотно продолжил путь. Раздраженный медленным движением, Сен-Обер снова выглянул, чтобы его поторопить, опять увидел ту же фигуру и почему-то испугался. Возможно, уединенность места усилила его состояние тревоги, но он все-таки остановил погонщика и велел окликнуть идущего по аллее человека.
– Пожалуйста, не надо, – взмолился Мишель. – Он может оказаться грабителем.
– Не хотелось бы, – согласился Сен-Обер. – Поэтому лучше вернуться на дорогу: все равно вряд ли мы найдем здесь то, что ищем.
Мишель с готовностью развернул животных и быстро погнал в обратном направлении, когда слева из-за деревьев раздался чей-то голос. Это был не приказ остановиться или горестный возглас, а глухой, низкий, почти нечеловеческий стон. Погонщик хлестнул мулов, и животные помчались со всех ног, вопреки темноте, плохой дороге и безопасности седоков, ни разу не остановившись до самых ворот, и только потом перешли на спокойный шаг.
– Мне очень плохо, – пожаловался Сен-Обер, взяв дочь за руку.
– Да, вам и правда стало хуже. Намного хуже! – испуганно воскликнула Эмили. – А помощи здесь нет! Боже милостивый! Что же делать?
Отец склонил голову ей на плечо. Поддерживая его рукой, Эмили приказала погонщику остановиться. Когда стук колес стих, издалека донеслась музыка, показавшаяся голосом надежды.
– Ах, где-то неподалеку есть люди! – воскликнула она. – А значит, удастся получить помощь.
Прислушавшись, Эмили различила, что звуки доносятся из глубины леса, расположенного вдоль дороги, а вглядевшись, в слабом лунном свете увидела нечто вроде замка. И все же добраться до него было непросто. Сен-Обер слишком ослаб, чтобы вынести тряску экипажа. Мишель не мог оставить мулов, а Эмили боялась покинуть отца и опасалась в одиночку отправиться неизвестно куда и к кому. Но решение требовалось принять немедленно, и Сен-Обер распорядился медленно ехать в ту сторону, откуда доносилась музыка. Однако вскоре он потерял сознание, так что пришлось снова остановиться.
– Милый, дорогой отец! – в отчаянии закричала Эмили, испугавшись, что тот умирает. – Умоляю, скажите хотя бы слово, чтобы я могла услышать звук вашего голоса!
Ответа не последовало. В ужасе Эмили велела Мишелю принести в шляпе воды из ручья и протерла смертельно бледное в лунном свете лицо отца. Эгоистичный страх уступил место более сильному чувству – дочерней любви. Оставив Сен-Обера на попечение отказавшегося бросить мулов погонщика, Эмили вышла из экипажа и отправилась на поиски того самого замка, который заметила сквозь деревья. Стояла тихая лунная ночь, а по-прежнему звучавшая музыка направила ее с дороги на ведущую в лес тропу. Некоторое время сознание было до такой степени охвачено страхом за отца, что за себя она не боялась, пока лесная чаща не напомнила об опасности. Музыка внезапно смолкла, и теперь оставалось полагаться лишь на удачу. На миг паника заставила ее остановиться, но мысль об отце снова придала силы. Тропа резко оборвалась; вокруг не было заметно ни замка, ни людей, и не слышалось ни единого звука. И все-таки Эмили продолжила путь в неизвестность, пока наконец при свете луны не заметила некое подобие аллеи. Пока Эмили стояла в растерянности, не зная, идти ли дальше, послышались громкие веселые голоса, а затем со стороны дороги раздался голос Мишеля. Возникло острое желание поспешить обратно, однако остановила мысль, что лишь чрезвычайное обстоятельство могло заставить погонщика оставить животных. Испугавшись, что отец находится на грани жизни и смерти, Эмили бросилась вперед в слабой надежде найти у незнакомых людей поддержку и помощь.
Чем ближе она подходила к тому месту, откуда доносились голоса, тем чаще и напряженнее билось полное страха сердце. Пугал даже шелест потревоженных шагами опавших листьев. Звуки привели ее к залитой лунным светом широкой поляне, на которой собралась группа людей. Подойдя ближе, Эмили по одежде узнала крестьян и заметила расположенные по краю леса хижины. Пока она наблюдала, пытаясь преодолеть страх, из одного из домов вышли несколько девушек. Сразу заиграла веселая музыка сборщиков винограда – та самая, что слышалась издалека, – и началась пляска. Полное тревоги сердце остро ощущало контраст между этой веселой сценой и собственными печальными обстоятельствами. Эмили торопливо подошла к сидевшим возле дома пожилым обитателям деревни, объяснила, что случилось, и попросила о помощи. Несколько человек с готовностью поднялись и быстро пошли к дороге вслед за стремительно мчавшейся Эмили.
Подойдя к экипажу, она увидела, что отец пришел в себя. Выяснилось, что, узнав, куда отправилась дочь, он тут же забыл о себе и, охваченный тревогой, послал Мишеля на поиски. Сен-Обер по-прежнему был слаб, ехать дальше не мог, а потому снова стал расспрашивать о гостинице и замке в лесу.
– Переночевать в замке не удастся, сэр, – ответил пришедший с Эмили почтенный крестьянин. – Там никто не живет. Однако если вы соизволите почтить своим присутствием мой скромный дом, то найдете там удобную кровать.
Сен-Обер ничуть не удивился такому проявлению французской любезности. А плохое самочувствие заставило его особенно высоко оценить предложение, высказанное в столь изящной форме. Сен-Обер обладал достаточной деликатностью, чтобы воздержаться от благодарности или проявить сомнение в готовности принять гостеприимство, а согласился сразу и с той же искренностью, с какой прозвучало приглашение.
Экипаж снова медленно тронулся. Мишель последовал за крестьянами по той самой тропинке, по которой только что вернулась Эмили, и спустя некоторое время показалась поляна. Вежливость крестьянина и предвкушение отдыха настолько воодушевили Сен-Обера, что он с удовольствием созерцал немудреные пляски крестьян и вслушивался в звуки гитары и тамбурина. На глаза его навернулись слезы, но это не были слезы скорбного сожаления.
При виде неведомого в этом глухом лесу экипажа пляска сразу прекратилась, а крестьяне с любопытством окружили диковинное сооружение. Узнав о приезде больного путешественника, девушки побежали в ближайшие дома и вскоре вернулись с вином и корзинками винограда, причем каждая настойчиво предлагала свой дар.
Наконец экипаж остановился возле опрятного дома. Почтенный хозяин помог Сен-Оберу выйти и проводил гостей в маленькую комнату, освещенную лишь проникавшим через открытое окно мерцанием луны. Радуясь возможности отдохнуть, Сен-Обер опустился в кресло и с наслаждением вдохнул напоенный ароматом жимолости свежий воздух. Хозяин по имени Лавуазен вышел из комнаты, но скоро вернулся с фруктами, свежими сливками и прочей сельской роскошью. С приветливой улыбкой он поставил угощение на стол и отошел в сторону. Однако Сен-Обер настоял, чтобы тот разделил с ними трапезу, а как только сочные фрукты немного восстановили силы, завел неспешную беседу. Хозяин поведал некоторые подробности жизни своей семьи, особенно интересные оттого, что шли они от сердца и отражали добродушие и его самого, и близких. Эмили сидела рядом с отцом, держала его за руку и слушала рассказ старика. Разделяя искренне выраженное Сен-Обером сочувствие, она горестно думала, что смерть, возможно, вскоре лишит ее самого ценного сокровища. Мягкий свет осеннего вечера и далекая, теперь уже грустная музыка углубляли меланхолическое настроение. Хозяин продолжал рассказ о семье, а Сен-Обер молча слушал.
– У меня осталась только одна дочь, – поведал старик. – Но она счастливо вышла замуж, и после смерти жены я переехал к ней. У Агнес несколько детей: все они сейчас весело прыгают на поляне, словно кузнечики. Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось! Я мечтаю умереть среди них, месье. Теперь я уже стар и не могу рассчитывать, что проживу долго, но смерть в окружении детей кажется не такой страшной.
– Мой добрый друг, – произнес Сен-Обер дрогнувшим голосом, – надеюсь, что вы еще долго проживете в окружении любимых детей.
– Ах, месье! В моем возрасте уже нельзя на это надеяться, – ответил Лавуазен. – Я даже не очень этого хочу. Верю, что после смерти я попаду на небеса и встречусь со своей дорогой женой. Порой тихой лунной ночью я почти вижу, как она идет по любимой тропе. Верите ли вы, месье, что, покинув тело, наши души могут вернуться на землю?
Эмили больше не могла скрывать сердечную боль: слезы обожгли руку отца, которую она по-прежнему сжимала. Сделав над собой усилие, Сен-Обер тихо проговорил:
– Надеюсь, что нам будет позволено взглянуть на тех, кто остался здесь, но только надеюсь. Будущее надежно скрыто, так что нам остаются только вера и надежда. Нам не запрещено думать, что души умерших наблюдают за покинутыми родственниками, но в то же время мы можем невинно надеяться на это. Я никогда не откажусь от этой надежды, – продолжил он, вытирая мокрые глаза дочери. – Она скрасит горький миг смерти!
По щекам Сен-Обера медленно текли слезы. Лавуазен тоже плакал. Некоторое время все молчали; первым заговорил хозяин:
– Верите ли вы, месье, что в лучшем мире мы встретим тех, кого любили при жизни? Я должен в это верить.
– Значит, верьте, – ответил Сен-Обер. – Боль расставания оказалась бы нестерпимой, если бы была вечной. Не грусти, милая Эмили. Мы обязательно встретимся снова!
Он посмотрел вверх, и лунный свет озарил его умиротворенное лицо.
Лавуазен понял, что несколько затянул обсуждение печальной темы, и, словно что-то вспомнив, встал:
– Что же мы сидим в темноте? Пойду принесу свечу.
– Не надо, – возразил Сен-Обер. – Я люблю луну. Сядьте, добрый друг. Эмили, любовь моя, сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем днем: ночной воздух освежает. Я наслаждаюсь спокойствием и далекой музыкой. Так порадуй же и ты меня своей улыбкой. Кто так искусно играет на гитаре? Там два инструмента, или это вторит эхо?
– Думаю, эхо, месье. Эта гитара часто звучит по ночам, но нам неведомо, кто играет. А порой звучит такой красивый и грустный голос, что можно подумать, будто по лесу бродит привидение.
– Да, там наверняка кто-то бродит, – с улыбкой согласился Сен-Обер. – Но только скорее не привидение, а смертный.
– Иногда в полночь, когда сон не шел, я слышал эту музыку, – не обратив внимания на последнее замечание, продолжил Лавуазен. – И звучала она где-то совсем рядом. Сразу вспоминалась покойная жена, и к глазам подступали слезы. Иногда я вставал и подходил к окну, чтобы посмотреть, кто играет и поет, но как только открывал раму, звуки стихали, и наступала тишина. Вокруг никого не было, но я слушал и слушал – до тех пор, пока не начинал пугаться даже шороха листьев на ветру. Говорят, что эта музыка предупреждает человека о близкой смерти, но я слышу ее вот уже много лет и продолжаю жить.
Эмили улыбнулась причудливому суеверию, однако в нынешнем тревожном состоянии все-таки подверглась его влиянию.
– Но ответьте, добрый друг, – обратился к хозяину Сен-Обер, – разве не нашлось смельчаков, готовых выяснить природу этих звуков?
– Наши парни пробовали преследовать неизвестного музыканта, но звуки постоянно удалялись в лесную чащу и казались такими же далекими, как и прежде. В итоге люди пугались и возвращались домой. Я редко слышал эту музыку таким ранним вечером. Как правило, она звучит около полуночи, когда та яркая планета, которая сейчас хорошо видна над башней, прячется за лесом слева.
– Над какой башней? – поспешно уточнил Сен-Обер. – Я ничего не вижу.
– Прошу прощения, месье, но отсюда ее отлично видно, так как луна светит прямо на нее. Вдалеке, прямо по аллее. А сам замок скрыт деревьями.
– Да, мой дорогой отец, – подтвердила Эмили. – Видите блеск над темным лесом? Наверное, это флюгер, освещенный луной.
– Да-да, теперь вижу. А кому принадлежит замок?
– Им владел маркиз де Виллеруа, – многозначительно ответил Лавуазен.
– Ах! – с глубоким вздохом воскликнул Сен-Обер и чрезвычайно оживился. – Значит, мы совсем близко от Ле-Блана?
– Когда-то замок был любимой резиденцией маркиза, – пояснил Лавуазен. – Но потом он изменил свое отношение и много лет туда не приезжал. А недавно мы услышали, что он скончался и замок перешел в другие руки.
Последние слова вывели Сен-Обера из глубокой задумчивости, и он воскликнул:
– Скончался! Боже мой! Но когда же?
– Говорят, пять недель назад, – ответил Лавуазен. – А вы знали маркиза, месье?
– Невероятно! – проговорил Сен-Обер, не отвечая на вопрос.
– Почему же, дорогой отец? – с робким любопытством спросила Эмили.
Он не ответил, снова погрузившись в раздумья, а спустя несколько мгновений, придя в себя, осведомился, кто унаследовал замок.
– Я забыл титул нового хозяина, месье, – ответил Лавуазен. – Но знаю, что господин живет в Париже и сюда не приезжает.
– Значит, замок стоит запертым?
– Все не так плохо, месье. За ним следят старая экономка и ее муж-дворецкий, но они живут в коттедже неподалеку.
– Должно быть, замок слишком большой, и жить там вдвоем неуютно, – заметила Эмили.
– Крайне неуютно, – согласился Лавуазен. – Я не стал бы там ночевать даже за целое состояние.
– Что вы сказали? – снова очнувшись от задумчивости, переспросил Сен-Обер. Едва хозяин повторил последние слова, из груди Сен-Обера вырвался стон, но чтобы скрыть болезненную реакцию, он поспешно спросил хозяина, давно ли тот живет в этих краях.
– Почти с детства, – ответил Лавуазен.
– Значит, вы помните покойную маркизу? – уточнил гость изменившимся голосом.
– Ах, месье! Прекрасно помню. Да и многие ее помнят.
– Я – один из них, – подтвердил Сен-Обер.
– Увы, месье! Мы говорим о самой красивой и самой добродетельной даме. Видит Бог, она заслуживала лучшей судьбы.
В глазах Сен-Обера снова заблестели слезы.
– Достаточно, – остановил он собеседника, не в силах справиться с чувствами. – Достаточно об этом, друг мой.
Крайне удивленная необычным поведением отца, Эмили воздержалась от вопросов и замечаний.
Лавуазен начал извиняться, однако Сен-Обер его остановил:
– Не стоит извинений. Давайте лучше сменим тему. Вы говорили о музыке, которая только что звучала.
– Да, месье. Но тише! Вот она звучит снова. Послушайте этот голос!
Все замолчали.
- Возвышенный и нежный звук
- Наполнил воздух, словно свежий ветер,
- И тишину смутил. Молчанье захотело
- Речь обрести, найти слова,
- Чтобы ответить музыке[6].
Спустя несколько мгновений голос растворился в воздухе, а инструмент заиграл тихо, но полнозвучно.
Сен-Обер заметил, что он звучит мелодичнее обычной гитары, а меланхолией и мягкостью превосходит лютню.
Вскоре музыка стихла.
– Странно! – проговорил Сен-Обер, нарушая молчание.
– Очень странно! – подтвердила Эмили.
– Действительно, странно, – согласился Лавуазен, и снова воцарилась тишина.
После долгого молчания хозяин заговорил первым:
– Впервые я услышал эту музыку восемнадцать лет назад. Помню, стояла чудесная летняя ночь – совсем как сейчас, и я в одиночестве шел по лесу. Настроение было ужасным, потому что один из сыновей тяжело заболел, и мы боялись его потерять. Вечером я дежурил возле его кровати, пока жена спала после бессонной ночи, а потом вышел подышать свежим воздухом. Шагая под деревьями, я внезапно услышал мелодию и решил, что это Клод играет на флейте, как он часто делал, сидя у двери хижины. Но когда вышел на поляну – никогда не забуду! – и остановился, глядя на осветившее небесный свод северное сияние, вдруг услышал такие звуки… Невозможно описать. Словно играли ангелы. И я снова посмотрел на небо, ожидая увидеть крылатые создания. Вернувшись домой, я рассказал о том, что пережил, но мне никто не поверил. Все засмеялись и стали утверждать, что это пастухи играли на своих дудках. Переубедить я никого не смог. Но спустя несколько ночей то же самое услышала жена и удивилась не меньше меня. Однако патер Дени страшно ее напугал, сказав, что эта музыка предрекает смерть ребенка: мол, ее часто слышат те, в чей дом приходит смерть.
Услышав это, Эмили похолодела от неведомого прежде суеверного страха и не смогла скрыть своих чувств от отца.
– Но, несмотря на пророчество патера Дени, наш мальчик выжил, месье.
– Патер Дени! – повторил Сен-Обер, с терпеливым вниманием слушавший повествование о далеких днях. – Значит, мы недалеко от монастыря?
– Да, месье. Монастырь Сен-Клер стоит поблизости, на морском берегу.
– Ах! – внезапно что-то вспомнив, воскликнул Сен-Обер. – Монастырь Сен-Клер!
Эмили заметила на лице отца отпечаток горя, смешанного с ужасом. Он застыл в неподвижности и сейчас, в серебряном свете луны, напоминал склонившуюся над могилой мраморную статую.
- Тот тусклый свет,
- Что бледная луна
- Нам дарит сквозь открытое окно[7].
– Но, дорогой отец, уже поздно, – обратилась к нему Эмили, спеша развеять печальные мысли. – Вы забываете, что вам необходим отдых. Если позволит наш добрый хозяин, я приготовлю вам постель, так как знаю ваши привычки.
Сен-Обер опомнился и с улыбкой попросил дочь не беспокоиться, а чересчур увлекшийся воспоминаниями Лавуазен поднялся и, извинившись за то, что до сих пор не позвал дочь, вышел из комнаты.
Спустя несколько минут он вернулся вместе с дочерью – приятной молодой женщиной, от которой Эмили узнала, что ради удобства гостей кому-то из членов семьи придется отказаться от своих кроватей, и выразила сожаление. Однако милая Агнес, любезностью и готовностью помочь не уступавшая отцу, поспешила ее успокоить. Таким образом, было решено, что кое-кто из детей и Мишель переночуют в соседнем доме.
– Если завтра я почувствую себя лучше, дорогая, – заметил Сен-Обер, – выедем рано и отправимся домой. В нынешнем состоянии здоровья и настроения я не склонен к дальнему путешествию и очень хочу поскорее вернуться в Ла-Валле.
Эмили тоже соскучилась по дому, но решение отца ее расстроило, так как доказывало, что он чувствует себя намного хуже, чем желал признать.
Сен-Обер удалился, чтобы отдохнуть, и Эмили отправилась в отведенную ей маленькую спальню, но не легла в постель, а вспомнила недавний разговор о душах усопших. Тема живо ее волновала, так как оставалось все меньше сомнений, что дорогой отец вскоре пополнит их число. В задумчивости облокотившись на подоконник, она устремила взгляд в усыпанное звездами небо – приют лишенных телесной оболочки душ. Бесцельно созерцая бескрайний синий купол, она, как прежде, обратилась мыслями к величию Господа и к постижению будущего. Ни единый отзвук земного мира не нарушал покоя. Веселые пляски стихли, крестьяне разошлись по домам. Ночной воздух застыл в неподвижности, и лишь изредка тишину прорезал звон овечьего колокольчика или стук закрываемой оконной рамы. Вскоре смолкли даже эти редкие напоминания о близком присутствии людей. Охваченная возвышенным, благоговейным поклонением, Эмили оставалась у открытого окна до тех пор, пока не наступила полночь, а луна не скрылась за лесом, вновь и вновь обращаясь мыслями к бурной реакции отца на сообщение о смерти маркиза де Виллеруа и печальной судьбе маркизы. Причина его острых переживаний глубоко ее заинтересовала, тем более что отец ни разу не упоминал Виллеруа.
Наконец она вспомнила, что завтра ей рано вставать, и легла в постель.
Глава 7
Битти Дж. Жизнь и бессмертие
- Пусть те склоняются в печали,
- Кто все надежды здесь похоронил.
- Высокая душа увидит жизни дали
- За серым камнем горестных могил.
- Весна придет в холодный край ненастья,
- А солнце снова выйдет из-за туч.
- Напомнит нам, что есть на свете счастье,
- И душу озарит надежды новой луч!
Проснувшись рано утром, Эмили не чувствовала, что отдохнула: дурные видения преследовали ее всю ночь, лишая спокойного сна – последнего благословения всех несчастных. Однако стоило открыть окно, посмотреть на озаренный утренним солнцем лес и вдохнуть свежего воздуха, как сознание прояснилось. Все вокруг было наполнено жизнерадостной свежестью. Издалека доносились колоритные звуки, если подобный эпитет позволительно применить: зовущий к заутрене колокол монастыря, слабое бормотание морских волн, птичьи трели, мычание пасущихся между деревьями коров. Восхищенная красотой просыпающегося мира, Эмили впитывала его задумчивое спокойствие, и пока ожидала к завтраку отца, мысли ее воплотились в поэтические строчки:
Первый час утра
- Приятно заглянуть в лесную глушь
- В тот ранний час, когда с долин востока
- На спящий мир зари нисходит луч
- И утра свет течет живым потоком.
- Покрытые серебряной росой,
- Цветы свои головки поднимают.
- Лес озаряют нежною красой
- И первый аромат весне вверяют.
- Как чудно свежих ветров дуновенье,
- Как сладко мирное жужжанье пчел!
- Птиц голоса рождают вдохновенье,
- Стихи приходят в скромный мой предел.
- В дали туманной сквозь листву белеют
- Вершины снежные великих гор.
- Морская гладь в сиянье голубеет,
- Даруя парусникам волн простор.
- Увы, лесная сень, дыханье мая,
- Природы голоса и свет зари
- Не радуют, если недугов стая
- Накинулась и ждет своей поры.
- Час дивный! Если бы ты щедро даровал
- Отцу здоровье, чтоб жил, но не страдал!
Вскоре внизу послышалось движение, а потом раздался громкий голос Мишеля: погонщик выводил из хлева мулов. Выйдя из комнаты, Эмили сразу встретила отца. Вместе они спустились в маленькую гостиную, где вчера ужинали, и обнаружили на столе накрытый завтрак. Хозяин с дочерью ждали гостей, чтобы пожелать им доброго утра.
– Я завидую вашему дому, друзья мои, – признался Сен-Обер. – Здесь так приятно, так спокойно и так опрятно. А воздух! Если что-то и способно восстановить здоровье, то, несомненно, только этот воздух!
Лавуазен благодарно поклонился и с французской галантностью ответил:
– Нашему дому можно позавидовать, месье, потому что вы и мадемуазель почтили его своим присутствием.
Сен-Обер дружески улыбнулся и сел за стол, где его ждали сливки, фрукты, молодой сыр, масло и кофе. Внимательно наблюдая за отцом, Эмили поняла, что он очень плохо себя чувствует, и попыталась убедить отложить путешествие на вторую половину дня. Однако Сен-Обер стремился как можно скорее попасть домой и выражал свое желание с несвойственной ему настойчивостью. В ответ на предложение дочери он заявил, что чувствует себя ничуть не хуже, чем в последние дни, а ехать в прохладные утренние часы легче, чем в любое другое время. Но в тот момент, когда благодарил почтенного хозяина за гостеприимство, лицо его изменилось, и, прежде чем Эмили успела его поддержать отец, без чувств откинулся на спинку кресла. Спустя несколько мгновений внезапный обморок отступил, однако о том, чтобы двинуться в путь, пришлось забыть. Сен-Обер попросил, чтобы ему помогли подняться в спальню и лечь в постель. С трудом владея собой, Эмили постаралась скрыть свои чувства от отца и подала дрожащую руку, чтобы проводить его наверх.
Устроившись в постели, Сен-Обер позвал дочь, которая плакала в своей комнате, а когда Эмили вошла, знаком велел всем остальным удалиться. Едва они остались вдвоем, он протянул ей руку и посмотрел с такой глубокой нежностью и печалью, что Эмили не выдержала и бурно разрыдалась. Сен-Обер старался собраться с силами, но говорить все равно не мог, а лишь сжимал ладонь дочери и сдерживал стоявшие в глазах слезы. Наконец он все-таки обрел голос и со слабой улыбкой проговорил:
– Мое дорогое дитя, милая Эмили!
Снова наступило молчание. Больной поднял глаза, словно в молитве, а потом более твердым голосом, в котором отцовская нежность сочеталась с религиозной торжественностью святого, продолжил:
– Дорогое дитя, я хотел бы смягчить болезненную правду, которую должен тебе открыть, но не чувствую необходимых сил. Увы! Обманывать тебя было бы слишком жестоко. Скоро нам предстоит расстаться, так что давай поговорим, чтобы мысли и молитвы помогли нам вынести разлуку.
Голос его дрогнул, а плачущая Эмили прижала руку отца к груди, но не смогла поднять на него глаза.
– Не буду тратить время понапрасну, – совладав с чувствами, продолжил Сен-Обер, – ведь сказать нужно многое. Существует одно важное обстоятельство, которое я должен объяснить, но перед этим ты должна мне дать торжественное обещание. Только после этого я почувствую облегчение. Ты уже заметила, дорогая, как я спешу домой, но пока не понимаешь почему. Выслушай же мой рассказ и дай обещание умирающему отцу!
Пораженная его последними словами, Эмили подняла голову, словно впервые осознав грозящую отцу опасность. Слезы высохли. Несколько мгновений она смотрела на Сен-Обера с выражением непередаваемой боли, а потом вздрогнула и потеряла сознание. На крики Сен-Обера прибежали Лавуазен с дочерью и начали приводить ее в чувство, однако сделать это удалось не скоро. Когда же Эмили пришла в себя, потрясенный Сен-Обер не сразу смог заговорить. Вновь оставшись с дочерью наедине и подкрепившись целительным напитком, он попытался ее утешить и, насколько позволяла ситуация, успокоить. Эмили обняла отца, не желая слушать никаких увещеваний, так что тому не оставалось ничего иного, как молча заплакать вместе с ней. Наконец, вспомнив о долге и решив избавить больного от собственного жалкого вида, она вытерла слезы и приготовилась слушать.
– Дорогая Эмили, – произнес Сен-Обер, – дорогая дочь, мы должны со смиренной надеждой взирать на Создателя. Он защищает и поддерживает нас в каждом испытании, наблюдает за каждым нашим шагом, каждой мыслью. Бог не покинет нас в эту минуту. Я чувствую в своем сердце его утешение. Я оставляю тебя, дитя мое, на его попечение. Не плачь, милая Эмили. В смерти нет ничего нового или удивительного, ведь все мы знаем, что родились, чтобы умереть. И нет ничего ужасного для тех, кто верит во всемогущего Создателя. Даже если бы сейчас я остался жив, спустя несколько лет нам в любом случае пришлось бы проститься. Уделом моим стала бы старость со всеми болезнями, лишениями и горестями, а потом все равно пришла бы смерть и заставила бы тебя проливать горькие слезы. Так что, дитя мое, возрадуйся тому, что я избавлен от страданий и могу умереть в здравом уме, сознавая утешительную силу веры и смирения.
Утомленный речью, Сен-Обер умолк. Вновь собравшись с силами, Эмили заверила, что его слова непременно будут услышаны.
Немного отдохнув, Сен-Обер заговорил снова:
– Позволь перейти к близкой моему сердцу теме. Я уже говорил, что должен взять с тебя торжественное обещание. Так позволь же услышать его сейчас, прежде чем я объясню главное обстоятельств, которого оно касается. Есть и другие, но ради спокойствия тебе их лучше не знать. Обещай, что поступишь именно так, как я скажу.
Потрясенная торжественной серьезностью этих слов, Эмили осушила непрошеные слезы, посмотрела на отца с особым, подчеркнутым вниманием и поклялась в точности исполнить его завет.
Сен-Обер продолжил:
– Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы поверить в то, что ты нарушишь обещание, тем более данное так торжественно. Выслушай внимательно все, что я скажу. В маленькой комнатке, смежной с моей комнатой в Ла-Валле, оборудован тайник: одна из досок в полу поднимается. Ты узнаешь ее по особому узору на дереве, это вторая доска от стены напротив двери. На расстоянии примерно в ярд от дальнего конца помещения, возле окна, ты увидишь поперечную линию, как будто прибита дополнительная планка. Открывать тайник нужно так: надавить ногой на линию, чтобы конец доски опустился. Тогда можно будет без труда задвинуть доску под соседнюю половицу и увидеть скрытое пространство.
Сен-Обер помолчал, переводя дыхание. Эмили сидела неподвижно, застыв в напряженном внимании.
– Все ясно, дорогая? – уточнил отец.
Едва находя слова, она заверила, что поняла и запомнила порядок действий.
– Значит, когда вернешься домой… – с глубоким вздохом продолжил Сен-Обер.
При упоминании о том, что ей придется возвращаться одной, Эмили неудержимо разрыдалась. Да и сам Сен-Обер утратил с трудом обретенную выдержку и заплакал. Однако вскоре взял себя в руки и продолжил:
– Дорогое дитя, умоляю: успокойся. Когда я уйду, ты не останешься без защиты. Я вверяю тебя заботам Провидения, которое никогда не покидало меня. Не мучь себя бурным излиянием горя, лучше покажи пример сдержанности.
Сен-Обер снова замолчал, а Эмили попыталась совладать со своими чувствами, но безуспешно.
Не скрывая боли, отец вернулся к теме разговора:
– Когда вернешься домой, зайди в маленькую комнатку. В тайнике под той половицей, которую я описал, ты обнаружишь сверток бумаг. Сейчас послушай внимательно, так как данное тобой обещание непосредственно касается следующего указания. Эти бумаги необходимо сжечь, причем – особенно подчеркиваю – не читая.
На миг удивление пересилило горе, и Эмили отважилась спросить, почему условия так строги.
Сен-Обер ответил, что если бы мог объяснить причину, то данное ей обещание оказалось бы бессмысленным.
– Тебе достаточно осознавать важность точного выполнения моих указаний. Под этой же доской ты найдешь двести луидоров в шелковом кошельке. В те времена, когда провинцию наводнили разбойники всех мастей, тайник был устроен как раз для того, чтобы хранить там имевшиеся в замке деньги. Я должен взять с тебя еще одно обещание: что ты никогда, даже при самых тяжелых обстоятельствах, не продашь замок Ла-Валле.
Далее Сен-Обер потребовал, чтобы, выходя замуж, дочь оговорила в брачном контракте, что замок всегда будет принадлежать ей, а затем подробно изложил нынешнюю финансовую ситуацию:
– Двести луидоров и те деньги, которые сейчас при мне, – это все наличные средства, которые я тебе оставляю. О последствиях банкротства месье Моттевиля ты уже слышала. Ах, дитя мое! Я оставляю тебя в бедности, но не в нищете, – добавил он после долгого молчания.
Не в силах ответить, Эмили опустилась на колени возле кровати и оросила слезами руки отца.
После беседы душа Сен-Обера заметно успокоилась, и, утомленный долгой речью, он погрузился в сон, а Эмили продолжала смотреть на отца и плакать – до тех пор, пока не услышала осторожный стук в дверь.
Пришел Лавуазен и сообщил, что исповедник из соседнего монастыря ждет внизу и готов причастить больного. Эмили не захотела тревожить отца, но попросила передать, чтобы священник не уходил.
Сен-Обер проснулся в помутненном сознании и не сразу узнал сидевшую возле постели дочь, а узнав, беззвучно пошевелил губами и протянул к ней руку. Эмили сжала безвольную ладонь, пораженная печатью смерти на дорогом лице. Через несколько мгновений, когда взгляд отца стал более осмысленным, она спросила, не желает ли он побеседовать с исповедником. Он ответил, что готов к встрече. Как только священник явился, Эмили вышла из комнаты. Исповедь продолжалась около получаса. Вернувшись, Эмили нашла отца крайне взволнованным и осуждающе посмотрела на патера, который не сказал ни слова – лишь поднял на нее печальный взгляд и отвернулся. Дрожащим голосом Сен-Обер пригласил дочь помолиться вместе с ним и спросил, не желает ли Лавуазен присоединиться к молитве. Старик пришел вместе с Агнес. Все опустились на колени возле кровати, а святой отец прочитал заупокойную молитву. Сен-Обер лежал с умиротворенным лицом, внимая обряду. Из-под опущенных век то и дело текли слезы, а Эмили и вовсе рыдала, прерывая священника.
Закончив молитву и совершив последнее помазание, святой отец удалился, а Сен-Обер знаком попросил хозяина подойти ближе, взял его за руку и, немного помолчав, слабым голосом произнес:
– Дорогой друг, наше знакомство оказалось коротким и в то же время достаточно долгим, чтобы дать вам возможность проявить великодушное внимание. Не сомневаюсь, что ваша доброта распространится на мою дочь и поддержит ее. На те несколько дней, что она проведет здесь, я доверяю Эмили вашим заботам. Говорить что-то еще нет необходимости: отцовские чувства вам известны. Мои же чувства оказались бы еще более горькими, если бы не надежда на вас.
Он умолк, и Лавуазен со слезами на глазах заверил, что сделает все возможное для облегчения горя Эмили и даже, если нужно, проводит ее в Гасконь. Предложение настолько утешило Сен-Обера, что он с трудом нашел слова, чтобы поблагодарить хозяина за участие и сказать, что с радостью принимает помощь. Глубоко тронутый, Лавуазен вышел из комнаты, и Эмили осталась наедине с быстро слабевшим отцом. Пока ни чувства, ни голос его не покинули, и время от времени он давал дочери советы относительно будущей самостоятельной жизни. Возможно, никогда еще Сен-Обер не мыслил так здраво и не выражался настолько ясно, как сейчас, в последние минуты земного бытия.
– Прежде всего, дорогая Эмили, не допускай излишней впечатлительности – романтической ошибки многих тонких умов. Те, кто обладает глубокой восприимчивостью, должны с раннего возраста понимать опасность этого чувства, ибо оно преувеличивает как горе, так и восторг. Поскольку в нашем мире болезненные события происходят куда чаще, чем приятные, а наша восприимчивость ко злу острее восприимчивости к добру, не умея владеть своими чувствами, мы становимся их жертвами. Я знаю, Эмили, ты скажешь, что скорее согласна лишний раз пострадать, чем отказаться от минут счастья. Но если душа твоя устанет от превратностей судьбы, ты согласишься отдохнуть и освободишься от этого заблуждения. Ты поймешь, что призрак счастья сменился реальностью, так как счастье возникает в состоянии покоя, а не смятения. Оно обладает умеренной и постоянной природой и так же не способно родиться в раздраженном мелочами сердце, как и в сердце, лишенном чувств. Как видишь, дорогая, я хоть и пытаюсь оградить тебя от опасностей излишней чувствительности, но вовсе не призываю к апатии и равнодушию. В твоем возрасте я считал этот порок страшнее сентиментальности и сохранил это мнение до сих пор. Да, я называю равнодушие пороком, поскольку оно ведет к прямому злу. Впрочем, причиняет не больше вреда, чем необузданная сентиментальность, которую, следовательно, также можно назвать пороком. Однако первый порок чреват более опасными последствиями… Все, я устал, – слабым голосом закончил Сен-Обер. – Но все сказанное настолько важно для твоего будущего, что я хочу быть правильно понят.
Эмили заверила, что навсегда запомнит его драгоценный совет и всегда будет ему следовать. Отец нежно и печально улыбнулся:
– Повторяю, если бы я мог, никогда не стал бы учить тебя безразличию, лишь указал бы на опасности излишней впечатлительности и посоветовал, как их избежать. Помни, любовь моя: я заклинаю тебя от того самообмана, который уничтожил душевный покой многих людей. Опасайся гордиться своей чувствительностью. Если ты поддашься этому тщеславию, то навсегда утратишь счастье. Не забывай и то, что единственный милосердный поступок, единственное по-настоящему полезное действие достойно всех абстрактных чувств в мире. Чувство не украшение, а позор, если не привело к хорошим поступкам. Скряга, считающий себя уважаемым человеком лишь потому, что владеет богатством и тем самым путает средства для осуществления добра с настоящим добром, ничуть не хуже чувствительного, но лишенного добродетели человека. Встречаются люди, столь склонные к ложной, исключающей практическое добро чувствительности, что отворачиваются от несчастных, чтобы не видеть их страданий, и даже не пытаются им помочь. До чего презренна та гуманность, которая ограничивается жалостью там, где способна помочь!
После короткого отдыха Сен-Обер заговорил о своей сестре мадам Шерон:
– Позволь поведать тебе о важном обстоятельстве, непосредственно влияющем на твое благосостояние. Тебе известно, что в последнее время мы с сестрой мало общались, но поскольку она твоя единственная родственница, в завещании я вверил тебя ее попечению вплоть до совершеннолетия и попросил заботиться в будущем. Конечно, мадам Шерон не совсем та особа, которой я с готовностью поручил бы свою Эмили, однако выбора нет: в целом она неплохая женщина. Не стану советовать тебе попытаться завоевать ее расположение: ты сделаешь это ради меня.
Эмили заверила, что в точности исполнит все заветы отца, и добавила с тяжелым вздохом:
– Увы! Скоро у меня не останется ничего, кроме заветов, и я буду искать утешения в исполнении ваших желаний.
Сен-Обер посмотрел в лицо дочери, как будто хотел что-то сказать, но не смог: силы его оставили, веки отяжелели. Этот взгляд проник Эмили в самое сердце.
– Дорогой отец! – воскликнула она, но тут же умолкла, сжала безвольную руку и закрыла лицо платком, чтобы спрятать слезы.
Сен-Обер все же услышал ее рыдания и, вернувшись к действительности, проговорил слабым голосом:
– Ах, дитя мое! Пусть мое утешение станет твоим. Я умираю в покое, зная, что возвращаюсь к груди Отца, который останется им и после смерти. Всегда верь в него, любовь моя, и он поддержит тебя в эти минуты так же, как поддерживает меня.
Эмили могла только слушать и плакать, однако сдержанность отца, его вера и надежда немного смягчили боль, хотя всякий раз, вглядываясь в изнуренное страданием лицо, замечая смертные морщины, ввалившиеся глаза с тяжелыми, полуопущенными веками, она испытывала невыразимые муки, вытерпеть которые могла лишь дочерняя преданность.
Сен-Обер захотел снова ее благословить и спросил, протягивая руки:
– Где ты, дорогая?
Эмили отвернулась к окну, чтобы скрыть от него свое горе, и поняла, что отец лишился зрения.
Благословив дочь и совершив последнее усилие уходящей жизни, Сен-Обер снова откинулся на подушку. Эмили поцеловала покрытый смертной испариной лоб и, забыв о выдержке, оросила лицо отца слезами. Сен-Обер открыл глаза. На миг в них мелькнуло сознание, но тут же пропало. Больше он не произнес ни слова.
Постепенно погружаясь в небытие, Сен-Обер протянул до трех часов дня и тихо ушел из жизни.
Глава 8
Уильям К. Ода даме
- Над тем, кого оплакиваешь ты,
- Склоняет ангел светлое чело,
- Залитое печальными слезами.
Вечером пришел причащавший Сен-Обера священник: выразил Эмили соболезнование и передал приглашение аббатисы посетить монастырь. Эмили с благодарностью отказалась. Беседа со священником, который своими мягкими учтивыми манерами напоминал ей отца, немного сгладила остроту горя и открыла сердце тому, кто, проникая сквозь сущность и вечность, смотрит на события этого тесного мирка как на тени мгновений, видя одновременно душу вошедшего в ворота смерти и ту, что по-прежнему живет в теле.
– В глазах Бога, – заметила Эмили, – мой дорогой отец существует так же истинно, как еще вчера существовал рядом со мной. Он умер только для меня, а для Господа и себя самого по-прежнему жив!
Прежде чем удалиться в свою маленькую спальню, она отважилась навестить тело отца, чтобы молча, без слез постоять рядом. Спокойное, умиротворенное лицо поведало ей о последних мыслях и ощущениях покойного. На миг Эмили отвернулась, испугавшись столь нехарактерной для отца неподвижности, а затем взглянула с сомнением и полным ужаса изумлением. Рассудок не смог преодолеть невольного и безотчетного желания вновь увидеть дорогое лицо живым. Упорно продолжая смотреть на отца, она сжала его холодную руку и заговорила с ним, но ответа не получила и залилась горестными слезами. Услышав ее рыдания, Лавуазен вошел в комнату с намерением увести безутешную дочь, однако Эмили ничего не слышала и просила только одного: чтобы ее оставили в покое.
Когда в комнату проник вечерний сумрак, почти скрыв объект ее горя, она все еще стояла над телом, пока, наконец, не обессилела и не успокоилась. Лавуазен снова постучал в дверь и попросил ее спуститься в гостиную. Прежде чем покинуть отца, Эмили поцеловала его в губы, как делала всякий раз, желая спокойной ночи, а потом поцеловала еще раз. Сердце ее разрывалось, глаза наполнились обжигающими слезами. Она обратила взор к небу, потом взглянула на покойного и вышла из комнаты.
Уединившись в своей комнате, Эмили долго не могла думать ни о чем ином, кроме покинувшего ее отца. Даже в сонном забытьи образ его тревожил сознание. Она видела, как он подходит к ней со спокойным лицом, печально улыбается и показывает на небо. Губы его шевелятся, но вместо слов доносится мелодия, а черты лица освещаются мягким восторгом высшего существа. Звуки становятся все громче и громче… и Эмили проснулась. Видение исчезло, однако мелодия продолжала звучать подобно дыханию ангелов. Не поверив собственным впечатлениям, Эмили прислушалась, села в постели и замерла. Да, мелодия звучала на самом деле, а не в ее воспаленном воображении: сначала торжественная, потом печально-задумчивая, – и, наконец, смолкла в волшебной, возвышающей душу каденции[8]. Сразу вспомнилась вчерашняя удивительная музыка, рассказ Лавуазена и последующий разговор о душах усопших.
Слова покойного, сказанные накануне вечером, живо отозвались в ее сердце. Как все изменилось за несколько часов! Тот, кто еще недавно не мог постичь высший порядок, сейчас познал истину, покинув этот мир! Эмили похолодела от суеверного страха. Слезы остановились. Она встала с постели и подошла к окну. Мир погрузился во тьму, черная масса леса закрывала горизонт, и лишь слева Эмили увидела едва заметный ободок луны. Вспомнив рассказ старика Лавуазена, сопоставив его слова с наполнившими воздух звуками, она открыла окно и прислушалась, пытаясь определить, откуда они исходят. Темнота мешала рассмотреть что-нибудь на поляне, а музыка между тем становилась все тише и тише, пока не смолкла окончательно. Луна затрепетала между верхушками деревьев, а в следующий миг исчезла за лесом. Охваченная благоговейным, меланхоличным страхом, Эмили вернулась в постель и, на время забыв о своем горе, наконец-то погрузилась в сон.
Следующим утром из монастыря пришла монахиня, чтобы повторить приглашение аббатисы. Эмили очень не хотела покидать дом, где все еще оставалось тело отца, но все же согласилась вечером засвидетельствовать настоятельнице свое почтение.
Примерно за час до заката Лавуазен проводил ее через лес в монастырь, приютившийся в маленьком морском заливе и увенчанный зеленым амфитеатром. В другое время Эмили непременно восхитилась бы открывавшимся с холма морским видом, но поскольку сейчас мысли ее были скованы горем, природа казалась бесцветной и лишенной формы. Когда Эмили входила в древние монастырские ворота, зазвонил колокол, призывая к вечерней молитве, и ей показалось, что это погребальный звон по ее отцу. С трудом поборов приступ головокружения, Эмили предстала перед аббатисой, которая приняла ее с материнской нежностью и искренним сочувствием, вызвавшим слезы благодарности и желание ответить полными признательности словами. Аббатиса усадила гостью, села рядом сама и взяла ее за руку. Эмили вытерла слезы и попыталась заговорить, но аббатиса успокоила:
– Не спеши, дочь моя. Я знаю все, что ты скажешь. Тебе надо обрести душевный покой. Мы собираемся на молитву. Не хочешь принять участие в вечерней службе? В тяжкую минуту, дитя мое, полезно обратиться к Отцу Небесному, который видит нас, жалеет и наказывает в своей милости.
Эмили снова расплакалась, однако теперь слезы смешались с тысячью приятных чувств. Аббатиса не мешала ей плакать, а лишь молча наблюдала с кротким выражением лица. Успокоившись, Эмили объяснила, почему не хотела покидать дом, где лежит тело отца. Аббатиса похвалила ее за дочернюю верность и выразила надежду, что перед возвращением в Ла-Валле она несколько дней погостит в монастыре.
– Прежде чем столкнуться со вторым потрясением, дочь моя, тебе необходимо немного восстановить силы после первого. Не стану скрывать: тяжело тебе будет вернуться в опустевший дом, – а у нас ты получишь все, что могут дать сочувствие, покой и религия. Ну пойдем, – добавила настоятельница, заметив, что глаза Эмили опять наполняются слезами, – нам пора в часовню.
Она привела гостью в комнату, представила собравшимся монахиням:
– Это дочь, которую я глубоко ценю. Прошу, станьте ей сестрами.
Затем все прошли в часовню, где торжественное спокойствие вечерней мессы возвысило дух Эмили, подарив умиротворение и утешение веры.
Добрая аббатиса отпустила гостью лишь в глубоких сумерках. Эмили покинула монастырь в просветленной задумчивости, и Лавуазен опять повел ее через лес, меланхолический покой которого отвечал ее настроению. В молчании она следовала за своим проводником по узкой дикой тропе, но внезапно тот остановился, оглянулся и свернул в высокую траву, сказав, что потерял дорогу.
Лавуазен шел так быстро, что Эмили с трудом успевала за ним, а на все ее просьбы подождать никак не реагировал. Выбившись из сил, она наконец спросила:
– Если вы не уверены, что идете правильно, не лучше ли обратиться за помощью в тот замок, что виднеется за деревьями?
– Нет, – буркнул Лавуазен. – Незачем. Как только дойдем до того ручья – видите вон там, за лесом, отраженный в воде свет, – скоро окажемся дома. Я редко бываю здесь после захода солнца, вот и перепутал тропинки.
– Место уединенное, – отозвалась Эмили. – А разбойников здесь нет?
– Нет, мадемуазель, никого здесь нет.
– Чего же тогда вы боитесь, добрый друг? Разве вы суеверны?
– Нет, не суеверен, но, сказать по правде, приятного мало проходить мимо замка в темноте.
– Кто же там живет, что все так боятся? – спросила Эмили.
– Сейчас уже никто, мадемуазель. Маркиз – наш господин и хозяин этих прекрасных лесов – умер, да он давно здесь и не бывал, а присматривающие за замком люди живут в коттедже неподалеку.
Эмили поняла, что замок принадлежал тому самому маркизу де Виллеруа, упоминание о котором так подействовало на отца.
– Да, теперь замок пустует, а когда-то был таким великолепным! – вздохнул Лавуазен.
Эмили спросила, чем вызваны столь печальные перемены, но старик не ответил. Обеспокоенная внезапным страхом спутника и особенно воспоминанием о реакции отца, она повторила вопрос и добавила:
– Но если вы не боитесь обитателей замка и не суеверны, то почему же так опасаетесь даже пройти мимо?
– Наверное, все-таки я немного суеверен, мадемуазель, но если бы вы знали то, что знаю я, думаю, тоже испугались бы. Здесь происходили странные события. Ваш покойный батюшка, судя по всему, был знаком с хозяевами.
– Прошу, поведайте, что здесь случилось, – с чувством обратилась к нему Эмили.
– Увы, мадемуазель! Лучше не спрашивайте. Не в моей власти раскрывать чужие семейные секреты.
Удивленная словами спутника и его тоном, Эмили не осмелилась настаивать. Теперь ее мыслями завладели воспоминания об отце, а вместе с ними в сознании всплыла звучавшая ночью музыка, о которой она упомянула.
– Не только вы ее слышали, – подтвердил Лавуазен. – Я тоже ее слышал. Но музыка звучит так часто, что уже не удивляет.
– Вы, несомненно, уверены, что эта музыка и замок как-то связаны, оттого и боитесь? – уточнила Эмили.
– Возможно, мадемуазель, но с замком связаны и другие весьма странные обстоятельства!
Лавуазен тяжело вздохнул, но деликатность не позволила Эмили уступить любопытству и продолжить расспросы.
Вернувшись в коттедж, она снова начала переживать свою утрату. Оказалось, что отвлечься от тяжких страданий удавалось лишь вдали от дорогого тела. Эмили сразу прошла в комнату, где лежал отец, и поддалась горю.
Наконец Лавуазен настоял на том, чтобы она вернулась в свою спальню. Изнуренная страданиями, Эмили легла в постель и сразу уснула, а утром почувствовала себя намного лучше.
Наконец настал ужасный час погребения. Эмили снова пришла к отцу, чтобы в последний раз заглянуть в дорогое лицо. Проявляя уважение к ее горю и не желая мешать проявлению скорби, Лавуазен терпеливо ждал внизу до тех пор, пока его не охватило дурное предчувствие. Тогда хозяин, преодолев деликатность, осторожно постучался в дверь, но ответа не дождался и внимательно прислушался. Из комнаты не доносилось ни звука: ни всхлипа, ни горестного восклицания. Встревоженный, Лавуазен открыл дверь и обнаружил Эмили лежащей без чувств поперек кровати, рядом с которой стоял гроб.
На его крик подоспела помощь; безутешную девушку перенесли в спальню и привели в сознание. Тем временем хозяин распорядился закрыть гроб и убедил Эмили больше не подходить к усопшему, да она и сама поняла, что необходимо поберечь силы для предстоящей траурной церемонии.
Сен-Обер оставил особое распоряжение, чтобы его похоронили в церкви монастыря Сен-Клер, в северном приделе, рядом с древней гробницей герцогов Виллеруа, и точно указал место, где желает упокоиться.
Настоятель согласился исполнить его просьбу, и печальная процессия направилась в монастырь, где у ворот ее встретил священник в сопровождении братии.
Каждый, кто слышал торжественные звуки заупокойного гимна и мощный аккорд органа при внесении тела в церковь, видел неуверенную поступь и напускное спокойствие Эмили, не смог сдержать рыданий. Сама же она, не проронив ни слезинки, с прикрытым тонкой темной вуалью лицом медленно шла во главе траурной процессии вслед за аббатисой. За ней тянулась вереница монахинь, чьи печальные голоса смягчали суровую гармонию заупокойной мессы.
Как только процессия приблизилась к могиле, музыка стихла. Эмили полностью опустила вуаль. В коротких паузах между песнопениями отчетливо слышались ее рыдания.
Святой отец начал читать молитву. Эмили сдерживала чувства до тех пор, пока гроб не опустили в могилу и не послышался стук земли о крышку. В этот миг она вздрогнула, со стоном покачнулась и едва не упала. Стоявшая рядом монахиня подхватила ее под руку. Впрочем, вскоре Эмили услышала возвышенные и трогательные слова: «Тело его погребено с миром, а душа возвращается к тому, кто ее дал», – горе смягчилось светлыми слезами.
Из церкви аббатиса отвела Эмили в свои покои и там подарила все утешение, которое способны дать религия и искреннее сочувствие. Эмили упорно сопротивлялась горю, но аббатиса, внимательно на нее посмотрев, приказала приготовить для нее постель и отправила отдыхать, не забыв взять обещание погостить несколько дней в монастыре. Возвращаться в коттедж, где все напоминало об утрате, было выше ее сил. К тому же теперь, когда заботиться стало не о ком, Эмили почувствовала, что не способна вообще куда-нибудь идти.
Тем временем аббатиса и монахини с их добротой и заботливым вниманием старались всячески ее утешить и поддержать, хотя организм оказался слишком ослаблен, чтобы быстро вернуться в норму. Несколько недель Эмили провела в монастыре во власти вялотекущей лихорадки, не находя сил вернуться домой. Ей не хотелось покидать место захоронения отца, и даже возникала мысль, что было бы хорошо умереть здесь и упокоиться рядом с ним.
Эмили отправила письма мадам Шерон и старой экономке Терезе, где сообщила о печальном событии и описала собственную ситуацию. Тетушка прислала ответ, полный скорее банального выражения сочувствия, чем проявления истинного горя. Мадам Шерон пообещала отправить в Лангедок служанку, чтобы на обратном пути в Ла-Валле та составила Эмили компанию. Сама она не могла совершить столь долгое путешествие, так как была занята приемом гостей.
Хоть Эмили и предпочитала родной дом Тулузе, бессердечие тетушки, отсылавшей ее туда, где не осталось ни одной родной души, способной утешить и защитить, ощутила остро. Такое поведение казалось тем более предосудительным, что в завещании Сен-Обер поручил мадам Шерон опеку над осиротевшей дочерью.
Появление служанки мадам Шерон освободило доброго Лавуазена от необходимости сопровождать Эмили. Сама же она, испытывая глубокую благодарность за внимание к отцу и к себе, обрадовалась возможности избавить доброго друга от продолжительного и трудного в его возрасте испытания.
Во время жизни в монастыре умиротворение и святость этого места, царившая за его стенами красота, доброта аббатисы и дружеское внимание монахинь не раз побуждали ее покинуть опустевший после утраты близких мир и посвятить себя служению Богу. Свойственная Эмили сентиментальная задумчивость окрасила монашеское уединение в романтические тона, почти скрыв от ее внимания эгоистичность такого спокойствия, но по мере того как креп ее дух, уступая место лишь на время исчезнувшему образу, привлекательность монастырской жизни начала меркнуть, возвращались надежда, душевный покой и сердечная привязанность. Вдали слабо мерцали картины счастья. Понимая их призрачность, Эмили тем не менее не находила решимости раз и навсегда отвернуться от них. Именно воспоминание о Валанкуре – его вкусе, таланте, красоте – побудило Эмили вернуться в мир. Возвышенное величие пейзажей, сопровождавших их знакомство, пробуждало ее фантазию и незаметно придавало шевалье новый интерес, наделяя его романтическими чертами. Сыграли свою роль и многочисленные восторженные отзывы отца. Но хоть взгляды и манеры молодого человека красноречиво выражали его восхищение, он ни разу даже не намекнул на свои чувства. А надежда увидеть Валанкура оставалась настолько далекой и нереальной, что Эмили едва ее сознавала.
Здоровье Эмили окончательно поправилось лишь через несколько дней после приезда служанки. Теперь можно было отправляться в Ла-Валле. Вечером накануне отъезда Эмили пошла попрощаться с Лавуазеном и его семьей и поблагодарить за доброту и заботу. Старик сидел на скамейке возле двери между дочерью и зятем, который, только что вернувшись с работы, играл на инструменте, по звуку напоминавшем гобой. Возле старика стояла фляга с вином, а на небольшом столе перед ним лежали фрукты и хлеб. Стол окружали внуки – красивые розовощекие дети, с аппетитом поглощавшие нехитрую снедь. На краю небольшой лужайки, под деревьями, отдыхали коровы и овцы. Теплые лучи закатного солнца пробивались сквозь лес, золотили пейзаж и освещали далекие башни замка. Прежде чем выйти из тени, Эмили помедлила, желая запечатлеть в памяти картину семейного счастья: здоровье и довольство Лавуазена; материнскую нежность во взгляде и манерах Агнес; спокойную уверенность ее мужа; отраженное в улыбках детей невинное удовольствие. Эмили снова посмотрела на почтенного старика, вспомнила отца и, испугавшись бурного наплыва чувств, поспешно вышла из укрытия. Прощание прошло горячо: казалось, старик полюбил ее как родную дочь и не сдерживал слез. Эмили тоже расплакалась. Зайти в дом она не захотела, опасаясь тяжелых воспоминаний.
И все же самое болезненное переживание было впереди: перед отъездом она решила навестить могилу отца, а чтобы не привлекать к себе внимания, дождалась, пока все обитательницы монастыря – кроме одной, которая пообещала принести ключ от церкви, – лягут спать. Когда монастырский колокол пробил полночь, в комнату Эмили пришла монахиня с ключом от внутреннего хода, и по узкой винтовой лестнице они вместе спустились в церковь.
Сестра предложила проводить ее до могилы, заметив:
– Тоскливо идти туда одной в поздний час.
Эмили не захотела, чтобы кто-то был свидетелем ее горя, и, поблагодарив за предложение, отказалась. Тогда сестра отперла дверь и передала ей лампу, предупредив:
– Не забудьте, что в том приделе, по которому вам предстоит пройти, только что выкопали могилу. Держите лампу как можно ниже, чтобы не споткнуться.
Взяв лампу, Эмили еще раз ее поблагодарила и вошла в церковь, но, охваченная внезапным страхом, остановилась и вернулась к подножию лестницы. Сверху доносились шаги монахини, над спиральными перилами еще развевалась ее черная накидка, и Эмили собралась было окликнуть ее, попросить вернуться, но пока собиралась с мыслями, монахиня исчезла. Тогда, устыдившись страха, Эмили вернулась в церковь. В приделе оказалось очень холодно. В другое время глубокая тишина и едва освещенные луной высокие готические своды вызвали бы суеверный ужас, но сейчас все ее внимание сосредоточилось на скорби. Эмили не слышала слабых отзвуков собственных шагов, а свежую могилу заметила, лишь оказавшись на самом ее краю. Накануне вечером здесь похоронили одного из братьев: сидя в сумерках в своей комнате, Эмили слышала вдалеке заупокойные песнопения. В памяти возникли обстоятельства смерти отца, а когда голоса зазвучали громче и соединились c жалобными звуками органа, вернулись тяжкие видения и заставили поспешить к могиле, но внезапно в дальней части придела промелькнула чья-то тень. Эмили остановилась и прислушалась. В церкви стояла полная тишина, она решила, что поддалась обманчивой игре воображения, и пошла дальше. Сен-Обер был похоронен у подножия величественного памятника Виллеруа, под простой мраморной плитой, где было выбито его имя, а также указаны даты рождения и смерти. Эмили оставалась возле могилы до тех пор, пока призывавший к заутрене колокол не вывел ее из глубокой задумчивости и не напомнил о необходимости вернуться. Только тогда, уронив прощальную слезу, она удалилась.
Вернувшись в комнату, Эмили легла в постель и сразу уснула глубоким живительным сном, которого давно не знала, а проснувшись, впервые после кончины отца почувствовала себя спокойной и собранной.
Скорбь вернулась, едва настал момент отъезда из монастыря, Память об усопшем и доброта живых привязали ее к этому месту, а священная могила родного человека вызывала нежность, которую мы обычно испытываем к родному дому. На прощание аббатиса заверила Эмили в искренней симпатии и пригласила возвратиться в любой момент, если обстоятельства вдруг сложатся неблагоприятно. Многие монахини также выразили искреннее сожаление по поводу ее отъезда и пожелали счастья, и Эмили не смогла сдержать слез.
Только через несколько миль дороги окружающий пейзаж на миг пробудил ее от глубокой меланхолии, но лишь для того, чтобы напомнить, что совсем недавно она любовалась красотами природы вместе с отцом. Так, в грусти и унынии, прошел день. Ночь Эмили провела в городке на окраине Лангедока, а следующим утром оказалась в Гаскони.
К вечеру показались долины Ла-Валле. Взору открылись хорошо знакомые картины, а вместе с ними вернулись и воспоминания, пробудившие нежную печаль. Глядя сквозь слезы на подчеркнутое закатным светом дикое величие Пиренеев, Эмили вспоминала, как отец разделял с ней восторг созерцания. Внезапно открылся вид, который Сен-Обер встречал с особым восхищением, и вновь нахлынуло отчаяние. «Вот те же самые утесы, те же самые сосновые леса, которые совсем недавно так радовали его благородную душу! А вон там, у подножия горы, среди кедров, приютилась хижина, которую отец попросил запомнить и зарисовать! Ах, разве можно поверить, что больше я никогда его не увижу?»
По мере приближения к дому грустные воспоминания возникали все чаще. Наконец среди великолепного, близкого сердцу Сен-Обера ландшафта показался родной замок. Эмили вытерла слезы и приготовилась спокойно встретить минуту возвращения домой, где ее некому было встретить.
«Да, – подумала она, – самое время вспомнить все, чему учил отец. Как часто он призывал сопротивляться даже истинному горю! Как часто мы вместе восхищались величием ума, способного одновременно страдать и рассуждать! Ах, отец! Если вы смотрите с небес на свою дочь, то порадуетесь, увидев, что она старается следовать вашим мудрым советам».
За поворотом дороги замок предстал во всей красе: с позолоченными солнечным светом трубами и башнями, возвышавшимися из-за высоких дубов, густая листва которых скрывала нижнюю часть здания. Эмили печально вздохнула и подумала, любуясь длинными вечерними тенями. «Этот час он особенно любил! Какой глубокий покой! Какой прелестный вид! Прелестный и безмятежный, как в былые времена!»
Она снова справилась с острым приступом горя, но лишь до того момента, когда услышала веселую мелодию пляски, часто звучавшую во время их с отцом счастливых прогулок по берегу Гаронны. Силы ее оставили, и она проплакала до тех пор, пока экипаж не остановился возле ворот, ведущих на территорию замка. Из дома вышла старая экономка. Опередив ее, навстречу любимой хозяйке с радостным лаем бросился Маншон.
– Дорогая мадемуазель! – проговорила Тереза и замолчала с таким видом, словно хотела утешить плачущую Эмили.
Некоторое время пес продолжал прыгать вокруг, а потом с коротким тявканьем побежал к экипажу.
– Ах, мадемуазель! Мой бедный господин! – продолжила Тереза, которой были неведомы понятия о деликатности. – Маншон побежал его искать.
Эмили разрыдалась и посмотрела в сторону экипажа. Пес запрыгнул внутрь, но тут же вернулся и, опустив нос к земле, принялся бегать вокруг лошадей.
– Не плачьте, мадемуазель, – взмолилась Тереза. – У меня сердце разрывается.
Маншон подбежал к хозяйке, потом бросился к экипажу и снова вернулся, теперь уже жалобно скуля.
– Бедняга! – сочувственно обратилась к нему Тереза. – Потерял господина и плачешь! – Она посмотрела на Эмили: – Пойдемте, дорогая мадемуазель. Постарайтесь успокоиться. Чем мне вас угостить?
Эмили взяла старую служанку за руку и попыталась совладать с горем, расспрашивая ее о здоровье. Она не спешила ступить на ведущую к дому аллею: никто не ждал ее, чтобы встретить нежным поцелуем. Сердце уже не трепетало в радостном нетерпении, а, напротив, в страхе готовилось увидеть хорошо знакомые, напоминавшие о прежнем счастье вещи. Эмили медленно подошла к двери, остановилась, шагнула вперед и помедлила в нерешительности. Каким молчаливым, каким одиноким, каким заброшенным показался замок! Со страхом и трепетом она заставила себя войти в холл, торопливо, не глядя по сторонам, пересекла пространство и открыла дверь в комнату, которую привыкла считать своей. В вечернем полумраке все здесь выглядело торжественным: не только кресла и столы, но и каждая знакомая со счастливых времен мелочь обращалась к сердцу. Сама того не замечая, Эмили присела у выходившего в сад западного окна, где отец так любил сидеть вместе с ней, глядя, как солнце покидает небесный простор и прячется за рощу.
Дав волю слезам, она постаралась упокоиться и даже нашла в себе силы поговорить с пришедшей экономкой.
– Я приготовила вам новую постель, мадемуазель, – сообщила Тереза, поставив на стол поднос с кофе. – Подумала, что она понравится вам больше, чем прежняя. Но разве могла я представить, что вы вернетесь одна? Эта новость разбила мне сердце. Кто бы мог подумать, что бедный господин уехал навсегда?
Эмили закрыла лицо платком и махнула рукой.
– Попробуйте кофе, – предложила Тереза. – Успокойтесь, дорогая мадемуазель. Все мы умрем, а дорогой господин отправился на небеса.
Эмили отняла платок от лица и, подняв на экономку полные слез глаза, дрожащим, но спокойным голосом принялась расспрашивать о пенсионерах покойного отца.
– Да уж! – отозвалась Тереза, наливая кофе и подавая госпоже чашку. – Все, кто мог, каждый день приходили и спрашивали о вас и месье. – Она поведала, что некоторые крестьяне, которых путешественники оставили в добром здравии, умерли, а те, кто болел, выздоровели.
– Смотрите, мадемуазель, – указала за окно экономка, – вон по саду идет старая Мари. Последние три года она выглядит так, как будто со дня на день умрет, а все еще жива. Увидела экипаж и поняла, что вы приехали.
Эмили не нашла сил для разговора с бедной женщиной и попросила Терезу передать той, что слишком плохо себя чувствует и не может выйти.
Некоторое время Эмили сидела, погрузившись в печаль. Каждый предмет вызывал горестные воспоминания: любимые растения, за которыми отец учил ее ухаживать; созданные по его вкусу и совету небольшие рисунки и акварели, украшавшие комнату; выбранные им книги, которые они читали вместе; ее музыкальные инструменты, которые отец любил слушать, – все вокруг говорило о нем и обостряло боль утраты. Наконец Эмили очнулась от меланхолических размышлений и, собравшись с силами, заставила себя пройти по пустующим комнатам. Она знала, что чем дольше будет это откладывать, тем труднее ей будет справиться со страхом.
Пройдя через оранжерею, она боязливо открыла дверь в библиотеку. Вечерний сумрак и тень густых деревьев за окнами придали особую торжественность комнате, где все напоминало об отце. Вот кресло, где он так любил сидеть. Эмили вздрогнула, зримо представив его присутствие, но тут же обуздала разыгравшееся воображение, хотя и не смогла подавить благоговейный страх, медленно подошла к креслу и присела. Рядом, на столе, лежала оставленная Сен-Обером открытая книга. Сразу вспомнилось, что вечером накануне отъезда отец читал вслух отрывки из произведения любимого автора. Эмили посмотрела на раскрытые страницы и заплакала. Книга представлялась ей священной и бесценной; ни за какие сокровища она не передвинула бы ее и не перевернула открытую страницу. Она продолжала сидеть в кресле, не решаясь встать и уйти, хотя сгущающийся мрак и глубокая тишина усиливали болезненный трепет. Мысли обратились к душам усопших; вспомнился знаменательный разговор отца с Лавуазеном в поздний час накануне смерти.
Погрузившись в размышления, Эмили внезапно увидела, как дверь медленно приоткрылась, и тут же услышала в дальнем конце комнаты странный шелест. Показалось, что в темноте что-то промелькнуло. При теперешнем тревожном состоянии духа, когда воображение отзывалось на малейшее впечатление, ее обуял суеверный страх. Некоторое время Эмили сидела в холодном оцепенении, пока разум не возобладал, а вместе с ним возник вопрос: «Чего я боюсь? Если души дорогих людей вернутся, то только с любовью».
Воцарившаяся тишина заставила ее устыдиться недавних страхов. Эмили решила, что стала жертвой собственного воображения или испугалась одного из тех необъяснимых звуков, которые часто раздаются в старых домах. Однако шорох повторился, а потом что-то двинулось к ней и в следующий миг оказалось совсем близко, в кресле. Эмили вскрикнула, но тут же поняла, что это милый Маншон сидит рядом и ласково лижет ее руку.
Поняв, что сегодня она вряд ли в состоянии осмотреть остальные комнаты, Эмили вышла в сад, а оттуда направилась к террасе, обращенной на реку. Солнце уже скрылось, но на западе, из-за склоненных ветвей миндаля, на темном пространстве неба сохранилось шафранное сияние. Бесшумно промчалась летучая мышь; издалека донеслась неуверенная соловьиная трель.
Эмили вспомнились стихотворные строки, которые отец однажды прочитал на этом самом месте, и сейчас она повторила их с грустным наслаждением:
- Бесшумен, полон тайн летучей мыши круг,
- Что, словно ветер, в воздухе парит.
- В лесу, в пещере трепетно царит
- И путника пугает вздохом вдруг.
- Послушный Меланхолии совету,
- Он думает, что слышит камня глас.
- Иль верит, что судьбы печальный час
- Ждет от него прощального привета.
- Летит ночной зверек; густой туман
- В молчанье погружает все вокруг.
- Скрип, шорох иль случайный стук —
- Лишь мысли необузданной обман.
- Так горе тонет в волнах сожаленья,
- Теряют остроту печальные виденья.
Эмили пошла дальше и остановилась возле любимого платана отца, под которым они с матушкой часто сидели и беседовали о будущем. Сен-Обер не раз говорил, что с радостью думает о встрече с супругой в ином, лучшем мире. Охваченная воспоминаниями, Эмили вернулась на террасу, в задумчивости облокотилась на балюстраду и заметила пляшущих на берегу реки крестьян. В вечернем свете Гаронна невозмутимо несла свои благодатные воды. Как разительно отличалась их жизнь от одинокого, унылого существования Эмили! Эти люди оставались такими же жизнерадостными и беспечными, как в то время, когда сама она тоже была счастливой, когда отец с удовольствием слушал их удалую музыку. С минуту посмотрев на беззаботную компанию и не в силах вынести воспоминаний, Эмили отвернулась. Но увы! Куда посмотреть, чтобы не найти новых поводов для горя?
Подходя к дому, она встретила Терезу.
– Дорогая мадемуазель, – взволнованно заговорила экономка, – вот уже полчаса я повсюду вас ищу. Даже испугалась, не случилось ли чего дурного. Зачем бродить так поздно? Скорее идите домой. Только подумайте, что сказал бы мой бедный господин, если бы увидел, как вы одна бродите в темноте? После смерти госпожи он горевал так же глубоко, и все-таки редко можно было застать его в слезах.
– Пожалуйста, Тереза, прекрати, – попросила Эмили, пытаясь положить конец этим добродушным, но крайне неуместным рассуждениям.
Однако красноречие экономки не поддавалось увещеванию:
– А когда вы горевали, он объяснял, что это неправильно, потому что госпожа счастлива на небесах. А раз счастлива она, значит, счастлив и он тоже. Не зря говорят, что молитвы бедных возносятся к небесам.
Эмили молча вошла в дом, и Тереза проводила молодую госпожу в гостиную, где уже накрыла ужин на одну персону. Эмили не сразу поняла, что оказалась не в своей комнате, однако подавила желание уйти и спокойно села к столу. На противоположной стене висела шляпа отца. При взгляде на нее Эмили едва не стало плохо. Тереза, заметив ее реакцию, хотела было убрать шляпу, но Эмили покачал головой:
– Нет, пусть останется. Я пойду к себе.
– Но, мадемуазель, ужин готов.
– Я не могу ничего есть. Лучше поднимусь в свою комнату и лягу спать. Завтра почувствую себя лучше.
– Так нельзя! – воскликнула экономка. – Дорогая госпожа, непременно надо поужинать. Я приготовила прекрасного фазана. Старый месье Барро прислал птицу сегодня утром. Вчера я его встретила и сказала, что вы возвращаетесь. Никого печальная новость не огорчила так, как его!
– Правда? – переспросила Эмили, ощутив, как сочувствие постороннего человека наполняет сердце теплом.
Наконец, немного успокоившись, она ушла к себе.
Глава 9
Мейсон У. О меланхолии. К другу
- Ни голос музыки, ни дивные цветы,
- Ни живописи яркое виденье
- Не смогут подарить восторги красоты,
- Что ветра свежего приносит дуновенье.
- Спокойный дождь, таинственный туман
- Холмам даруют влажную усладу,
- А с запада последний отсвет дан,
- Прохладный вечер нам сулит отраду.
Вскоре после возвращения в Ла-Валле Эмили получила письмо от мадам Шерон. После банальных выражений сочувствия, утешений и советов та приглашала племянницу в Тулузу и добавляла, что, поскольку покойный брат поручил ей воспитание дочери, она считает себя обязанной следить за ее поведением. Сама же Эмили хотела одного: оставаться дома, в родных стенах, напоминавших о прежнем счастье в окружении ушедших родителей, там, где ничто не мешало сколько угодно плакать и каждую минуту представлять милые образы, – но ничуть не меньше стремилась избежать недовольства мадам Шерон.
Хотя преданность отцу не допускала сомнений в правоте Сен-Обера поручить судьбу дочери заботам сестры как единственной родственницы, Эмили прекрасно понимала, что этот шаг поставил ее счастье в зависимость от прихотей тетушки. В ответном письме она просила позволения на некоторое время остаться дома, в Ла-Валле, и ссылалась на крайний упадок сил, душевное истощение, потребность в тишине и покое. Она знала, что в доме тетушки не найдет ни того ни другого, поскольку благодаря унаследованному от мужа крупному состоянию мадам Шерон вела чрезвычайно рассеянную жизнь. Отправив письмо, Эмили немного успокоилась.
В первые же дни после возвращения ее навестил месье Барро – бывший друг отца, теперь искренне его оплакивавший.
– Моему горю нет предела, – сказал он, – так как не найти на свете человека, хоть в чем-то равного Сен-Оберу! Если бы я увидел ему подобного в так называемом светском обществе, то никогда бы не уехал в глушь.
Восхищение месье Барро вызвало глубокую благодарность Эмили. Она впервые почувствовала облегчение, беседуя о родителях с человеком, которого глубоко почитала как за доброту сердца, так и за деликатность.
Несколько недель прошло в тихом уединении, и постепенно острота горя стала притупляться, сменяясь привычной меланхолией. Эмили уже могла обращаться к книгам, которые прежде читала с отцом; сидеть в его кресле в библиотеке; любоваться посаженными им цветами; прикасаться к струнам того инструмента, на котором играл он, а порой даже исполнять его любимые произведения.
Эмили поняла, что праздность растлевает ум, и постаралась ни часа не проводить без работы. Именно сейчас она в полной мере осознала ценность данного отцом воспитания: развивая творческие способности дочери, Сен-Обер обеспечил ей спасение от безделья и скуки без обращения к легкомысленным развлечениям и предоставил богатый выбор занятий в стороне от светского общества. Положительные стороны воспитания не ограничивались эгоистичными преимуществами: сердце Эмили постоянно обращалось ко всему, что происходило вокруг, стараясь если не избавить людей от несчастий, то по крайней мере облегчить их участь сочувствием, поддержкой и благожелательностью.
Мадам Шерон не ответила на письмо племянницы, и Эмили начала надеяться, что ей позволят на некоторое время остаться дома, в уединении. Ум и нервы уже настолько укрепились, что она не боялась возвращаться туда, где когда-то испытала особенное счастье. Главным среди подобных мест оставалась рыбацкая хижина. Чтобы полнее погрузиться в нежные и грустные воспоминания, Эмили взяла лютню с намерением исполнить те произведения, которые особенно любили слушать родители, и отправилась туда одна, тихим вечером – в час, особенно располагающий к печали и фантазиям.
В последний раз Эмили приходила сюда вместе с месье и мадам Сен-Обер за несколько дней до фатальной болезни матушки. Теперь же, едва войдя в лес, она так живо вспомнила счастливое время, что решимость на миг отступила: Эмили прислонилась к дереву и несколько минут проплакала. Ведущая к дому неширокая тропинка заросла травой, а заботливо посеянные Сен-Обером цветы почти утонули в сорняках: чертополох, наперстянка и крапива заняли все пространство. Эмили то и дело останавливалась, чтобы посмотреть на милый сердцу пейзаж – сейчас молчаливый и одинокий, – а подойдя к хижине, дрожащей рукой открыла дверь и вздохнула:
– Ах, все осталось таким, каким было в последний раз, когда я ушла отсюда с теми, кто больше не вернется!
Она подошла к выходившему на речку окну и, облокотившись на подоконник, погрузилась в меланхоличные раздумья. Забытая лютня без дела лежала рядом: печальные вздохи ветра в кронах сосен, мягкий шепот в ветвях склонившихся над водой ив сейчас говорили ее сердцу больше, чем музыка. Увлеченная размышлениями, Эмили не заметила, как сгустился мрак, а последний луч солнца дрогнул в вершинах деревьев. Наверное, она не скоро вернулась бы к действительности, если бы внезапно не услышала шаги и не осознала, что совсем не защищена. В следующий момент дверь открылась, и на пороге показался человек, а увидев Эмили, принялся извиняться за вторжение. Его голос показался ей знакомым, и страх сразу уступил место иному чувству: не различая в темноте черт его лица, Эмили сразу узнала молодого человека.
Тот повторил извинения, а услышав ответ, быстро подошел к ней и воскликнул:
– Боже милостивый! Неужели? Нет, я не ошибаюсь. Мадемуазель Сен-Обер, это вы?
– Я, – просто ответила Эмили, увидев воодушевленное больше обычного лицо Валанкура. Сразу нахлынули болезненные воспоминания, а попытка совладать со своими чувствами лишь усилила волнение.
Валанкур осведомился о ее здоровье и выразил надежду, что путешествие принесло пользу месье Сен-Оберу, но, увидев поток безудержных слез, понял печальную правду. Он усадил Эмили, сам сел рядом, бережно взял ее за руку и не отпускал до тех пор, пока она рыдала от горя и жалости к себе.
– Я чувствую, насколько ничтожны все попытки утешения, – наконец проговорил Валанкур. – Могу только разделить ваши страданья, так как источник ваших слез не вызывает сомнений. Ах, если бы я мог ошибиться!
Спустя некоторое время Эмили поднялась и предложила покинуть это грустное место. Видя, как она слаба, Валанкур все-таки не осмелился ее удерживать, а подал руку и вывел из хижины. Они в молчании прошли через лес: Валанкур хотел узнать подробности смерти месье Сен-Обера, но боялся спросить, а Эмили не находила сил для беседы. Прошло немало времени, прежде чем она смогла заговорить об отце и кратко рассказала о его последних часах. Валанкур слушал с глубоким вниманием, а узнав, что Сен-Обер скончался в дороге и Эмили осталась среди чужих людей, импульсивно сжал ее руку и воскликнул:
– Ах, почему же меня там не было!
Почувствовав, что воспоминания утомили спутницу, Валанкур незаметно сменил тему и заговорил о себе. Так, Эмили узнала, что после расставания он некоторое время путешествовал по побережью Средиземного моря, а потом через Лангедок вернулся в родную Гасконь, где обычно жил.
Закончив свой небольшой рассказ, Валанкур погрузился в молчание, и спутница не спешила его нарушить. Так они дошли до ворот замка. Валанкур остановился, сказал, что на следующий день собирается вернуться в Эстувьер, и попросил разрешения зайти утром, чтобы проститься. Понимая, что невозможно отказать ему в обычной вежливости, Эмили ответила, что будет дома.
Вечер прошел в грустных размышлениях обо всем, что произошло после того, как их с Валанкуром пути разошлись, а смерть отца предстала так живо и ярко, как будто случилась только вчера. Вспомнилась его настойчивая просьба уничтожить хранящиеся в тайнике бумаги. Очнувшись от летаргии горя, Эмили осознала, что до сих пор не выполнила поручение, и твердо решила завтра же исправить оплошность.
Глава 10
Шекспир У. Макбет
- Возможно ли, что странные заветы
- Развеются бесследно, словно облака,
- Не породив сомнений и вопросов?
Следующим утром Эмили распорядилась затопить камин в комнате отца и сразу после завтрака отправилась туда с намерением сжечь таинственные бумаги. Заперев дверь, она вошла в маленькую смежную комнатку и в страхе остановилась, трепеща и не решаясь отодвинуть половицу. В углу стоял стол, а рядом с ним кресло, в котором отец сидел накануне отъезда, с глубоким чувством просматривая те самые бумаги, которые ей предстояло уничтожить.
Уединенная жизнь последнего времени отразилась на ее восприятии окружающего мира, а горестные воспоминания и раздумья породили болезненную игру воображения. Жаль, что обычно здравый рассудок сейчас, пусть на миг, уступил место суеверию, а точнее, взрывам обостренной фантазии, опасно напоминавшим временное безумие. После возвращения Эмили домой помутнение рассудка у нее случалось нередко, особенно когда она в сумерках бродила по замку и вздрагивала от каждого шороха или тени, на которые не обратила бы внимания в прежние радостные дни. Именно тревожным состоянием нервов и рассудка можно объяснить то, что, снова взглянув в темный угол, Эмили увидела сидящего в кресле отца.
Несколько секунд она стояла, не в силах пошевелиться, затем поспешно вышла из комнаты, но вскоре опомнилась и, осудив себя за трусость в столь важном деле, опять открыла дверь в смежную комнату. Следуя подробным указаниям отца, она действительно нашла возле окна нужную половицу, нажала на линию, и доска опустилась. Под ней оказалась связка бумаг, а также несколько разрозненных листов и упомянутый кошелек с луидорами. Дрожащими руками Эмили достала содержимое тайника, вернула половицу на место и хотела уже подняться, но тут снова увидела фигуру отца уже за столом. Эта иллюзия (еще один пример разрушительного воздействия одиночества и горя на сознание) лишила ее самообладания. Эмили бросилась прочь, а в своей комнате почти без чувств упала в кресло.
К счастью, вскоре рассудок преодолел болезненный приступ воображения, и она принялась рассеянно листать бумаги, совсем забыв, что отец категорически запретил ей читать документы, а вспомнила об этом, лишь наткнувшись на фразу пугающего смысла. Эмили поспешно отодвинула бумаги, но не смогла стереть из памяти слова, вызвавшие одновременно любопытство и ужас. Эти слова произвели на нее такое сильное впечатление, что Эмили не спешила уничтожать документы, и чем дольше обдумывала это обстоятельство, тем живее разыгрывалось ее воображение. Испытывая острое любопытство и неудержимую потребность проникнуть в жуткую тайну, упоминание о которой она только что прочитала, Эмили начала сожалеть о данном отцу слове. На миг возникло сомнение, правильно ли будет исполнить обещание вопреки острому желанию получить объяснение, но Эмили сразу его отвергла.
«Я дала зарок в точности выполнить все указания, – сказала она себе. – Значит, должна не спорить, а повиноваться. Пока я полна решимости, необходимо немедленно уничтожить искушение, способное лишить меня добродетели и навсегда отравить мне жизнь осознанием неисправимой вины».
Вдохновленная чувством долга, Эмили победила самое сильное искушение в своей жизни и предала бумаги огню. Ее взгляд неотрывно следил за медленно разгоравшимся пламенем, а в сознании неумолимо звучала только что прочитанная фраза, единственная возможность объяснить которую в эти минуты исчезала навсегда.
О кошельке Эмили вспомнила не сразу и решила убрать его в шкаф, как вдруг обнаружила, что там находится что-то еще помимо денег. «Его рука сложила их сюда, – думала она, рассматривая содержимое кошелька. – Рука, теперь превратившаяся в прах». На дне кошелька оказался маленький предмет, завернутый в несколько слоев тонкой бумаги. Развернув его, Эмили обнаружила медальон из слоновой кости с миниатюрным портретом… молодой дамы, тем самым, над которым плакал отец! Вглядевшись в изображение, она увидела незнакомую особу необыкновенной красоты с кротким, печальным и покорным выражением лица.
Сен-Обер не распорядился относительно портрета и даже не упомянул о нем, поэтому Эмили решила его сохранить. Не раз вспоминая тон, которым отец говорил о маркизе Виллеруа, Эмили решила, что это ее изображение. Но что заставило отца хранить эту миниатюру и, более того, плакать над ней так безутешно, как плакал он накануне путешествия?
Эмили долго рассматривала прекрасные черты незнакомки, но так и не смогла открыть секрет ее очарования, не только вызывавшего глубокое восхищение, но и рождавшего чувство жалости. Темно-каштановые волосы свободно обрамляли высокий чистый лоб; нос слегка напоминал орлиный; на губах застыла грустная улыбка; голубые глаза с невероятной кротостью обращались к небесам, в то время как мягкие брови свидетельствовали о нежном и чувственном нраве.
Стук садовой калитки вывел Эмили из задумчивости. Она посмотрела в окно и увидела направлявшегося к дому Валанкура, но, взволнованная находкой, не сразу вернулась к действительности и на некоторое время задержалась в комнате.
Встретив шевалье в гостиной, она поразилась изменениям, произошедшим в его внешности и выражении лица со времени расставания в Руссильоне. Накануне, в сумерках, она этого не заметила, но уныние и вялость его на миг утонули в радостной улыбке, едва Валанкур увидел Эмили.
– Видите, я воспользовался вашим позволением проститься, хотя только вчера имел счастье вас встретить.
Эмили слабо улыбнулась и, ощущая необходимость что-то сказать, спросила, давно ли он в Гаскони.
– Всего несколько дней, – слегка покраснев, ответил Валанкур. – Простившись с новыми друзьями, благодаря которым путешествие через Пиренеи превратилось в удовольствие, я отправился в долгий путь.
При этих словах глаза Эмили вновь наполнились слезами. Валанкур заметил оплошность и, чтобы ее отвлечь, заговорил о скромной красоте замка Ла-Валле.
Не зная, как поддержать беседу, Эмили обрадовалась возможности сменить тему. Они вышли на террасу, и Валанкур принялся восхищаться очарованием речного пейзажа и видами противоположного берега Гаронны. Облокотившись на парапет, он посмотрел на быстрое течение и задумчиво произнес:
– Несколько недель назад я побывал у истока этой благородной реки. Тогда еще я не имел счастья вас знать, иначе пожалел бы о вашем отсутствии: эта картина полностью соответствовала вашему изысканному вкусу. Гаронна берет начало высоко в горах, в местах еще более диких и грандиозных, чем те, которые окружали нас по пути в Руссильон.
Он подробно описал, как поток мчится среди скал и ущелий, собирая по пути речки и ручьи со снежных вершин, и по долине Аран продолжает путь на северо-запад до тех пор, пока не выходит в долины Лангедока. Затем, омыв стены Тулузы и снова повернув на северо-запад, уже спокойнее несет свои воды в Бискайский залив, по пути даря живительную влагу садам и пастбищам провинций Гасконь и Гиень.
Разговор зашел о пейзажах Альп, и в голосе Валанкура послышалась трепетная нежность. Порой он рассуждал о них с истинным пылом гения, едва не теряя нить повествования, но продолжая говорить. Эмили, в свою очередь, постоянно думала об отце, вспоминая его наблюдения и видя перед собой его одухотворенное лицо. Долгое молчание собеседницы напомнило Валанкуру, что его рассказы косвенно касаются источника ее горя, и выбрал для разговора другой предмет – правда, не менее тяжелый для собеседницы. Слушая, как он восхищается склонившимся над террасой грандиозным платаном, в тени которого они сидели, Эмили вспомнила, как отдыхала здесь вместе с отцом, также не устававшим выражать восторг, и отозвалась:
– Это дерево дорогой отец особенно любил. Летними вечерами он с удовольствием проводил время под его кроной, в окружении семьи.
Валанкур понял ее чувства и умолк. Если бы Эмили подняла взгляд, то увидела бы в его глазах слезы. Он встал и облокотился на балюстраду, но уже через несколько мгновений вернулся к скамье и снова сел, а потом опять поднялся в очевидном волнении. Эмили же до такой степени расстроилась, что так и не смогла возобновить разговор. Наконец, заметно дрожа, Валанкур занял прежнее место рядом, а после долгой паузы нетвердым голосом произнес:
– И вот это чудесное место я собираюсь покинуть! Покинуть вас – возможно, навсегда! Эти мгновения никогда не вернутся! Позвольте, однако, не оскорбляя глубины вашего горя, выразить восхищение вашей неизменной добротой. О! Да будет мне позволено когда-нибудь назвать мое чувство любовью!
Эмили не смогла ответить. Валанкур поднял глаза, заметил, как изменилось ее лицо, и, решив, что она лишилась чувств, захотел ее поддержать. Это невольное движение вернуло Эмили к реальности. Валанкур, казалось, не заметил растерянности собеседницы, но когда заговорил снова, его голос наполнился нежной любовью.
– Я не стану сейчас навязывать вашему вниманию эту столь важную для меня тему. Лишь упомяну, что наше прощание утратило бы свою горечь, если бы я смог надеяться, что мое признание не помешает мне видеться с вами впредь.
Эмили попыталась преодолеть смятение и заговорить. После столь краткого знакомства она боялась довериться своему сердцу и дать Валанкуру надежду. Хотя во время путешествия молодой человек не раз вызывал ее восхищение благородством и вкусом – качествами, высоко оцененными отцом, этого было недостаточно, чтобы принять важное для будущего счастья решение. И все же мысль о расставании с Валанкуром доставляла ей острую боль, и понимание этого обстоятельства вынуждало ее опасаться пристрастности своего суждения и еще больше сомневаться в возможности довериться голосу сердца. Отец давно знал семью Валанкуров и считал ее безупречной. А о своем материальном положении шевалье тонко намекнул сам, сказав, что в настоящее время может предложить лишь полное обожания сердце. Он молил об отдаленной надежде, и Эмили не решалась ни отказать ему, ни вселить в него уверенность. Наконец она нашла мужество сказать, что польщена добрым отношением каждого, кого высоко ценил ее отец.
– Значит, я удостоился высокой оценки месье Сен-Обера? – дрожащим от волнения голосом спросил Валанкур, но тут же одумался и добавил: – Прошу прощения, я сам не знаю, что говорю. Если бы мог я надеяться, что вы не считаете меня навязчивым, и время от времени справляться о вашем здоровье, то я сейчас удалился бы в относительном спокойствии.
После короткого молчания Эмили ответила:
– Буду с вами откровенна, так как знаю, что вы поймете мою ситуацию и, больше того, сочтете мою искренность доказательством расположения. Хоть я и живу в доме отца, живу я здесь одна. Увы! Рядом больше нет родного человека, чье присутствие оправдало бы ваши визиты. Думаю, нет необходимости напоминать вам о том, насколько мне неприлично принимать у себя гостя.
– Не стану притворяться, что не понимаю этого, – признался Валанкур и печально добавил: – Но что же утешит меня в разочаровании? Я знаю, что огорчаю вас, и немедленно оставил бы тему, если бы мог унести с собой надежду когда-нибудь предстать перед вашей семьей.
Эмили снова смутилась и не нашлась, что ответить, остро ощущая свое полное одиночество. У нее не было ни родственника, ни близкого друга, к кому она могла бы обратиться за поддержкой в нынешней затруднительной ситуации. Единственная способная помочь родственница – мадам Шерон – то ли погрузилась в собственные заботы, то ли так обиделась на нежелание племянницы покинуть Ла-Валле, что даже не ответила на ее письма.
– Ах, понимаю! – воскликнул Валанкур после долгой паузы, во время которой Эмили начинала то одну, то другую фразу, но оставляла их незавершенными. – Я вижу, что надеяться не на что: страхи мои оказались ненапрасными: вы не считаете меня достойным благосклонного внимания. Роковое путешествие! Дни, которые я считал самыми счастливыми в жизни, омрачили все мое дальнейшее существование! Как часто я вспоминал о них с опасением и надеждой, и все же до этого момента ни разу не сожалел об их волшебных последствиях!
Голос его сорвался. Валанкур быстро встал и принялся ходить по террасе. Охватившее его отчаяние не оставило Эмили равнодушной. Симпатия одержала верх над робостью, и когда молодой человек вернулся к скамейке, она ответила с плохо скрываемой нежностью:
– Говоря, что я считаю вас недостойным благосклонности, вы обижаете и меня, и себя. Должна признаться, что благосклонность давно живет в моей душе, и…
Валанкур с нетерпением ждал завершения фразы, но слова замерли на ее губах, а истинные чувства отразились во взгляде, и молодому человеку хватило мига, чтобы перейти от отчаяния к радости и нежности.
– Ах, Эмили! – воскликнул он пылко. – Моя дорогая Эмили! Научите навсегда сохранить этот миг, запечатлеть его как самый священный в жизни!
Он прижал ее руку, холодную и слегка дрожащую, к губам, а подняв глаза, увидел, как возлюбленная бледна. На помощь Эмили пришли слезы, и Валанкур смотрел на нее в тревожном молчании. Спустя несколько мгновений она взяла себя в руки и, грустно улыбнувшись, спросила:
– Сможете ли вы простить мне эту минутную слабость? Боюсь, я еще не окончательно оправилась после недавно перенесенного потрясения.
– Я не готов простить себя, – ответил Валанкур. – Но постараюсь больше не затрагивать волнующей вас темы. – Затем, забыв о своем недавнем решении, снова заговорил о себе: – Вы не представляете, сколько тревожных часов я провел вблизи от вас, когда вы думали, что я далеко, если вообще вспоминали обо мне. Я бродил вокруг замка в ночной тиши, когда никто не мог меня заметить. Было так восхитительно представлять, что вы рядом, и особенно приятно думать, что я охраняю ваш сон. Эти земли знакомы мне. Однажды я проник за ограду и провел один из счастливейших и в то же время самых меланхоличных часов в моей жизни, пока бродил под вашими окнами.
Эмили поинтересовалась, как давно Валанкур появился в этих местах.
– Несколько дней назад. Я хотел воспользоваться приглашением месье Сен-Обера. Не знаю, как это объяснить, но несмотря на то что искренне желал нанести вам визит, я почему-то постоянно откладывал этот момент. Я жил в деревне поблизости и бродил с собаками по прекрасному краю в постоянной надежде встретить вас, но не осмеливаясь явиться в замок.
Увлеченный беседой, Валанкур совсем не замечал течения времени, но наконец спохватился и грустно заключил:
– Мне пора. Но я удаляюсь с надеждой на новую встречу и на разрешение предстать перед вашими родственниками.
– Мои родственники будут рады познакомиться с другом дорогого отца, – дипломатично заверила Эмили.
Валанкур поцеловал ее руку на прощание, но не нашел сил уйти. Эмили сидела молча, опустив глаза, и, глядя на нее, он подумал, что еще не скоро сможет увидеть ее прекрасные черты. В этот миг за платаном послышались торопливые шаги. Обернувшись, Эмили увидела мадам Шерон. Покраснев и задрожав от внезапного наплыва чувств, она немедленно поднялась навстречу тетушке.
– Итак, племянница! – начала та, бросив на Валанкура удивленный вопросительный взгляд. – Как поживаешь? Впрочем, незачем спрашивать. Твой облик красноречиво свидетельствует, что боль утраты давно прошла.
– Значит, мой облик обманчив, мадам, ибо боль утраты никогда не притупится.
– Да-да! Не стану спорить. Я знаю, что ты унаследовала характер отца, но позволь заметить, что с другим характером жизнь бедняги прошла бы более счастливо.
Эмили слушала бестактные рассуждения мадам Шерон со сдержанным неудовольствием. Она не ответила на обвинения, но представила тетушке Валанкура, который с трудом скрыл негодование и вежливо поклонился. Мадам Шерон ответила легким реверансом и высокомерным, оценивающим взглядом. Спустя несколько мгновений молодой человек удалился, хотя и не желал оставлять Эмили в обществе этой особы.
– Кто этот юноша? – осведомилась тетушка тоном, в котором смешались любопытство, недоверие и осуждение. – Полагаю, какой-нибудь праздный поклонник? А я верила, что чувство приличия не позволит тебе принимать молодых людей в нынешнем одиноком положении. Позволь напомнить, что общество замечает подобное поведение и подвергает его строгому осуждению, причем незамедлительно.
Обиженная грубой речью, Эмили хотела возразить, однако мадам Шерон продолжала с напором, явно наслаждаясь новой властью, говорить:
– Необходимо, чтобы за тобой следил кто-то взрослый и разумный. У меня, конечно, много других забот, но поскольку твой бедный отец перед смертью попросил о тебе позаботиться, придется найти время и силы на твое воспитание. Только позволь заметить, что, если ты не будешь безропотно слушаться, я больше не стану беспокоиться о твоем благополучии.
И опять Эмили не решилась перебить мадам Шерон. Горе и уязвленная гордость невинности заставляли ее молчать.
– Я приехала, чтобы забрать тебя с собой в Тулузу. Мне жаль, что твой бедный отец скончался при столь удручающих обстоятельствах, и все же я возьму тебя к себе. Ах, несчастный! Он всегда проявлял больше щедрости, чем предусмотрительности, иначе не оставил бы дочь на милость родственников!
– Надеюсь, он и не сделал этого, – спокойно ответила Эмили. – Да и денежные затруднения возникли не от той благородной щедрости, которая всегда его отличала. Полагаю, дела месье Моттевиля могут уладиться без особого ущерба для клиентов, а я пока с удовольствием осталась бы в Ла-Валле.
– Не сомневаюсь, – с ироничной улыбкой подтвердила мадам Шерон. – И даже соглашусь на это, поскольку вижу, насколько спокойствие и уединение необходимы для восстановления твоего душевного равновесия. А я и не представляла, племянница, что ты способна так искусно лицемерить. Прочитав в письме ваши доводы, чтобы оставаться здесь, я наивно поверила в их искренность и даже не подумала о присутствии такого приятного утешителя, как этот месье Ла-Вал… забыла, как его зовут.
Эмили не выдержала грубых нападок:
– Доводы были вполне искренними, мадам. И теперь больше, чем прежде, я ценю уединение, о котором просила. Если цель вашего визита – оскорблять меня, то я вполне могла бы обойтись без вашего внимания.
– Я вижу, что взяла на себя очень неприятную и неблагодарную миссию, – покраснев, заявила мадам Шерон.
– Уверена, тетушка, – пытаясь сдержать слезы, ответила Эмили, – что дорогой отец не мыслил опеку такой. Я имею счастье думать, что своим поведением неизменно вызывала его одобрение. Тем печальнее сопротивляться распоряжениям сестры такого прекрасного человека. Если вы действительно считаете вашу задачу неприятной, то мне жаль, что она досталась именно вам.
– Что ж, племянница, от красивых слов мало толку. Из уважения к бедному брату я намерена не обращать внимания на твое неприличное поведение.
Эмили попросила объяснить, какое неприличное поведение она имеет в виду.
– Какое! – возмущенно воскликнула мадам Шерон, не думая о том, что ее нескромные подозрения выглядят гораздо неприличнее. – Разумеется, речь идет о встречах с кавалером, незнакомым твоей семье.
Щеки Эмили покрылись слабым румянцем; гордость и тревога боролись в ее душе. Думая, что такая реакция до некоторой степени подтверждает обвинения тетушки, она не могла унизиться еще больше, оправдывая свое совершенно невинное и непреднамеренное поведение. Она просто упомянула об обстоятельствах знакомства Валанкура с отцом, о ранении и о последующем совместном путешествии, а также о случайной встрече вчера вечером. А в заключение добавила, что молодой человек признался в расположении к ней и попросил позволения познакомиться с родственниками.
– И кто же этот искатель приключений? – осведомилась мадам Шерон. – Каковы его притязания?
– Это он должен объяснить сам, однако отец знал его семью и считал ее репутацию безупречной, – ответила Эмили и сообщила кое-какие известные ей сведения.
– Ах, в таком случае, кажется, это младший из братьев! – воскликнула мадам Шерон. – Разумеется, нищий. Замечательно! И что же, всего за несколько дней знакомства мой дорогой брат проникся дружескими чувствами к этому бродяге? До чего же на него похоже! В молодые годы он постоянно поддавался безотчетной симпатии и антипатии, когда никто вокруг не видел повода для проявления таких чувств. Больше того, мне всегда казалось, что люди, которых он не одобрял, на самом деле были намного симпатичнее тех странных личностей, которыми восхищался. Но о вкусах не спорят. На него всегда так влияла внешность нового знакомого! Я же совсем не обращаю внимания на черты лица: по-моему, это просто нелепая восторженность. Разве внешность имеет какое-то отношение к характеру? А что, если достойному человеку досталось несимпатичное лицо?
Последнюю фразу мадам Шерон произнесла с торжествующим видом, словно только что сделала великое открытие, и посчитала этот вопрос раз и навсегда решенным.
Спеша завершить пустой разговор, Эмили поинтересовалась, не желает ли тетушка подкрепиться. Мадам Шерон с готовностью направилась в замок, однако не оставила тему, которую обсуждала с самодовольством и строгостью к племяннице.
– Я с сожалением замечаю, – проговорила она в ответ на какое-то замечание Эмили относительно физиономики, – что ты унаследовала многие предрассудки отца, в том числе и расположение к людям исключительно из-за их внешней привлекательности. Полагаю, после столь краткого знакомства ты считаешь, что пылко влюблена в этого молодого человека. Тем более что ваше знакомство случилось при таких романтических обстоятельствах!
С трудом сдержав слезы, Эмили возразила:
– Когда мое поведение будет заслуживать строгого осуждения, у вас появится возможность высказаться. А до тех пор из чувства справедливости, не говоря уже о семейной привязанности, прошу вас воздержаться. Я никогда намеренно вас не оскорбляла, и теперь, после смерти родителей, только от вас могу ждать доброты, так не заставляйте же меня еще больше сожалеть об утрате отца и матери.
С трудом произнеся последние слова, Эмили бурно разрыдалась. Вспомнились деликатность и мягкость родителей, проведенные дома счастливые дни, по сравнению с которыми грубость и бесчувствие мадам Шерон показались особенно горькими и довели едва ли не до отчаяния.
Больше оскорбленная прозвучавшим в словах Эмили упреком, чем тронутая ее горем, мадам Шерон не произнесла ни слова, чтобы облегчить печаль. Несмотря на очевидное нежелание принять племянницу, она все-таки стремилась к ее обществу. Главной ее страстью неизменно оставалась власть. Она знала, что лишь выиграет, поселив в своем доме осиротевшую беззащитную родственницу, на которой можно безнаказанно вымещать любые прихоти и капризы.
Войдя в замок, тетушка распорядилась, чтобы Эмили собрала вещи для поездки в Тулузу, поскольку захотела немедленно отправиться в путь, но племянница принялась ее уговаривать подождать хотя бы до следующего дня и, наконец, тетушка согласилась.
День прошел в мелких придирках со стороны мадам Шерон и грустном ожидании безрадостного будущего. Вечером, как только тетушка удалилась в отведенную ей спальню, она обошла весь дом, чтобы проститься с каждой дорогой сердцу мелочью, зная, что надолго покидает его ради чуждого, неведомого мира. То и дело возникало предчувствие, что в Ла-Валле она больше никогда не вернется. Эмили надолго задержалась в кабинете отца: выбирала его любимые книги, чтобы увезти с собой, со слезами смахивала с обложек пыль и, сидя в его любимом кресле, предавалась размышлениям до тех пор, пока Тереза не открыла дверь, по привычке перед сном обходя комнаты и проверяя, все ли в порядке. Увидев молодую госпожу, она испуганно вздрогнула, но та пригласила ее войти и попросила содержать замок в полной готовности к ее возвращению.
– Как жаль, что вы уезжаете, мадемуазель! – воскликнула экономка. – Уверена, что здесь вам было бы лучше, чем там, куда вы направляетесь.
На это замечание Эмили не ответила. Тереза, тем временем, продолжала искренне выражать свою печалью. Утешение доставляла лишь глубокая привязанность старой служанки.
Отправив Терезу отдыхать, Эмили продолжила прощальную прогулку по комнатам замка. В спальне отца задержалась, но испытала грустные, а вовсе не тяжелые чувства, и, наконец, вернулась к себе. Посмотрев в окно, она увидела слабо освещенный луной сад и испытала такое острое желание проститься с любимыми уголками, что решила выйти на улицу. Накинув легкую шаль, в которой обычно гуляла, она бесшумно вышла из дома и поспешила к дальней роще, чтобы напоследок в одиночестве вдохнуть воздух свободы. Глубокий покой, наполнившие воздух ароматы, величие далекого горизонта и чистого синего купола постепенно утешили и возвысили душу до утонченного умиротворения, способного показать, насколько мелочны и несущественны неприятности, еще недавно ее огорчавшие. Эмили совсем забыла о мадам Шерон с ее мерзким поведением и обратилась мыслями к наполнявшим небесную глубину бесчисленным мирам, которые скрыты от человеческих глаз и недоступны полету человеческой фантазии. Ее воображение проникло в бесконечное пространство и подступило к Великой Первопричине всего сущего, но при этом всюду и постоянно присутствовал образ отца. Эта мысль принесла утешение, поскольку в абсолютной уверенности чистой и святой веры Эмили знала, что поручила его Богу. Она прошла через рощу к террасе, по пути не раз останавливаясь, когда знакомые картины пробуждали боль утраты или рассудок напоминал о предстоящем изгнании.
Луна уже высоко поднялась над деревьями, тронула кроны серебряными лучами и пронизала светом густую листву, в то время как внизу быстрые воды Гаронны подернулись легкой дымкой. Эмили долго любовалась игрой света и прислушивалась к мирному бормотанию реки и шепоту ветра.
«Как свежо дыхание этих рощ! – подумала она. – Как прекрасен пейзаж! Часто, очень часто я буду вспоминать его вдали от дома! Увы! Сколько всего случится, прежде чем я снова увижу родной край? О, мирные, счастливые картины детских восторгов и навсегда утраченной родительской нежности! Почему я должна вас покинуть? В вашей тиши я обрела бы спокойствие и душевное равновесие. Счастливые часы детства! Я вынуждена оставить даже последние напоминания о вас! Не остается ничего, что могло бы воскресить мои детские впечатления!»
Вытерев слезы и посмотрев в небо, Эмили вернулась мыслями к возвышенной теме: душой овладела прежняя божественная благодать, вселила надежду, уверенность и преданность воле Господа, чьи деяния наполнили разум восторгом.
Эмили долго любовалась старинным платаном, а потом присела на ту самую скамейку, где так часто проводила время с родителями и где всего лишь несколько часов назад беседовала с Валанкуром. При воспоминании о нем в душе родились нежность и волнение. Эмили вспомнила, как молодой человек признался, что по ночам часто бродил вокруг ее дома, а порой даже осмеливался проникнуть в сад. Может быть, он и сейчас где-то неподалеку? Страх встретить шевалье, особенно после его признания, и навлечь на себя гнев тетушки, если та узнает о позднем свидании, заставил немедленно встать и направиться к замку. В тревоге Эмили то и дело останавливалась, всматриваясь в темноту. К счастью, ей удалось дойти до дома, никого не встретив. Под миндальными деревьями она помедлила, чтобы бросить на сад прощальный взгляд. Внезапно ей показалось, что из рощи вышел человек и медленно направился по освещенной луной аллее. Расстояние и неверный свет не позволили с уверенностью определить, была ли это реальность или плод ее фантазии. Некоторое время она продолжала смотреть в ту сторону, пока в полной тишине не услышала чьи-то шаги поблизости. Не тратя ни секунды на раздумья, она поспешила в замок и бегом поднялась в свою комнату, но прежде чем закрыть окно, посмотрела в сад: там кто-то был – теперь уже под миндальными деревьями, откуда она только что ушла. В волнении Эмили легла в постель и, вопреки обстоятельствам, сразу крепко уснула.
Глава 11
Песнь менестреля
- Прости навек, край детства золотой,
- Где я не знал забот, не ведал грусти долгой.
- Где лица веселы, беседы ход свободной
- Мысль пробуждал, даруя слог простой.
- Все искренне, все безыскусно было!
Рано утром ко входу в замок подъехал экипаж, чтобы отвезти мадам Шерон и Эмили в Тулузу. Когда племянница вошла в столовую, тетушка уже завтракала. Эмили не скрывала грусти и разочарования, а мадам, чье самолюбие страдало при виде дурного настроения племянницы, осуждала ее, что вовсе не способствовало радости и веселью. С огромной неохотой мадам Шерон позволила Эмили взять с собой Маншона – любимого спаниеля Сен-Обера. Спеша уехать, тетушка приказала подать экипаж и направилась к входной двери, Эмили в последний раз заглянула в библиотеку, окинула взглядом сад и пошла следом за тетушкой.
– Да поможет вам Господь, мадемуазель! – напутствовала любимую госпожу старая Тереза.
В ответ Эмили пожала ей руку и натянуто улыбнулась.
У ворот собрались несколько подопечных отца: каждый хотел попрощаться. Отдав им почти все деньги, Эмили села в карету, откинулась на спинку сиденья и дала волю грусти. Поговорить с крестьянами не удалось, так как мадам Шерон не позволила кучеру остановиться. Через некоторое время на повороте дороги, среди высоких деревьев опять показался замок: Гаронна вилась среди зеленых склонов и густых рощ, то теряясь в виноградниках, то снова появляясь на далеких пастбищах. Громоздящиеся на юге вершины Пиренеев дарили богатые воспоминания о недавнем путешествии, но вместо восхищения рождали в душе лишь грусть и сожаление. Вид замка и его живописных окрестностей переполнил сознание печальными размышлениями. Эмили не могла поддерживать разговор с мадам Шерон на какие-то банальные темы, так что поездка продолжалась в глубоком молчании.
Тем временем Валанкур вернулся в Эстувьер, ни на миг не оставляя мыслей об Эмили: порой он мечтал о будущем счастье, но чаще с ужасом представлял, какой активный отпор получит от родственников возлюбленной. Валанкур был младшим сыном старинной гасконской семьи. Родители умерли, когда он был еще маленьким, так что заботы об обучении мальчика и охране небольшой доли его наследства легли на плечи брата – графа Дюварне, который был старше его почти на двадцать лет. Валанкур получил самое достойное образование, проявив пылкость духа и величие ума – качества, позволившие ему достичь особых успехов в сферах, в те времена почитавшихся героическими. Из-за неизбежных расходов на обучение и без того небольшое состояние сократилась, однако месье Валанкур-старший не сомневался, что таланты и знания брата успешно восполнят скудость наследства. Он лелеял надежду на успешную военную карьеру – в то время едва ли не единственную стезю, на которую джентльмен мог ступить, не опасаясь запятнать доброе имя. Так Валанкур оказался в армии. Брат плохо понимал высокие качества его ума и характер одаренности. Уже в детские годы мальчик проявлял страсть ко всему великому и доброму как в духовной, так и в материальной сфере. Так же пылко он выражал нетерпимость к низким, подлым деяниям, чем порой навлекал гнев учителя, считавшего, что так проявляется несдержанность нрава. Разглагольствуя о добродетелях умеренности и мягкости, наставник забывал о том действенном сострадании, которое ученик проявлял по отношению к страждущим.
Взяв отпуск в полку, Валанкур отправился в путешествие по Пиренеям, где встретил Эмили и ее отца, но после смерти Сен-Обера ему предстояло заново знакомиться с родственниками возлюбленной, от которых трудно было ожидать одобрения: даже с учетом денег Эмили его состояние хоть и могло бы обеспечить достойную жизнь, но все равно не удовлетворило бы ни их тщеславие, ни честолюбие. Валанкур и сам обладал значительной долей честолюбия: видел блестящие перспективы военной карьеры и верил, что, женившись на Эмили, на первых порах сможет довольствоваться скромным достатком. Сейчас мысли молодого человека полностью сосредоточились на знакомстве с ее семьей, о которой ему ничего не было известно; он даже не знал, что возлюбленная поспешно покинула Ла-Валле, оставив его в полной неизвестности.
Между тем путешественницы продолжали путь в Тулузу. Эмили пыталась казаться веселой, однако снова и снова погружалась в грустное молчание. Мадам Шерон относила ее меланхолию исключительно на счет расставания с поклонником, а горе от потери отца считала наигранным и даже позволяла себе насмехаться над тем, что столь глубокое переживание продолжается после общепринятого срока траура.
Наконец прибытие в Тулузу прервало поток ее упреков. Эмили не была здесь много лет и плохо помнила дом тетушки, а потому немало удивилась показной роскоши убранства, – тем более что она резко контрастировала со скромной элегантностью родного гнезда. Вслед за мадам Шерон она прошла по просторному холлу, где хозяйку встретили лакеи в богатых ливреях, и оказалась в гостиной, обставленной скорее роскошно, чем со вкусом. Пожаловавшись на усталость, тетушка приказала немедленно подать ужин и заявила, расположившись на просторной оттоманке:
– Как я рада вернуться домой и увидеть вокруг собственных слуг! Ненавижу путешествия, хотя и надо бы их любить, ведь чем дольше отсутствие, тем приятнее возвращение. Почему ты молчишь, дитя? Что беспокоит тебя сейчас?
Эмили думала о родном доме и болезненно воспринимала высокомерие и тщеславие тетушки, но сдержала слезы и скрыла сердечную боль за улыбкой.
«Неужели это родная сестра отца?» – подумала она в недоумении, но тут же постаралась смягчить неприятное впечатление и по возможности умилостивить тетушку. Старания не прошли даром: Эмили внимательно выслушала рассказ мадам Шерон о ее великолепном замке, о многочисленных гостях и веселых праздниках; также тетушка поведала о том, чего ожидает от племянницы, чья скромность ею воспринималась как гордость и невежество – качества, достойные порицания. Тетушка не понимала людей, которые боятся довериться собственным силам и, обладая здравым умом, верят, что любой другой человек судит еще более критично, поэтому боятся осуждения и ищут убежища во мраке молчания. Эмили часто краснела, когда видела в обществе восхищение наглыми манерами и слышала аплодисменты в адрес блестящего ничтожества: это вовсе не поощряло ее к подражанию, а, напротив, склоняло к сдержанности и осторожности.
Мадам Шерон воспринимала скромность племянницы едва ли не с презрением и пыталась сломать ее многочисленными упреками.
Ужин прервал как самодовольные рассуждения хозяйки, так и болезненные впечатления гостьи. Трапеза состояла из множества блюд и сопровождалась большим количеством слуг. Затем мадам Шерон удалилась в свои покои, а одна из горничных проводила Эмили в отведенную ей комнату. Поднявшись по парадной лестнице и пройдя по нескольким галереям, они оказались на черной лестнице, ведущей в короткий коридор в дальней части замка. Здесь служанка открыла одну из дверей и показала мадемуазель ее спальню. Наконец-то оставшись в одиночестве, Эмили вновь дала волю слезам.
Те, кто по собственному опыту знает, как привязывается сердце даже к неодушевленным предметам, как неохотно с ними расстается, как радостно, словно добрых друзей, встречает их после разлуки, поймут печальное одиночество Эмили, вырванной из родного дома и брошенной в обстановку, чуждую не только своей новизной. Единственным родным существом и другом оказался верный Маншон: пес устроился рядом и принялся лизать ей руку.
– Ах, милый Маншон! – сквозь слезы воскликнула Эмили. – Только ты один меня любишь!
Через некоторое время мысли ее обратились к отцовским напутствиям. Вспомнилось, как часто он осуждал то, что называл бесполезным горем, как часто подчеркивал необходимость выдержки и терпения, убеждая, что сила духа укрепляется стараниями побороть горе до тех пор, пока окончательно не победит скорбь. Эти воспоминания осушили ее слезы, постепенно успокоили и внушили твердое намерение следовать мудрым советам отца.
Глава 12
Коллинз У.
- Дух нам дает копье и щит,
- Чтобы изгнать безумство
- И отвергнуть страсти!
Замок мадам Шерон стоял неподалеку от Тулузы, в окружении большого сада, куда, проснувшись рано утром, Эмили еще до завтрака отправилась на прогулку. С расположенной на возвышенности террасы открывался вид на просторы Лангедока. Далеко на юге в дымке возвышались дикие скалы Пиренеев, и воображение сразу нарисовало расположенные у подножия зеленые пастбища Гаскони. Сердце было обращено в сторону родного дома: туда, где остался Валанкур, где когда-то жил отец; Эмили представляла знакомые картины во всей их романтической красоте и мысленно рисовала пейзажи, которые оставались вне поля зрения, если не считать цепи горных вершин. Не замечая ничего вокруг, не ощущая течения времени, Эмили стояла на самом краю террасы и смотрела вдаль, пока служанка не пригласила ее к завтраку. Мысли вернулись к реальности: прямым дорожкам, квадратным клумбам и искусно устроенным фонтанам, совершенно непохожим на небрежную прелесть и естественную красоту парка в Ла-Валле, куда так рвалась душа.
– Где ты бродила так рано? – строго осведомилась мадам Шерон, едва племянница вошла в столовую. – Я не одобряю эти уединенные прогулки.
Эмили ответила, что не нарушила пределов сада, и с удивлением услышала, что подобная вольность запрещена.
– Я не позволяю тебе выходить в ранний час одной, – заявила тетушка. – Мой сад настолько обширен, что молодая особа, способная в Ла-Валле назначать свидания при луне, не заслуживает доверия.
Чрезвычайно удивленная и обиженная недоверием, Эмили едва нашла мужество, чтобы попросить объяснений, однако тетушка категорически отказалась продолжить разговор, хотя суровым видом и отрывистыми замечаниями дала понять, что знает кое-какие предосудительные подробности поведения племянницы. Вопреки абсолютной невиновности, Эмили залилась краской, задрожала и смущенно сникла под грозным взглядом мадам Шерон. Та тоже покраснела, только вовсе не от стыда или гнева, а от осознания собственного торжества. Полагая, что тетушка узнала о ее прощальной прогулке по саду накануне отъезда из Ла-Валле, Эмили попыталась объясниться, но мадам Шерон лишь презрительно улыбнулась, не принимая никаких оправданий, и вскоре закрыла тему, заключив:
– Я никогда не верю словам, а о людях сужу только по их поступкам. Так что посмотрим на твое поведение в будущем.
Эмили была удивлена, но не столько сдержанностью и таинственным молчанием тетушки, сколько выдвинутым обвинением, и пришла к выводу, что ночью по саду ходил Валанкур и мадам Шерон его заметила. Оставив одну болезненную тему, тетушка переключилась на другую, не менее тяжелую, и заговорила о судьбе находившегося в руках месье Моттевиля состояния Сен-Обера. С показной жалостью подчеркивая выпавшие на долю Эмили несчастья, она попыталась не только внушить племяннице чувство благодарной покорности, но и жестоко унизить зависимостью как перед госпожой и хозяйкой, так и перед слугами.
Затем тетушка сообщила, что вечером ждет к обеду большое число гостей, и повторила наставления относительно поведения в обществе, а также напомнила о необходимости неуклонно следовать ее советам. Осмотрев гардероб Эмили, она потребовала, чтобы племянница оделась к обеду мило и со вкусом, после чего снисходительно показала замок, обращая особое внимание на красоту и элегантность залов и покоев. Утомившись, мадам Шерон удалилась в свою уборную, а Эмили вернулась к себе, чтобы распаковать книги и в оставшиеся до обеда часы отвлечься чтением.
Когда пришло время, Эмили спустилась в гостиную, так и не сумев преодолеть робость. Напротив, ей стало еще страшнее от осознания, что тетушка строго наблюдает за каждым ее шагом и каждым поворотом головы. Траурное платье, бледность прекрасного лица, скромность элегантных манер вызвали особый интерес многих гостей, в том числе уже знакомых по вечеру в доме месье Кеснеля синьоров Монтони и Кавиньи, которые беседовали с хозяйкой дома на правах давних знакомых, а та принимала их с особым предпочтением.
Синьор Монтони держался высокомерно, осознавая силу своего характера и талантов, которым окружающие невольно подчинялись. Живость восприятия всего происходящего поразительным образом отражалась на его лице, выражение которого постоянно менялось. Этим вечером на нем не раз можно было прочитать триумф искусного лицемерия над искренними устремлениями. Несмотря на длинное узкое лицо, Монтони считался красивым – очевидно, благодаря внутренней силе и энергии, отражавшейся в его чертах. Эмили ощутила восхищение, но не то, которое ведет к пиетету: ее восхищение граничило с необъяснимым страхом.
Кавиньи держался так же весело и развязно, как в прошлый раз. Постоянно находясь возле мадам Шерон, он тем не менее неоднократно пользовался возможностью побеседовать с Эмили, начав с банальных любезностей и постепенно перейдя к нежным намекам, которые она тут же с неприязнью заметила. Хоть и отвечала Эмили кратко и сдержанно, очарование ее манер поощряло Кавиньи к продолжению беседы. К счастью, вскоре синьора отвлекла одна из разговорчивых молодых дам. Эта обладавшая типично французским кокетством особа считала, что разбирается буквально во всех вопросах, поскольку, никогда не выходя за границы собственного невежества, была уверена, что ей уже нечему учиться. Неизменно привлекая всеобщее внимание, одних она развлекала, у других вызывала неприязнь, но вскоре все о ней легко забывали.
День прошел без заметных событий. Слегка отвлекшись на новые знакомства, Эмили с радостью вернулась к ставшим привычными и необходимыми воспоминаниям.
Две недели миновало в бесконечных приемах и компаниях. Сопровождая мадам Шерон во всех визитах, Эмили иногда испытывала интерес, но чаще скучала. Порой ее поражали таланты и знания, проявленные некоторыми людьми в беседах, но вскоре оказывалось, что эти таланты главным образом не больше, чем притворство, а знания ограничены необходимостью поддерживать созданный образ. Однако больше всего вводила ее в заблуждение видимость всеобщего веселья и добродушия. Сначала Эмили думала, что это настроение происходит от постоянного довольства и благополучия, но наблюдая за наименее искусными из притворщиков, поняла, что царившее в обществе неумеренное, лихорадочное возбуждение основано частично на безразличии к страданиям других, а частично на желании продемонстрировать собственную успешность.
Самые приятные часы Эмили проводила в беседке на террасе, куда уходила всякий раз, когда удавалось избежать наблюдения тетушки. Любуясь далекими горами, мечтая о Валанкуре и любимых пейзажах Гаскони, она играла на лютне знакомые с детства мелодичные песни родной провинции.
Однажды вечером, избежав обязанности сопровождать тетушку на очередной светский прием, Эмили удалилась в беседку с книгой и лютней. После знойного дня свежесть и прохлада особенно радовали, а из выходивших на запад окон открывался великолепный вид заходящего солнца. Последние лучи золотили вершины Пиренеев и придавали скалам розовый оттенок, еще долго сохранявшийся после того, как пейзаж погружался в сумеречную мглу. С сердечной грустью Эмили тронула струны. Задумчивая атмосфера вечернего часа, окружающая красота, Гаронна, несущая свои воды в Ла-Валле, на которую она часто смотрела, думая о доме, – все вокруг располагало к трепетному восторгу. Мысли Эмили обратились к Валанкуру, о котором после приезда в Тулузу она ничего не слышала. Только сейчас, оказавшись вдали и в полной неизвестности, она поняла, насколько глубоко образ шевалье проник в ее сердце. До знакомства с Валанкуром Эмили ни разу не встречала человека, столь близкого ей по уму и вкусам. Хотя мадам Шерон часто и подолгу рассуждала об искусстве лицемерия и о том, что привлекавшие племянницу изящество и оригинальность мысли лишь хитрая уловка, Эмили не сомневалась в их истинности. И все же в душу закралась тень сомнения и тревоги: она поняла, что нет ничего более болезненного, чем неуверенность в достоинствах любимого человека, – неуверенность, которой она не испытала бы, если бы не сомневалась в правоте собственных суждений.
Из задумчивости Эмили вывел стук копыт, и на дороге, проходившей под окнами беседки, показался всадник, поразительно похожий на Валанкура. Опасаясь быть замеченной, Эмили отошла в сторону, но всадник проехал, не поворачивая головы. Вернувшись к окну, Эмили в сумерках различила, что он направляется в сторону Тулузы. Это событие настолько ее взволновало, что она утратила интерес к красотам природы и вернулась в замок.
Мадам Шерон – то ли потерпев поражение от более удачливой соперницы, то ли проиграв в карты, то ли посетив прием более пышный, чем устраивала сама, – приехала из гостей еще более раздраженной, чем обычно, и Эмили обрадовалась, когда ей было позволено уединиться в своей комнате.
Следующим утром мадам Шерон призвала племянницу к себе и с нескрываемым возмущением протянула ей письмо.
– Тебе знаком этот почерк? – осведомилась она сурово и взглянула так, словно стремилась проникнуть в самое сердце.
Эмили ответила, что видит почерк впервые.
– Не пытайся меня обмануть! – воскликнула тетушка. – Немедленно скажи правду. Я настаиваю!
Эмили молча направилась к двери, однако мадам Шерон не позволила ей уйти.
– Значит, ты виновна, – заключила она. – И этот почерк тебе знаком!
– Если прежде вы в этом сомневались, – спокойно ответила Эмили, – то зачем обвиняли меня во лжи?
Мадам Шерон даже не смутилась, зато племянница, спустя миг услышав имя Валанкур, залилась краской, но вовсе не от осознания собственной вины: даже если когда-то она и видела почерк молодого человека, сейчас все равно не узнала.
– Отрицать бесполезно, – продолжала мадам Шерон. – Я вижу, что письмо тебе не чуждо, и уверена, что оно далеко не первое, полученное в моем доме, но без моего ведома.
Потрясенная безрассудством этого обвинения, Эмили сразу забыла, что гордость предписывает молчание, и попыталась оправдаться, однако мадам Шерон не захотела ничего слушать и понимать.
– Не могу поверить, что молодой человек осмелился бы мне написать, если бы ты его не подучила, и сейчас я должна…
– Позвольте напомнить вам, – робко заметила Эмили, – некоторые подробности нашей беседы в Ла-Валле. Тогда я честно сказала, что не запретила месье Валанкуру обращаться к моим родственникам.
– Не смей меня перебивать! – потребовала тетушка. – Я хотела сказать, что… что… я не помню, что хотела сказать. Но почему же ты не запретила ему?
Эмили молчала.
– Почему разрешила написать это письмо? Никому не известный юноша, совершенно чужой в этих краях, какой-то бродяга и авантюрист в поисках состояния! Вот только в последнем он ошибся.
– Его семья была знакома отцу, – скромно возразила Эмили, словно не услышав последнюю фразу.
– О, это вовсе не рекомендация! – ответила тетушка. – Брат так странно относился к людям. Всегда судил о характере по внешности и постоянно ошибался.
– Но только что вы обвинили меня именно таким образом, – возразила Эмили, обидевшись на неуважительное замечание об отце.
– Я позвала тебя, – покраснев, продолжила тетушка, – чтобы сказать, что не потерплю в доме ни писем, ни визитов твоих поклонников. Этот месье Ла Валантен – кажется, его так зовут – позволяет себе просить разрешения засвидетельствовать свое почтение! Что ж, я отправлю ему достойный ответ. А тебе говорю первый и последний раз: если не желаешь подчиниться моим требованиям и моему образу жизни, я откажусь от опеки, сниму с себя ответственность и отправлю тебя в монастырь.
– Дорогая мадам, – оскорбленная грубым подозрением, со слезами возразила Эмили, – чем я заслужила эти жестокие упреки?
Больше она не смогла ничего произнести и так испугалась поступить неправильно, что в этот момент тетушка могла бы добиться от нее обещания навсегда отвергнуть Валанкура. Ослабленная страхом, Эмили уже не могла воспринимать молодого человека так же, как прежде. Она боялась собственных неверных суждений, а не злобной предвзятости мадам Шерон, и даже опасалась, что во время встречи с Валанкуром в Ла-Валле держалась без должной скромности. Эмили знала, что не заслуживает столь грубых нападок, но ее душевное спокойствие нарушали тысячи неведомых тетушке сомнений. Стремясь избежать любых ошибок и подчиниться любым требованиям, Эмили выразила готовность к послушанию. Правда, мадам Шерон не поверила в искренность обещания: сочла его следствием страха или притворства, – и потребовала:
– Дай слово, что без моего разрешения не станешь ни встречаться с этим юношей, ни писать ему.
– Дорогая тетушка, неужели вы полагаете, что я сделаю нечто подобное без вашего ведома?
– Я не знаю, что полагать. Поведение молодых дам непредсказуемо. Им невозможно доверять, так как они редко проявляют достаточную осмотрительность, чтобы стремиться к уважению общества.
– Тетушка, моя главная цель – заслужить собственное уважение. Отец учил меня ценить его, потому что был уверен: если я смогу уважать себя, то уважение общества не заставит себя ждать.
– Мой брат был хорошим человеком, – заметила мадам Шерон, – только вот жизнь знал плохо. Лично я всегда испытывала уважение к себе, и все же…
Она не договорила, хотя могла бы добавить, что общество далеко не всегда проявляло к ней должное уважение.
– Итак! – сменила она тему. – Ты до сих пор не дала обещания, которого я жду.
Эмили с готовностью покорилась и, получив позволение уйти, отправилась в сад. Прогулявшись по дорожкам и немного успокоившись, она пришла в любимую беседку и села возле одного из окон, выходивших на балкон. Тишина и уединение позволили собраться с мыслями и оценить, правильно ли она поступала в прошлом. Она постаралась вспомнить подробности разговора с Валанкуром и, не обнаружив ничего способного встревожить ее уязвимую гордость, утвердилась в самоуважении, столь необходимом для ее душевного мира. Душа наконец-то обрела покой: Валанкур предстал таким же умным, добрым и обходительным, как прежде, в то время как мадам Шерон не проявила ни одного из этих качеств. В то же время воспоминание о возлюбленном вызвало множество болезненных переживаний: Эмили не могла примириться с мыслью о разлуке с ним. Мадам Шерон открыто заявила о том, что не допустит никакого общения, и все же, вопреки всем трудностям и препятствиям, восторг и надежда не покинули ее душу. Эмили решила, что никакие соображения впредь не ввергнут ее в искушение тайной переписки, а если ей доведется встретиться с Валанкуром снова, вступит с ним в скромную, сдержанную беседу. Повторив слова «если доведется встретиться снова», она вздрогнула так, как будто никогда прежде не рассматривала такую возможность. Глаза тут же наполнились слезами, но она быстро осушила их, так как совсем рядом послышались чьи-то шаги, а в следующую минуту дверь беседки открылась, и, обернувшись, Эмили увидела Валанкура.
Радость, изумление и дурное предчувствие нахлынули на нее мгновенно и едва не лишили чувств. Румянец сменился бледностью, но тут же вернулся, еще ярче прежнего. Пару мгновений Эмили не могла ни говорить, ни даже подняться со стула. Радость на лице Валанкура мгновенно пропала, стоило ему подойти ближе и увидеть ее испуг. Взволнованным голосом он осведомился о ее здоровье. Когда первый шок от удивления прошел, Эмили ответила со сдержанной улыбкой, хотя буря чувств все еще бушевала в ее сердце: радость от встречи с Валанкуром боролась с ужасом перед недовольством тетушки – неизбежным, если та узнает о встрече. После короткого смущенного разговора Эмили вывела возлюбленного в сад и спросила, видел ли он мадам Шерон.
– Нет, – ответил Валанкур, – еще не видел: мне сказали, что она занята. Узнав, что вы в саду, я сразу отправился сюда. – Он на миг умолк, а потом, справившись с волнением, добавил: – Могу ли я отважиться сообщить вам о цели своего визита, не вызвав вашего неудовольствия?
Эмили не знала, что ответить, но вскоре растерянность ее сменилась страхом: подняв глаза, она увидела мадам Шерон, которая шла по аллее. Постепенно осознание собственной невиновности одержало верх и даже позволило казаться спокойной. Вместо того чтобы свернуть на боковую тропинку, Эмили отважно пошла навстречу грозной силе. Мадам Шерон окинула молодых людей подозрительным взглядом, полным высокомерия и раздражения, явно считая встречу шевалье с племянницей неслучайной. Представив Валанкура, Эмили разволновалась настолько, что не смогла остаться и ушла в замок, где со страхом ожидала окончания беседы. Она не знала, как объяснить появление Валанкура раньше, чем он получил ответ на свое письмо с просьбой о визите, поскольку не имела понятия об одном пустяковом обстоятельстве, сделавшем это обращение бесполезным даже в случае положительного ответа. В нетерпеливом порыве Валанкур забыл указать в письме свой адрес, что сделало ответ мадам Шерон невозможным, а когда вспомнил об этой оплошности, то не столько расстроился, сколько обрадовался возможности явиться прежде, чем получит отказ.
Мадам Шерон долго беседовала с шевалье, а в замок вернулась хмурой и недовольной, хотя и не до такой степени, как ожидала Эмили.
– Наконец-то я избавилась от этого молодого человека, – заявила тетушка. – Надеюсь, он больше никогда не посетит мой дом с подобными визитами. Он уверял, что ваша встреча не была назначена заранее.
– Дорогая мадам, надеюсь, вы не задали ему этот вопрос? – в чрезвычайном возбуждении воскликнула Эмили.
– Разумеется, задала. Неужели ты считаешь меня настолько неразумной, чтобы не выяснить столь значительную подробность?
– Боже милостивый! – вздохнула Эмили. – Что же он обо мне подумает, если вы высказали подозрение в моем предосудительном поведении!
– Совершенно неважно, что он подумает, так как я положила конец вашему роману, – высокомерно заявила тетушка. – Наверняка мое благоразумное поведение и деликатность произвели на него должное впечатление. Я дала ему понять, что шутить не намерена, а также обладаю достаточными возможностями, чтобы не допустить в своем доме тайных встреч и переписки.
Эмили часто слышала в устах тетушки слово «деликатность», но всегда недоумевала, – а сейчас больше обычного – о какой деликатности может идти речь, если мадам вела себя совершенно беспардонно.
– Брат крайне неосмотрительно поручил мне опеку над тобой, – продолжала мадам Шерон. – Я намерена устроить твое будущее, но если еще хоть раз увижу этого настойчивого месье Валанкура, то немедленно отправлю тебя в монастырь. Так что не забывай о последствиях. Этот юноша настолько дерзок, что сообщил мне – да-да, не постеснялся! – что обладает весьма незначительным состоянием, а потому полностью зависит от старшего брата и выбранной профессии. Если он желал произвести благоприятное впечатление, то мог хотя бы скрыть свою нищету. Неужели он считает возможным, что я выдам племянницу замуж за такого, как он?
Эмили вытерла слезы. Конечно, честное признание Валанкура омрачило ее надежды, но зато искренность доставила радость, заглушившую все остальные чувства. В свои юные годы Эмили уже поняла, что здравый смысл и благородная прямота не всегда побеждают в борьбе с безрассудством и мелочной хитростью, поэтому даже в этот сложный момент ее чистое сердце позволило с гордостью принять поражение добродетели.
Тем временем мадам Шерон старалась закрепить триумф:
– Он также имел наглость заявить, что не примет отказа ни от кого, кроме тебя самой. Впрочем, в этом отношении я не оставила сомнений: пусть знает, что вполне достаточно моего мнения. И хочу еще раз повторить: если ты попытаешься каким-то образом встретиться с ним без моего ведома и позволения, то немедленно покинешь мой дом.
– Как плохо вы меня знаете, тетушка, если считаете необходимым напоминать об этом! – воскликнула Эмили, с трудом сдерживаясь.
Мадам Шерон отправилась к себе, чтобы переодеться к вечернему выезду. Эмили с радостью осталась бы дома, но побоялась просить об этом, чтобы не навлечь подозрения в неблаговидном мотиве. Поднявшись в свою комнату, она сразу утратила те немногие силы, которые поддерживали ее в противостоянии с тетушкой. Сейчас казалось важным лишь одно: Валанкуру, чье достоинство проявлялось так ярко и убедительно, навсегда запрещено не только появляться в замке, но и присылать письма. Все отведенное для туалета время Эмили горько проплакала, но потом быстро оделась и спустилась в гостиную. Жаль только, что покрасневшие глаза выдали ее и навлекли новые упреки мадам Шерон.
Усилия казаться веселой оправдались в доме мадам Клэрваль – пожилой вдовы, недавно поселившейся в Тулузе в поместье покойного мужа. Много лет она прожила в Париже, где, обладая беспечным нравом, вращалась в блестящем обществе, а переехав в Тулузу, сразу прославилась самыми пышными приемами в округе.
Великолепие соперницы вызвало у мадам Шерон не только зависть, но и мелочное тщеславие: не в силах сравниться с ней в богатстве, она стремилась попасть в круг ее близких друзей. Ради этого тетушка оказывала мадам Клэрваль чрезмерное внимание, с подчеркнутой готовностью принимала все ее приглашения и всячески создавала впечатление тесной дружбы.
В развлечения сегодняшнего вечера входили ужин и бал-маскарад. Гости танцевали в большом саду, элегантно освещавшемся многочисленными фонарями. Вычурные наряды дам (многие из гостей сидели на траве, беседовали, наблюдали за котильонами, угощались закусками и время от времени небрежно перебирая струны гитар); галантные манеры джентльменов; изящные танцы; расположившиеся вокруг старинного вяза музыканты с лютней, гобоем и тамбурином; лесной пейзаж вокруг – все это создавало неповторимую, характерную атмосферу французского праздника. Эмили наблюдала за весельем с меланхолическим удовольствием. Каково же было ее изумление, когда в одной из групп гостей она неожиданно увидела Валанкура, танцевавшего с молодой красивой особой. Эмили поспешила отвернуться и попыталась увлечь тетушку в сторону, однако та любезничала с синьором Кавиньи и не желала отвлекаться. Внезапно ослабев, Эмили опустилась на траву под деревом, где уже сидели несколько человек. Один из них заметил ее необычную бледность, спросил, не больна ли она, и предложил принести стакан воды. Поблагодарив, Эмили отказалась. Опасение, что Валанкур догадается о ее чувствах, заставило взять себя в руки, и вскоре она уже выглядела вполне спокойной. Мадам Шерон по-прежнему беседовала с синьором Кавиньи, в то время как граф Бовилер обратился к Эмили с каким-то замечанием относительно окружающего пейзажа. Она что-то буркнула в ответ, так как все мысли ее были об оказавшемся в опасной близости Валанкуре. И все же какое-то замечание графа относительно танца вынудило ее посмотреть в сторону той пары, и в этот же миг ее взгляд натолкнулся на взгляд шевалье. Эмили так побледнела, что едва не упала в обморок, но успела заметить, как изменилось выражение лица молодого человека. Хотелось немедленно уйти, и лишь осознание, что столь импульсивное поведение выдаст ее глубокий интерес, остановило. Эмили постаралась вникнуть в слова графа Бовилера и постепенно успокоилась. Спустя некоторое время граф заговорил о даме Валанкура, и если бы не смотрел на танцующих, непременно заметил бы особый интерес своей собеседницы.
– Особа, что танцует с этим молодым кавалером, считается одной из первых красавиц Тулузы. При этом она еще и очень богата. Надеюсь, для жизни она выберет партнера получше, чем выбрала для танца. Бедняга только и делает, что ошибается и путает фигуры. Странно, что с такой внешностью и статью он до сих пор не научился танцевать.
Эмили, с трепетом ловившая каждое слово, попыталась сменить тему и спросила, как зовут незнакомку; но, прежде чем граф успел ответить, музыка смолкла. Заметив, что Валанкур направляется к ней, Эмили подошла к тетушке и шепотом попросила:
– Пожалуйста, давайте уйдем: здесь шевалье Валанкур.
Тетушка сразу повернулась, чтобы перейти в другое место, однако молодой человек успел приблизиться, почтительно поклонился мадам Шерон и с особым вниманием приветствовал Эмили, которая, вопреки попыткам казаться равнодушной, выглядела излишне сдержанной. Присутствие тетушки не позволило шевалье остаться, так что с подчеркнуто печальным видом он пошел дальше. Из задумчивости Эмили вывел все тот же граф Бовилер:
– Прошу прощения, мадемуазель, за непреднамеренную бестактность. Столь свободно критикуя неопытность шевалье в танцах, я не предполагал, что вы с ним знакомы.
Эмили покраснела и улыбнулась, а мадам Шерон избавила ее от необходимости ответа, заметив:
– Если вы имеете в виду того молодого человека, который только что прошел мимо, то ни я, ни мадемуазель Сен-Обер с ним не знакомы.
– О, так это же шевалье Валанкур, – небрежно вставил Кавиньи.
– Вы его знаете? – уточнила мадам Шерон.
– Знаю, но лично не знаком, – ответил синьор.
– А значит, не сможете угадать, почему я называю его дерзким: он осмелился восхищаться моей племянницей!
– Если каждый, кто восхищен красотой и обаянием мадемуазель Сен-Обер, заслуживает обвинения в дерзости, то боюсь, что здесь слишком много дерзких джентльменов, причем охотно признаюсь, что тоже отношусь к их числу.
– Ах, синьор! – с жеманной улыбкой воскликнула мадам Шерон. – Во Франции вы научились искусству изящных комплиментов, но льстить детям жестоко, ведь они принимают ложь за правду.
Кавиньи на миг отвернулся, а затем с серьезным видом произнес:
– Кому же в таком случае говорить комплименты, мадам? Было бы абсурдно льстить проницательной даме, поскольку она выше всяких похвал.
Закончив сентенцию, он лукаво взглянул на Эмили и улыбнулся одними глазами. Она прекрасно поняла смысл сказанного и ощутила неудобство за тетушку, но мадам Шерон невозмутимо ответила:
– Вы абсолютно правы, синьор: ни одна благоразумная дама не в состоянии выдержать комплимент.
– Я слышал, как синьор Монтони однажды признался, что знает лишь одну достойную всяческих похвал особу.
– Право! – воскликнула мадам Шерон с довольным смехом. – И кто же это?
– О, здесь ошибиться невозможно, ибо в мире есть только одна дама, которая настолько умна, что отвергает комплименты. Большинство леди не выдерживают проверки.
Он снова взглянул на Эмили, и та, покраснев еще гуще, недовольно отвернулась.
– Право, синьор! – воскликнула мадам Шерон. – Вы истинный француз: никогда не слышала, чтобы иностранец был настолько галантен!
– Действительно, мадам, – с поклоном вставил молчавший до этого граф Бовилер, – но галантность комплимента пропала бы, если бы не утонченная элегантность, с которой он был воспринят.
Мадам Шерон не уловила иронии в замечании, а потому не почувствовала обиды, которую за нее испытала племянница.
– Ах, а вот и сам синьор Монтони, – объявила тетушка. – Я немедленно передам ему все приятные слова, которые услышала от вас.
К ее неудовольствию, в этот момент синьор свернул на другую аллею, и мадам Шерон разочарованно проговорила:
– Кто-то уже завладел вниманием вашего друга. Сегодня мне еще ни разу не удалось с ним увидеться.
– Его задержал очень важный разговор с маркизом Ла Ривьером, – успокоил ее Кавиньи. – Иначе он уже давно засвидетельствовал бы вам свое почтение. Он просил меня передать вам извинения, да я забыл. Даже не знаю, как это получилось. Должно быть, диалог с вами настолько увлекает, что лишает памяти.
– Из уст самого синьора извинения прозвучали бы более убедительно, – возразила мадам Шерон, больше обиженная пренебрежением Монтони, чем удовлетворенная лестью Кавиньи.
Ее поведение и очевидная попытка собеседника загладить неловкость пробудили подозрения Эмили, прежде казавшиеся абсурдными. Ей представлялось, что Монтони всерьез ухаживает за тетушкой, а та не только принимает внимание, но и ревниво замечает любой его промах. Желание мадам Шерон, в ее возрасте, снова выйти замуж выглядело нелепым, хотя, принимая во внимание ее тщеславие, не так уж и невозможным. Но вот то, что Монтони со свойственной ему проницательностью, внешностью и претензиями мог выбрать мадам Шерон, представлялось поистине удивительным. Впрочем, Эмили думала об этом недолго. Мысли попеременно обращались к более насущным темам: Валанкуру, отвергнутому тетушкой, и Валанкуру, танцевавшему с молодой красивой особой. Гуляя по саду, она робко смотрела по сторонам, то ли опасаясь, то ли надеясь, что он мелькнет в веселой толпе, а не встретив его, испытала разочарование, свидетельствовавшее, что надежда ее оказалась сильнее страха.
Вскоре Монтони присоединился к компании и произнес короткую оправдательную речь. Выслушав его извинения с видом кокетливой девушки, мадам Шерон продолжила беседу, обращаясь исключительно к Кавиньи, а тот хитро поглядывал на друга, словно хотел сказать: «Я не стану злоупотреблять триумфом и постараюсь скромно принять оказанные мне почести, однако, синьор, не зевайте, не то я воспользуюсь возможностью и убегу с вашим призом».
Ужин ожидал гостей как в многочисленных павильонах в саду, так и в просторной столовой замка, причем отличался скорее изяществом сервировки, чем великолепием или даже изобилием. Мадам Шерон ужинала в столовой вместе с хозяйкой праздника. Эмили с трудом скрывала смущение, увидев Валанкура за своим столом. Взглянув на него с нескрываемым недовольством, тетушка обратилась к соседу с вопросом:
– Вы не знаете, кто этот молодой человек?
Ответ не заставил себя ждать:
– Это шевалье Валанкур.
– Да, имя мне известно. Но на каком основании шевалье Валанкур занимает место за этим столом?
Ответить собеседник не успел: его отвлекли.
Стол, за которым они оказались, был очень длинным. Валанкур со своей дамой сидел в самом конце, в то время как Эмили пригласили занять почетное место неподалеку от хозяйки. Расстояние оказалось настолько значительным, что он не сразу ее заметил. Эмили старалась как можно реже смотреть в противоположный конец, но когда бы ни обратила туда взгляд, неизменно видела его увлеченно беседующим с прекрасной спутницей. Это наблюдение нарушало ее душевный покой не меньше, чем замечания о богатстве и достоинствах молодой особы.
Мадам Шерон, которой, собственно, и предназначались эти замечания, не оставляла попыток всячески унизить Валанкура, к которому испытывала мелочное презрение.
– Я восхищена красотой мадемуазель, – заявила она, – но не могу принять столь экстравагантный выбор кавалера.
– О, шевалье Валанкур – один из самых утонченных молодых людей нашего общества, – возразила ее собеседница. – Поговаривают, что мадемуазель де Эмери достанется ему вместе с огромным состоянием.
– Невероятно! – возмущенно воскликнула мадам Шерон. – Неужели молодая особа обладает столь дурным вкусом? Месье Валанкур так мало похож на благородного джентльмена, что, если бы я не увидела его за столом мадам Клэрваль, ни за что не заподозрила бы в достойном происхождении. К тому же у меня есть особые причины считать эти слухи ложными.
– А я не сомневаюсь в их справедливости, – строго возразила собеседница, недовольная резким неприятием ее мнения относительно заслуг Валанкура.
– Возможно, вы окончательно перестанете сомневаться, – продолжила мадам Шерон, – когда услышите, что лишь сегодня утром я отвергла его ухаживания.
Последняя реплика вовсе не имела намерения придать ее словам буквальный смысл: просто мадам Шерон привычно считала себя ключевой фигурой любого действия в отношении племянницы, тем более что действительно именно она отвергла обращение молодого человека.
– Ваш довод, разумеется, не вызывает сомнений, – с иронической улыбкой отозвалась собеседница.
– Так же как и вкус шевалье Валанкура, – добавил синьор Кавиньи, все это время стоявший возле мадам Шерон и слышавший, как она приписала себе внимание, обращенное к племяннице.
– Вкус шевалье Валанкура еще нуждается в проверке, синьор, – заметила мадам Шерон, которая услышала в словах Кавиньи восхваление Эмили.
– Увы! – с наигранным восторгом воскликнул синьор Кавиньи. – Как тщетно это утверждение, когда и лицо, и фигура, и манеры – все в его облике говорит об обратном! Несчастный Валанкур! Для него его тонкий вкус оказался губительным!
Эмили выглядела смущенной и удивленной; соседка мадам Шерон за столом казалась изумленной, а сама мадам Шерон, так и не поняв смысла речи синьора Кавиньи, сочла ее за комплимент в свой адрес и с улыбкой проговорила:
– Ах, синьор, вы так галантны. Но всякий, кто услышит, как вы защищаете выбор шевалье Валанкура, может предположить, что объектом его ухаживаний стала я.
– Несомненно, – с низким поклоном подтвердил Кавиньи.
– Но не станет ли это чересчур унизительным, синьор?
– Непременно станет.
– Эта мысль невыносима, – вздохнула мадам Шерон.
– Поистине невыносима, – согласился Кавиньи.
– Но что же сделать, чтобы предотвратить такую унизительную ошибку? – не унималась мадам.
– Увы, я ничем не могу вам помочь, – с задумчивым видом ответил Кавиньи. – Единственная возможность отвести от себя клевету – это настаивать на первом своем утверждении. Если люди узнают о недостаточном вкусе шевалье, то никто не подумает, что он осмеливался огорчать вас своим поклонением. Правда, тогда все заметят ваше скромное отношение к собственным достоинствам, и, несмотря на ваше осуждение, вкус Валанкура ни у кого не вызовет сомнений. Иными словами, все вокруг решат, что шевалье обладает достаточным вкусом, чтобы восхищаться красивой женщиной.
– Все это крайне неприятно! – вздохнула мадам Шерон.
– Можно уточнить, что именно вас так расстраивает? – спросила мадам Клэрваль, глубоко пораженная печальным выражением лица и унылым голосом своей гостьи.
– Это деликатная и очень унизительная для меня тема, – ответила мадам Шерон.
– С сожалением это слышу, – заметила хозяйка. – Надеюсь, сегодня вечером в моем доме не случилось ничего такого, что особенно вас огорчило?
– Увы, случилось, причем в последние полчаса. Гордость моя глубоко оскорблена, но уверяю вас: этот слух абсолютно лишен оснований.
– Боже милостивый! – воскликнула мадам Клэрваль. – Но что же делать? Есть ли способ помочь или утешить вас?
– Единственный способ – как можно чаще опровергать этот слух.
– Но умоляю, подскажите, что именно необходимо опровергать.
– Это звучит настолько унизительно, что даже не знаю, как выразить словами, – продолжила мадам Шерон. – Но вы сумеете принять достойное решение. Видите молодого человека в дальнем конце стола, который беседует с мадемуазель де Эмери?
– Да.
– А замечаете, как мало он похож на человека высокого положения? Минуту назад я заявила, что если бы не увидела его за этим столом, то не сочла бы аристократом.
– Но объясните причину вашего огорчения, – повторила мадам Клэрваль.
– Ах, причина моего огорчения! – воскликнула мадам Шерон. – Этот никому не известный дерзкий юноша, осмелившийся ухаживать за моей племянницей, дал основания считать себя моим поклонником. Вы только подумайте, насколько унизительно подобное подозрение! Я знаю, что вы меня поймете. Женщина моего положения! Насколько оскорбителен для меня даже слух о подобном союзе!
– Действительно оскорбителен, моя бедная подруга, – согласилась мадам Клэрваль. – Но можете поверить: я готова опровергать этот слух при каждой возможности. – С этими словами хозяйка отвернулась посмотреть, как чувствуют себя другие гости.
Кавиньи, вплоть до этой минуты наблюдавший за этой сценой, не смог сдержать душившего его смеха и поспешил уйти.
– Полагаю, вы не знаете, что джентльмен, о котором вы только что говорили, доводится мадам Клэрваль племянником, – заметила сидевшая рядом с мадам Шерон дама.
– Не может быть! – изумленно воскликнула та и, поняв, что полностью ошибалась в своем мнении о Валанкуре, принялась хвалить его столь же неумеренно и подобострастно, как только что ругала.
Во время беседы Эмили сидела, погрузившись в собственные мысли, и не следила за крутыми поворотами сюжета, а потому особенно удивилась, услышав, как истово тетушка превозносит Валанкура, так как не знала о его родстве с мадам Клэрваль. И, конечно, она не огорчилась, когда пытавшаяся казаться спокойной, но в действительности крайне смущенная мадам Шерон сразу после ужина собралась домой.
Монтони проводил ее к экипажу, а Кавиньи с лукавой торжественностью последовал об руку с племянницей. Пожелав кавалерам доброй ночи и подняв стекло, Эмили заметила в толпе у ворот Валанкура, но тот исчез прежде, чем экипаж тронулся. Мадам Шерон ни словом о нем не упомянула, а едва приехав в замок, удалилась к себе.
Наутро, когда тетушка и племянница сидели за завтраком, Эмили подали письмо, и она приняла его с трепетом, так как сразу узнала почерк. Мадам Шерон поспешно спросила, от кого оно. Сломав печать, Эмили увидела подпись Валанкура и, не читая, передала тетушке. Та нетерпеливо приняла листок и быстро пробежала глазами по строчкам, в то время как Эмили пыталась по выражению ее лица угадать его содержание. Наконец мадам вернула письмо и, заметив в глазах племянницы вопрос, менее сурово, чем та ожидала, произнесла:
– Прочитай, дитя мое.
Наверное, никогда еще Эмили не подчинялась тетушке так охотно.
В письме Валанкур коротко упомянул о событиях вчерашнего дня, а в заключение решительно подчеркнул, что примет отказ только от самой Эмили, и попросил разрешения навестить ее этим вечером. Читая столь смелые строки, мадемуазель Сен-Обер удивлялась сдержанности тетушки, а закончив, печально спросила:
– Что я должна ответить, мадам?
– Полагаю, надо принять молодого человека и выслушать, что он готов сказать о себе. Напиши, что он может прийти.
Эмили едва поверила собственным ушам.
– Нет, подожди, – добавила мадам. – Лучше я сама напишу.
Она потребовала перо и чернила, а Эмили с трудом справилась с наплывом чувств. Изумление ее не было бы таким откровенным, если бы вчера вечером она услышала то, о чем узнала тетушка: Валанкур доводился племянником мадам Клэрваль.
Что именно написала мадам Шерон, Эмили так и не узнала.
Вечером явился Валанкур. Тетушка приняла его, и они долго беседовали наедине, после чего была приглашена Эмили. Войдя в гостиную, она обратила внимание на благодушный вид мадам и воодушевленный – Валанкура. Молодой человек тут же поднялся, окрыленный надеждой.
– Мы обсуждали семейные связи, – пояснила мадам Шерон. – Шевалье сообщил, что покойный месье Клэрваль доводился братом его матушке, графине Дюварне. Сожалею, что прежде он не упомянул о родстве с мадам Клэрваль: это обстоятельство послужило бы достаточной рекомендацией для знакомства.
Валанкур поклонился и хотел обратиться к Эмили, но тетушка его опередила:
– Поэтому я дала согласие на его визиты. И хоть я не связываю себя обещанием считать вас своим родственником, позволяю вам продолжать общение с моей племянницей. А если со временем шевалье в достаточной степени поднимется по службе или обретет благосостояние каким-то иным способом, то сможет рассчитывать и на создание семьи. А вплоть до этого времени я решительно запрещаю и месье Валанкуру, и тебе, Эмили, даже думать о свадьбе.
Во время этой бестактной речи выражение лица Эмили то и дело менялось, а под конец она испытала такое разочарование, что едва не покинула комнату. Не менее смущенный Валанкур не осмеливался даже смотреть в ее сторону, но как только мадам Шерон умолкла, заметил:
– Ваше одобрение, мадам, весьма лестно и почетно, но все же внушает столько опасений, что надежда кажется почти эфемерной.
– Прошу вас, месье, объяснитесь, – попросила мадам Шерон, чем еще больше смутила молодого человека, хотя при других обстоятельствах он бы только посмеялся.
– Пока я не получу согласия мадемуазель Сен-Обер, – проговорил он дрожащим голосом, – пока она не даст мне надежду…
– О, и это все? – перебила его мадам Шерон. – Что ж, я отвечу за нее, но прежде позвольте заметить, что я, как ее опекунша, считаю свою волю ее волей.
С этими словами мадам Шерон удалилась, оставив молодых людей в глубоком смущении. Победив страх, Валанкур заговорил со свойственной ему пылкой искренностью, но прошло немало времени, прежде чем Эмили настолько собралась с мыслями, чтобы осознать смысл его признаний и просьб.
Поведение мадам Шерон в данной ситуации объяснялось исключительно соображениями эгоистичного тщеславия. Во время первой беседы Валанкур честно изложил ей свое истинное положение и не скрыл планов. В результате, руководствуясь скорее осторожностью, чем гуманностью, она решительно и бесповоротно отвергла его. Мадам Шерон желала выдать племянницу за богатого и знатного человека, но вовсе не для того, чтобы видеть ее безмятежно счастливой, а чтобы разделить притягательную значимость этого союза. Однако узнав, что Валанкур доводится племянником столь знатной особе, она тут же изменила мнение, понимая, что перспектива знатности Эмили сулит ей самой желанное возвышение. Расчеты на материальное благополучие брака основывались исключительно на желаниях самой мадам, а вовсе не на намеках молодого человека или какой-то иной возможности. Надеясь на богатство мадам Клэрваль, мадам Шерон совсем забыла, что у той есть дочь. Валанкур, однако, ясно осознавал семейные связи, а потому настолько мало рассчитывал на благосостояние тетушки, что во время первой беседы даже не упомянул об их близком родстве. И все же каким бы ни оказалось будущее состояние Эмили, выгоды нынешнего блестящего положения не вызывали сомнений, ибо богатство и великолепие образа жизни мадам Клэрваль вызывали зависть и подражание всей округи. Поэтому сейчас мадам Шерон настолько же охотно позволила племяннице вступить в отношения с неясным исходом, насколько решительно отвергла первое обращение соискателя. Счастье Эмили вовсе ее не интересовало, и хотя сама она обладала достаточным средствами, чтобы сделать этот брак не только определенным, но и благоразумным, в настоящее время совсем об этом не думала.
Начиная с этого дня Валанкур часто являлся в дом мадам Шерон, а Эмили проводила в его обществе самые счастливые часы, выпавшие на ее долю после смерти отца. Оба они наслаждались настоящим и не задумывались о будущем. Оба любили и чувствовали себя любимыми, не подозревая, что привязанность, составлявшая счастье настоящего, в будущем могла принести страдания. Тем временем общение мадам Шерон с мадам Клэрваль стало более частым, чем прежде, а тщеславие ее торжествовало от возможности повсюду упоминать об отношениях их племянников.
Монтони также приезжал в замок едва ли не каждый день, и Эмили заметила серьезность его намерений по отношению к тетушке. Та же в свою очередь благосклонно принимала ухаживания.
Таким образом, зимние месяцы Валанкур и Эмили провели не только спокойно, но и счастливо. Полк Валанкура стоял неподалеку от Тулузы, так что частым встречам ничто не мешало. Любимым местом их общения стала беседка на террасе. Там тетушка и племянница занимались рукоделием, а Валанкур читал вслух любимые произведения, выслушивал тонкие замечания Эмили, высказывал собственные суждения и не уставал замечать, что они созданы для счастливого союза: общие вкусы, общие благородные и возвышенные чувства, общие интересы.
Глава 13
Томсон Дж. Замок праздности
- Так на Гебридских островах пастух
- Среди пустынных ветреных холмов
- (То ли фантазии тревожат слух,
- То ли воздушные создания порой
- Снисходят к чувствам одиноких пастухов)
- В долине дикой созерцает хоровод,
- И вдруг теряется виденье хладных вод.
В конце концов, скупость мадам Шерон уступила место тщеславию. Пышные празднества мадам Клэрваль и всеобщая лесть побудили тетушку одобрить союз, способный возвысить ее как в собственном мнении, так и во мнении света. Она предложила не затягивать со свадьбой и даже расщедрилась на приданое для Эмили – правда, при условии, что мадам Клэрваль обеспечит приданым племянника. Потенциальная родственница выслушала предложение и, учитывая, что Эмили является единственной наследницей тетушки, согласилась. Племянница оставалась в неведении до тех пор, пока тетушка не распорядилась начать подготовку к назначенной на ближайшее время свадьбе. Изумленная таким неожиданным решением, о котором Валанкур не просил (ибо понятия не имел о сговоре старших дам и не смел мечтать о подобном счастье), Эмили решительно отказалась. По-прежнему нетерпимая к возражениям мадам Шерон принялась так же энергично настаивать на свадьбе, как еще недавно противилась всему, что даже отдаленно могло навести на мысль о бракосочетании. Сомнения Эмили окончательно развеялись после того, как Валанкур узнал о предстоящем счастье и явился, чтобы лично убедиться в согласии невесты.
Во время подготовки к свадебным торжествам Монтони занял положение признанного поклонника мадам Шерон. Предстоящий альянс вызвал острое раздражение мадам Клэрваль и даже желание отменить свадьбу Валанкура и Эмили, но совесть подсказала, что нельзя играть с чувствами молодых людей. Надо заметить, что мадам Клэрваль хоть и была особой светской, в отличие от подруги руководствовалась не соображениями популярности, а голосом здравого смысла.
Эмили с тревогой наблюдала за укреплением власти Монтони над тетушкой, так же как и за стремительно возраставшей частотой его визитов. Ее личное отношение к итальянцу подкреплялось мнением Валанкура, который не скрывал своего неодобрения. Одним прекрасным весенним утром, сидя в беседке за рукоделием и слушая чтение друга (впрочем, тот часто отвлекался от книги для беседы), она получила приказание немедленно явиться к мадам. Войдя в уборную, мадемуазель Сен-Обер сразу заметила подавленное настроение тетушки, никак не соответствующее ее праздничному наряду.
– Итак, племянница! – заявила мадам Шерон, и Эмили в растерянности остановилась. – Я послала за тобой, потому что хотела сообщить важную новость: с этой минуты считай синьора Монтони своим дядюшкой – утром мы обвенчались.
Изумленная не столько самой свадьбой, сколько секретностью события и волнением, с которым о нем было сообщено, Эмили, в конце концов, решила, что таково было желание Монтони, а не тетушки, но та, видимо, хотела создать иное впечатление, а потому добавила:
– Видишь ли, я хотела избежать шума, но теперь, когда церемония состоялась, скрывать нечего. Я собираюсь объявить слугам, что отныне синьор Монтони – их господин.
Эмили сделала слабую попытку поздравить тетушку с очевидно неразумным браком.
– Я собираюсь пышно отпраздновать столь знаменательное событие, – продолжила мадам Монтони. – А чтобы сэкономить время, воспользуюсь подготовкой к твоей свадьбе, которую теперь придется отложить. Чтобы подчеркнуть торжественность момента, ты наденешь свой венчальный наряд. Хочу также, чтобы ты оповестила месье Валанкура о том, что я сменила имя; а он пусть сообщит мадам Клэрваль. Через несколько дней я устрою пышный праздник, на который намерена пригласить обоих.
Изумленная и растерянная, Эмили не нашлась с ответом и вернулась к Валанкуру, чтобы сообщить важную новость. Услышав о поспешной свадьбе, шевалье не столько удивился, сколько расстроился и рассердился: особенно когда узнал, что в результате его собственная свадьба откладывается на неопределенное время, а уже готовые украшения замка теперь пригодятся по другому случаю. Он не стал скрывать свои мысли и чувства, а все попытки Эмили отвлечь возлюбленного и обратить его опасения в шутку оказались напрасными. В этот вечер Валанкур простился с особенной, подчеркнутой нежностью, а когда исчез в конце террасы, сама не зная почему, Эмили даже всплакнула.
С легкостью человека, давно готового властвовать и командовать, Монтони вступил во владение замком и управление всеми его обитателями. Его друг Кавиньи, так удачно осыпавший мадам Шерон комплиментами и двусмысленной лестью, но часто вызывавший недовольство Монтони, теперь получил в замке собственные апартаменты и право командовать слугами наряду с хозяином.
Через несколько дней мадам Монтони устроила обещанный праздник, на котором присутствовал Валанкур, но без мадам Клэрваль: высокомерная особа передала поздравления, но приехать отказалась. Валанкур, разумеется, не отходил от Эмили. Глядя на пышные украшения, он не мог не помнить, что они предназначались для другого торжества, но успокаивал себя надеждой, что вскоре будут использованы по прямому назначению. Весь вечер мадам Монтони без устали танцевала, смеялась и болтала, в то время как сам Монтони – молчаливый, сдержанный, высокомерный – выглядел уставшим и от торжества, и от легкомысленного общества.
Это было первое и последнее празднование их свадьбы. Несмотря на то что суровость нрава и мрачная гордость не позволяли Монтони получать удовольствие от подобных развлечений, он очень хотел продолжить череду торжеств. Дело в том, что лишь изредка в компании появлялся человек, который был способен соперничать с ним в ловкости обращения и тем более в глубине суждений, поэтому перевес всегда оставался за Монтони и он неизменно радовался возможности помериться силами и талантами лицемерия с любым другим претендентом на славу. Однако супруга его, обладавшая не только тщеславием, но и здравым смыслом, понимала, что уступает другим дамам в красоте и привлекательности, а потому, руководствуясь естественной ревностью, не считала нужным испытывать судьбу и упорно сопротивлялась его стремлению к обществу – тем более что видела успех синьора Монтони у светских дам Тулузы.
Всего через несколько недель после свадьбы мадам Монтони сообщила племяннице, что синьор намерен вернуться в Италию сразу, как только закончатся приготовления к дальнему путешествию, и уточнила:
– Мы поедем в Венецию, где синьор владеет прекрасным дворцом, а оттуда в поместье в Тоскане. Но почему ты так печальна, дитя мое? С твоей любовью к романтическим пейзажам дорога, несомненно, доставит тебе удовольствие.
– Значит, мне тоже предстоит ехать, мадам? – с крайним изумлением спросила Эмили.
– Непременно, – ответила тетушка. – Неужели считаешь, что мы готовы оставить тебя здесь? Но я вижу, что ты думаешь о шевалье. Полагаю, он еще не знает о предстоящем путешествии, но скоро узнает. Синьор Монтони отправился с визитом к мадам Клэрваль, чтобы сообщить о наших планах и о том, что предполагаемое объединение наших семей отменяется.
Жестокий тон, с которым мадам Монтони оповестила племянницу о неизбежной разлуке с Валанкуром, лишь обострил боль разочарования. С трудом обретя дар речи, Эмили спросила, что стало причиной этой неожиданной перемены в отношении Валанкура, а в ответ услышала, что синьор запретил этот союз, считая его недостойным племянницы.
– Я всецело подчиняюсь решению синьора, – добавила тетушка, – но должна заметить, что никогда особенно не благоволила к шевалье и с крайней неохотой дала согласие на ваш брак. Я проявила слабость – порой бываю так глупа! – к вашим переживаниям и уступила голосу сердца. Спасибо, синьор должным образом указал на неразумность моего решения. А вот ты должна подчиниться воле тех, кто лучше знает, что хорошо и что плохо. Поверь, я сделаю все, чтобы твоя жизнь сложилась благополучно.
Если бы Эмили не испытала столь глубокого потрясения и услышала хотя бы слово из обращенного к ней красноречивого монолога, то с трудом справилась бы с изумлением. Какими бы ни были слабости мадам Монтони, она не могла обвинить себя в сострадании к чувствам других, а особенно к чувствам подопечной. То же самое тщеславие, которое недавно заставило ее одобрить союз с семьей мадам Клэрваль, теперь, когда брак с Монтони повысил ее самооценку, а вместе с ней и виды на будущее племянницы, послужило причиной отмены свадьбы.
В этот момент Эмили чувствовала себя слишком расстроенной и растерянной, чтобы возразить тетушке или обратиться с мольбой. Наплыв чувств не позволял произнести ни слова, а потому она удалилась в свою комнату, чтобы обдумать внезапные изменения в своей судьбе. Возникло даже подозрение, что Монтони желает возвыситься за ее счет, а его непосредственный интерес сосредоточен на друге Кавиньи. Перспектива путешествия в Италию пугала еще больше, ведь в то время страну раздирали кровавые междоусобные войны. Каждое крошечное государство воевало с соседями, и даже каждый замок находился в постоянной опасности быть завоеванным и разрушенным. Эмили представила человека, чьим непосредственным заботам ее поручат вдали от Валанкура: при одной лишь мысли о возлюбленном все остальные образы померкли, а печаль снова стала невыносимой.
Несколько часов миновало в состоянии душевного смятения. Когда же пришел час обеда, Эмили попросила разрешения остаться в своей комнате, однако этим вечером мадам Монтони сидела за столом в одиночестве и потому ответила отказом. Обед прошел в молчании: Эмили глубоко страдала, а тетушка переживала из-за неожиданного отсутствия супруга. Ее тщеславие было уязвлено таким пренебрежительным отношением, а ревность обострилась подозрениями, что у супруга тайное свидание. Когда слуги убрали со стола и удалились, Эмили снова заговорила о Валанкуре, однако тетушка не снизошла до жалости, а даже, наоборот, разгневалась оттого, что осмеливаются противоречить ее воле и ставят под сомнение авторитет Монтони. Долгий мучительный разговор оказался напрасным, и Эмили ушла к себе в слезах.
Проходя по холлу, она заметила, как в парадную дверь кто-то вошел. Решив, что это Монтони, Эмили ускорила шаг, но тут услышала хорошо знакомый голос:
– Эмили! Дорогая!
Обернувшись, мадемуазель Сен-Обер увидела Валанкура, явно пребывавшего в отчаянии.
– Вы плачете! Мне необходимо поговорить с вами, но желательно там, где нам никто не помешает. Как вы дрожите! Уж не заболели ли вы?
Увидев открытую дверь одной из комнат, он торопливо взял любимую за руку и повел ее туда, но Эмили попыталась высвободиться и со слабой улыбкой проговорила:
– Нет-нет, все в порядке. Если вы желаете видеть тетушку, то она в столовой.
– Но нам нужно немедленно поговорить! – продолжал настаивать Валанкур. – Боже мой! Неужели все так плохо? Неужели вы действительно готовы меня отвергнуть? Умоляю хотя бы о нескольких минутах внимания, только не здесь: нас обязательно услышат.
– Да, но лишь после того, месье, как вы встретитесь с тетушкой, – ответила Эмили.
– Я и так несчастен! – воскликнул Валанкур. – Так не усугубляйте же мое горе жестокостью холодного отказа!
Отчаяние любимого казалось невыносимым, и все же Эмили продолжала настаивать на немедленной встрече с мадам Монтони.
– В таком случае где ее муж? Где сам Монтони? – спросил Валанкур совсем иным тоном. – Если я и должен с кем-то поговорить, то только с ним.
Испуганная его откровенным негодованием, Эмили с трепетом заверила, что синьора Монтони нет дома, и попыталась уговорить возлюбленного умерить гнев. При звуке ее дрожащего голоса ярость в глазах Валанкура уступила место нежности, и он проговорил:
– Вы больны, Эмили. Они уничтожат нас обоих! Простите за то, что осмелился усомниться в вашей любви!
Она не могла больше сопротивляться и покорно пошла за ним в ближайшую комнату. Тон, которым Валанкур упомянул о синьоре Монтони, настолько ее напугал, что она постаралась предотвратить последствия справедливого негодования возлюбленного. Шевалье внимательно выслушал ее увещевания и ответил лишь полным любви и отчаяния взглядом, пытаясь, насколько возможно, скрыть ненависть к синьору и тем самым унять ее тревогу, только его притворное спокойствие встревожило Эмили еще больше, так что она потребовала отказаться от встречи с Монтони и от любых поступков, которые могут сделать их разлуку непоправимой. Валанкур уступил ее уговорам и даже пообещал, что, если Монтони продолжит настаивать на разрыве, не попытается оказать сопротивление с применением силы.
– Только подумайте, как я буду страдать, и откажитесь от яростных намерений! – попросила Эмили.
– Ради вас, любимая, – ответил Валанкур, сдерживая слезы нежности и горя. – Да-да, ради вас я сумею побороть гнев. И все же, хоть я и дал слово, не ждите, что я покорно смирюсь перед властью Монтони. Если бы мог, я непременно нарушил слово. И все же, надолго ли он намерен обречь нас на разлуку? Когда вы вернетесь во Францию?
Эмили постаралась успокоить его заверениями в своей неизменной любви и напомнила, что через год с небольшим достигнет совершеннолетия и освободится от безрассудной опеки тетушки. Эти доводы мало утешили Валанкура: ведь все это время любимая проведет в Италии, а власть ее опекунов не иссякнет даже тогда, когда они утратят свои права, – но, чтобы ее не расстраивать, он скрыл истинные чувства. Успокоенная полученным обещанием и внешней сдержанностью друга, Эмили хотела уйти, но в эту минуту в комнату вошла тетушка. Бросив осуждающий взгляд на племянницу, которая тут же удалилась, она обратилась к шевалье со словами высокомерного неудовольствия:
– Я не ожидала от вас такого поведения, месье: не предполагала, что увижу в своем доме после того, как вас оповестили о нежелательности визитов, и уж тем более не думала, что вы назначите моей племяннице тайное свидание и она согласится.
Считая необходимым встать на защиту Эмили, Валанкур заявил, что пришел с намерением встретиться с Монтони, и обратился к мадам с вежливостью, обусловленной скорее ее полом, чем уважением, но увещевания его получили суровый отпор. Мадам опять посетовала, что поддалась состраданию, и добавила, что глубоко переживает из-за своего необдуманного поведения. Отныне она всецело передает ситуацию в руки синьора Монтони.
И все же пылкое красноречие молодого человека в некоторой степени заставило ее осознать свою вину. Мадам устыдилась, но не раскаялась, а напротив, возненавидела Валанкура, вызвавшего столь чуждое ей ощущение, причем тем сильнее, чем явственнее становилось недовольство собой.
В конце концов, негодование хозяйки достигло такого накала, что Валанкур поспешно удалился, дабы удержаться от непоправимо резкого ответа. Теперь он не сомневался, что надеяться на снисхождение мадам Монтони невозможно, ибо какую справедливость или жалость способен ощутить человек, испытывающий чувство вины без угрызений совести и раскаяния?
Разговора с синьором Монтони молодой человек ждал с таким же отчаянием. Он не сомневался, что идея разлучить влюбленных исходила именно от него, так что вряд ли он намерен уступить доводам, которые предвидел и которые был готов оспорить. И все же, не забывая о данном Эмили обещании, Валанкур постарался не совершать поступков, способных вызвать раздражение синьора. Он отправил ему письмо с просьбой о встрече и стал терпеливо ждать ответа.
Мадам Клэрваль держалась в стороне от этих событий. Соглашаясь на брак племянника, она надеялась, что Эмили станет наследницей состояния мадам Шерон. Брак тетушки разрушил ее ожидания, и хоть совесть не позволила выступить против союза Эмили и Валанкура, в ней было слишком мало великодушия, чтобы помочь племяннику в осуществлении его планов. Больше того: в глубине души мадам Клэрваль радовалась расторжению помолвки, так как считала Эмили недостойной Валанкура с точки зрения материальной, точно так же как Монтони считал этот брак недостойным красоты и утонченности Эмили. В результате, хоть гордость мадам Клэрваль и пострадала, свое негодование она выражала исключительно молчанием.
На письмо Валанкура Монтони ответил, что, поскольку личная встреча не устранит возражений с одной стороны и желаний – с другой, а вызовет только лишнее препирательство, он считает разумным отказать в просьбе.
Помня о мольбах Эмили и данном ей обещании, Валанкур подавил острое желание немедленно отправиться к Монтони и в категоричной форме потребовать того, в чем получил отказ. Взамен он написал еще одно письмо с просьбой о встрече, на сей раз подробно изложив свои доводы. Таким образом, несколько дней миновало в увещеваниях с одной стороны и упорных отказах – с другой. Трудно сказать, что именно заставляло Монтони сторониться человека, которого он глубоко обидел, – страх, стыд или ненависть как следствие того и другого. Он никак не хотел встречаться, не уступая сквозившей в письмах боли и не поддаваясь голосу разбуженного доводами раскаяния. Вскоре письма Валанкура стали возвращаться нераспечатанными. В порыве страстного отчаяния молодой человек забыл обо всех обещаниях, кроме главного: не применять силу, – и поспешил в замок Монтони, чтобы любым способом с ним встретиться. Слуги ответили, что господина нет дома, а на просьбу встретиться с мадам Монтони или мадемуазель Сен-Обер получил решительный отказ. Не желая унижаться до пререканий с прислугой, Валанкур вернулся домой в состоянии, близком к сумасшествию, и написал Эмили письмо, в котором, не сдерживаясь, описал свою сердечную агонию и, не имея другой надежды ее увидеть, попросил о тайном свидании. Отправив письмо и немного успокоившись, он одумался и понял, как ошибся, еще больше расстроив Эмили несдержанным выражением собственных страданий. Теперь он был готов отдать полмира, чтобы вернуть письмо, поскольку не знал, что Эмили была избавлена от переживаний хитрой политикой мадам Монтони: та приказала, чтобы все адресованные племяннице письма первым делом приносили ней. Прочитав откровенное послание и вслух выразив бурное негодование, она предала письмо огню.
Тем временем Монтони с каждым днем все больше спешил покинуть Францию: в нетерпении он раздавал указания слугам, занятым сборами, и встречался с людьми, с которыми вел какие-то особые дела. Он упорно хранил молчание в ответ на письма Валанкура, хотя молодой человек уже оставил надежду на лучшее, обуздал страсти и теперь просил лишь одного – позволения проститься с Эмили. Забыть о благоразумии его заставило известие, что отъезд назначен на ближайшие дни и увидеть любимую ему больше не суждено. Пылкий поклонник осмелился обратиться к мадемуазель Сен-Обер со вторым письмом, в котором предложил тайный брак. Это послание также попало в руки мадам Монтони, и последний день Эмили в Тулузе не принес Валанкуру ни строчки в утешение страданий, ни надежды на прощание.
В этот мучительный для шевалье период Эмили пребывала в состоянии ступора, который случается в результате неожиданного и непоправимого горем. Преданно любя Валанкура, видя в нем друга и спутника жизни, она не представляла иного счастья. Как же она страдала, неожиданно узнав о разлуке – возможно, навсегда! И все это по воле чужого человека (ибо таким оставался Монтони) и родственницы, которая еще недавно торопилась со свадьбой! Напрасно Эмили старалась справиться с горем и смириться с неизбежностью судьбы. Молчание Валанкура не столько удивляло, сколько расстраивало, и когда наступил последний день ее пребывания в Тулузе, а надежды на прощание с любимым по-прежнему не было, она пришла в отчаяние и спросила тетушку, неужели ей отказано даже в таком малом утешении. Мадам ответила, что отказ в свидании с Валанкуром не подлежит обсуждению, и добавила, что после дерзости шевалье во время их последней беседы, а также грубых писем к синьору, все просьбы бесполезны.
– Если месье надеялся на нашу милость, то должен был вести себя совсем в иной манере: терпеливо ждать, когда мы сочтем возможным даровать согласие, а не упрекать меня за то, что я не желаю вручить ему племянницу, и настойчиво обвинять синьора в нежелании обсуждать детские проблемы. Валанкур все время вел себя чрезвычайно неуважительно и высокомерно. Впредь я не желаю слышать этого имени. И хочу, чтобы ты забыла о глупых причудах и выглядела как все нормальные люди, а не бродила словно тень со слезами на глазах. Молчание не в состоянии скрыть твое горе: даже сейчас, когда я говорю, ты едва сдерживаешь рыдания. Да, даже сейчас, вопреки моим указаниям!
Эмили отвернулась, чтобы скрыть слезы, и поспешила выйти.
День прошел в страданиях, каких она, пожалуй, еще не знала. Поднявшись в свою комнату, Эмили опустилась в кресло и застыла в забытьи до позднего часа, когда все в доме уже легли спать, не в силах освободиться от горькой мысли, что больше никогда не увидит Валанкура. Эта уверенность возникла не только из очевидных обстоятельств: длительность путешествия, неопределенный срок возвращения, а также полученный запрет, – но главную роль сыграло предчувствие, что она уезжает от Валанкура навсегда. Воображение представило ужасные препятствия: непреодолимые Альпы встанут стеной, и целые страны протянутся, разделяя их. Жизнь в соседней провинции, даже в одной стране, пусть без возможности встреч, по сравнению с огромным расстоянием казалась почти счастливой.
Устав от размышлений о вечной разлуке, Эмили ощутила внезапную слабость и отворила окно. Свежий воздух немного восстановил силы, а освещавшая верхушки старинных вязов растущая луна успокоила и вызвала желание выйти на улицу, чтобы унять головную боль. В замке царила тишина. Спустившись по парадной лестнице в холл, Эмили неслышно, как ей показалось, отперла дверь, вышла в сад и зашагала по аллее, то и дело представляя спрятавшихся среди деревьев шпионов мадам Монтони. Ей владело единственное желание: в последний раз навестить беседку, где она провела столько счастливых часов с Валанкуром. Забыв об осторожности, Эмили направилась к террасе, которая тянулась вдоль верхней части сада и соединялась с ней мраморной лестницей в конце аллеи.
Дойдя до ступеней, она остановилась и огляделась: отдаленность от замка рождала страх, который тишина и темнота позднего часа лишь усиливали. Не заметив ничего подозрительного, она поднялась на террасу, где лунный свет открывал взгляду широкую дорожку, ведущую к беседке. Эмили вновь остановилась и прислушалась. Ночную тишину нарушала лишь жалобная песня соловья в сопровождении легкого шелеста листьев. Немного успокоившись, Эмили подошла к беседке и в полной темноте испытала те же чувства, что испытывала при дневном свете. Открытые полукруглые окна служили подобием рамы для залитых серебристым светом мягких пейзажей: рощ и долин, далеких гор, мерцающей на переднем плане реки.
Подойдя к одному из окон, Эмили восхитилась красотой и, сразу представив Валанкура, проговорила с тяжелым вздохом:
– Ах, как часто мы сидели здесь вдвоем и любовались пейзажем при солнечном свете! Никогда, никогда больше не доведется нам увидеть друг друга!
Слезы внезапно высохли от ужаса: совсем близко послышался чей-то голос. Эмили вскрикнула, но голос прозвучал снова и теперь она узнала дорогие сердцу интонации Валанкура. Да, это был он: шевалье подошел к ней и нежно обнял. Несколько мгновений оба молчали.
– Эмили, – наконец проговорил молодой человек, крепко сжимая ее руку, и снова умолк. – О, моя Эмили! – повторил он после долгой паузы. – Все-таки мы встретились, и я слышу ваш голос! Каждую ночь я пробирался в этот сад в слабой, очень слабой надежде увидеть вас. Остался последний шанс. Слава богу, вы пришли, и больше я не приговорен к абсолютному отчаянию!
Стараясь умерить его волнение, Эмили произнесла несколько слов о своей неизменной любви, однако Валанкур некоторое время продолжал бессвязно что-то восклицать. Наконец, немного успокоившись, он произнес:
– Я пришел сюда вскоре после заката и все это время бродил по саду, иногда заглядывая в беседку. Хоть я и потерял последнюю надежду на встречу с вами, я не смог покинуть ваше любимое место и скорее всего остался бы здесь до рассвета. О, как мучительно медленно тянулись мгновения! И как все вокруг менялось, едва казалось, что я слышу ваши шаги! А потом снова наступала мертвая тишина! Когда же вы открыли дверь беседки, темнота помешала определить, вы ли это, сердце мое забилось в надежде и страхе с такой силой, что я не смог произнести ни слова. Ваш жалобный голос развеял сомнения, но не страх – до тех пор пока вы не обратились ко мне. Тогда, забыв об опасности испугать вас, я больше не смог молчать. Ах, Эмили! Радость и печаль так непримиримо сражаются за превосходство, что душа не выдерживает этой борьбы!
Сердцем Эмили чувствовала истину этого пылкого признания, но радость от встречи вскоре утонула в печали: воображение живо представило картины будущего без любимого. Она пыталась восстановить спокойное достоинство, столь необходимое в прощальной беседе, Валанкур же, напротив, не мог совладать с чувствами. Его безудержная радость внезапно перешла в отчаяние: он принялся жаловаться на мучения и страстно изливать горе перед предстоящей вечной разлукой. Эмили слушала его со слезами, а потом, чтобы как-то успокоить, постаралась перечислить все обстоятельства, дававшие им надежду, но Валанкур сразу определил невинную обманчивость этих иллюзий.
– Утром вы уедете в далекую страну. О, такую далекую! К новым знакомым, новым друзьям, новым поклонникам! Вы уедете с людьми, которые сделают все, чтобы вы меня забыли! Как, зная это, я могу надеяться, что вы вернетесь ко мне и станете моей?
Голос его дрогнул и утонул в глубоком вздохе.
– Значит, вы думаете, что мои страдания вызваны лишь банальным, временным интересом к вам, – возразила Эмили. – Вы думаете, что…
– Страдания! – перебил ее Валанкур. – Страдания из-за меня! Ах, до чего сладкие и одновременно горькие слова! Они несут утешение и боль! Я не должен сомневаться в ваших чувствах, и все же противоречие истинной любви заключается в том, что она не устает сомневаться, даже безосновательно, и постоянно требует все новых и новых доказательств. Вот так и получается, что всякий раз, когда я слышу ваше признание, я оживаю, а потом опять впадаю в сомнение, а часто и в отчаяние.
Спустя миг, словно одумавшись, Валанкур воскликнул:
– Но как я смею терзать вас, да еще в момент прощания! Я, который должен поддерживать и успокаивать!
Эта мысль наполнила сердце молодого человека нежностью, но вскоре он опять поддался печали и принялся жаловаться на жестокость разлуки, причем настолько страстно, что Эмили больше не находила сил успокаивать его и скрывать собственное горе. Окончательно отдавшись на волю любви и жалости, Валанкур утратил способность и желание скрывать волнение. В промежутках между конвульсивными рыданиями он осушал слезы Эмили поцелуями и тут же жестоко заявлял, что она не должна его оплакивать, потом попытался говорить спокойнее, но мог лишь восклицать:
– Ах, Эмили, сердце мое разобьется! Сейчас я смотрю в ваше прекрасное лицо, держу вас в объятиях, а совсем скоро все это останется лишь в мечтах! Скажите, почему мы должны отдать счастье всей нашей жизни людям, которые не имеют права ни отнимать его, ни даровать иным способом, кроме как отдав вас мне? Ах, Эмили! Осмельтесь довериться своему сердцу, осмельтесь навсегда стать моей!
Голос его задрожал и осекся. Эмили продолжала молча плакать, а Валанкур принялся убеждать ее в необходимости тайного брака: завтра, в день отъезда, на заре в церкви августинцев их будет ждать монах, готовый обвенчать.
Эмили молча выслушала внушенное любовью и отчаянием предложение и была не в силах возражать в ту минуту, когда сердце утонуло в печали вечной разлуки, а разум погрузился в мрачные иллюзии. Это позволило Валанкуру надеяться на ее согласие.
– Ответьте же, моя Эмили! – воскликнул он. – Позвольте услышать ваш голос, позвольте узнать свою судьбу.
Она продолжала молчать. Щеки ее побледнели; чувства, казалось, покинули ее. В воспаленном воображении Валанкура Эмили предстала умирающей. Он принялся звать любимую по имени, потом хотел бежать в замок за помощью, но побоялся оставить ее хотя бы минуту.
Спустя некоторое время Эмили глубоко вздохнула и вернулась к жизни. Расстроенное переживаниями сознание не выдержало глубокого конфликта между любовью и долгом перед сестрой отца. Тайный брак невыразимо ее пугал и отталкивал последствиями, способными вовлечь любимого в раскаяние и несчастье, и, несмотря на жестокую борьбу, долг и здравый смысл все-таки одержали верх над чувствами и мрачными ожиданиями. Больше всего Эмили боялась навлечь на Валанкура лишения и напрасные сожаления, которые считала неизбежным следствием тайного брака. Наверное, поэтому она проявила неженскую силу, решив стерпеть свое нынешнее несчастье, чтобы не навлечь несчастья в будущем.
С искренней прямотой Эмили изложила доводы против тайного брака. Соображения относительно собственного благополучия Валанкур немедленно и решительно отверг, но они пробудили беспокойство о возлюбленной, еще недавно подавленное страстью и отчаянием. То же самое чувство, которое несколько минут назад побудило его говорить о немедленном тайном браке, сейчас заставило отказаться от такого опрометчивого шага. Однако переворот в сознании оказался чрезмерен для души. Ради спокойствия Эмили Валанкур попытался сдержать печаль, но был не в силах подавить растущую боль.
– Ах, Эмили! – воскликнул он. – Я должен вас покинуть и знаю, что навсегда!
Его слова снова утонули в конвульсивных рыданиях. Влюбленные долго плакали вместе. Наконец Эмили вспомнила об опасной непристойности долгого свидания и собралась с силами, чтобы проститься.
– Подождите! – остановил ее Валанкур. – Умоляю, подождите! Я должен многое вам рассказать. Печаль разлуки и волнение заставили меня говорить только о главном. Я так и не упомянул об одном важном сомнении: отчасти потому, что не хотел пугать вас прежде, чем сделаю предложение.
Глубоко заинтригованная, Эмили осталась, однако из осторожности вывела друга из беседки. Прогуливаясь рядом с ней по террасе, Валанкур продолжил:
– Этот Монтони… мне довелось слышать о нем странные слухи. Вы уверены, что он действительно принадлежит к семье мадам Кеснель, а его состояние таково, каким кажется?
– Я не имею причин для сомнений, – с тревогой в голосе ответила Эмили. – Первое утверждение, несомненно, соответствует действительности, но судить о втором я не могу, а потому прошу сообщить все, что вы знаете.
– Непременно. Но должен предупредить, что сведения эти крайне ненадежны: просто я услышал разговор одного итальянца с другим лицом об этом Монтони. Они говорили о его женитьбе, и итальянец заметил, что если синьор именно тот, которого он знает, то мадам Шерон не найдет с ним счастья. Далее он продолжил неодобрительно о нем отзываться и даже сделал несколько намеков, вызвавших у меня столь острое любопытство, что я отважился задать несколько вопросов. Поначалу итальянец отвечал сдержанно, но потом разговорился и признался, что за границей Монтони имеет сомнительную финансовую репутацию. Этот итальянец упомянул о принадлежащем Монтони замке в Апеннинах и о странных обстоятельствах прошлой жизни синьора. Я умолял поведать подробности, но, видно, проявил излишний интерес и испугал собеседника, так что тот отказался рассказать что-нибудь еще. Я возразил, что, если Монтони владеет замком в горах, значит, относится к благородному семейству и вряд ли следует считать его человеком несостоятельным, но итальянец только многозначительно покачал головой и ничего не ответил.
Надежда узнать что-нибудь более конкретное удерживала меня в обществе этого человека довольно долго, причем я не раз возобновлял расспросы. Но итальянец замкнулся, заявив, что это лишь слухи, а слухи часто основаны на личной неприязни и далеки от правды. Поскольку он явно испугался, что сболтнул лишнего, я не стал продолжать разговор и остался в неизвестности. Представьте, Эмили, с какими чувствами я отпускаю вас в чужую страну в обществе и во власти такого человека, как Монтони! Но я не хочу пугать вас: возможно, как сказал итальянец, это не тот Монтони, которого он знает. И все же, любимая, доверяйтесь ему с осторожностью.
Валанкур, явно взволнованный, принялся мерить террасу быстрыми шагами, а Эмили стояла, облокотившись на балюстраду и погрузившись в размышления. Все услышанное взволновало ее больше, чем следовало. Монтони никогда не внушал ей симпатии: его горячий взор, гордое высокомерие и мрачная наблюдательность демонстрировали темную сторону его души, а выражение лица неизменно вызывало страх. Личные наблюдения подсказывали Эмили, что неизвестный итальянец говорил именно об этом Монтони. Мысль о поездке в чуждую страну, где ничто не мешало ему проявить свою власть, вызывала у нее ужас. И все же не только ужас заставил Эмили задуматься о немедленном браке с Валанкуром. Нежная и пылкая любовь уже заявила свои права, но не смогла пересилить чувство долга, заботу о благополучии друга и скрытое отвращение к тайному союзу.
Однако рядом оставался распаленный страстью Валанкур, чьи опасения за Эмили усиливались лишь от одного упоминания о разлуке и с каждым мигом становились все острее. Он полагал, что ясно видит грозящую возлюбленной опасность: путешествие с чужими, враждебными ей людьми навлечет на нее несчастье, поэтому шевалье твердо решил противостоять судьбе и убедить Эмили возложить на него титул законного защитника.
– Эмили! – обратился он к ней с торжественной серьезностью. – Сейчас не время для мелочных рассуждений, не время взвешивать сомнительные обстоятельства, способные повлиять на наше будущее благополучие. Сейчас еще отчетливее, чем прежде, я вижу опасности, грозящие вам рядом с Монтони. Мрачные намеки итальянца, конечно, говорят многое, но не больше тех выводов, которые я сделал, наблюдая за этим человеком. Кажется, я вижу в его лице все, что о нем слышал. Такой опекун вызывает у меня страх, а потому прошу ради вашего и моего спокойствия: остерегайтесь опасностей, которые я с ужасом предвижу! Ах, Эмили! Позвольте моей заботе, моим объятиям укрыть вас от зла. Дайте мне право стать вашим ангелом-хранителем!
В ответ Эмили лишь вздохнула, а Валанкур продолжил убеждать и умолять ее со всей энергией любви. В то время как его воспаленное воображение преувеличивало возможное зло, туман в ее сознании начал рассеиваться и позволил увидеть картины чрезмерных опасностей, владевшие умом любимого. Эмили подумала, что, возможно, это не тот Монтони, о котором говорил чужестранец. А если даже и так, то о его дурном характере и низменном нраве итальянец говорил с чужих слов. Хоть внешность синьора в некоторой степени и подтверждала эти слухи, она не могла полностью в них поверить. Попытка Эмили как можно осторожнее убедить возлюбленного, что тот ошибается, повергла его в новое отчаяние.