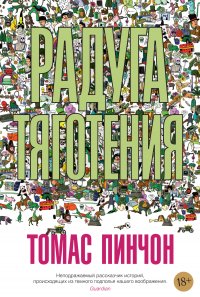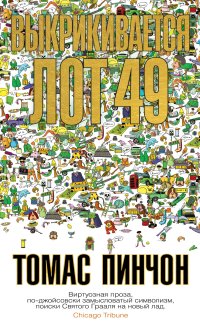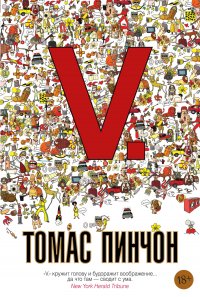
Читать онлайн V. бесплатно
- Все книги автора: Томас Пинчон
Thomas Pynchon
V.
Copyright © 1961, 1963, 1989, 1991 by Thomas Pynchon
© М. В. Немцов, перевод, 2014
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство ИНОСТРАНКА®
Глава первая,
в которой Бенни Профан, шлемиль и одушевленный йо-йо, окончательно отбивается от рук
I
В Сочельник 1955-го Бенни Профану, в черных «ливайсах», замшевой куртке, подкрадухах и здоровенной ковбойской шляпе, случилось миновать Норфолк, Вирджиния. Подверженный сентиментальным порывам, он решил заглянуть в «Могилу моряка», таверну своего прежнего корыта на Восточной Главной. Проник в нее он через «Аркаду», у Восточно-Главного конца которой сидел старый уличный певец с гитарой и пустой банкой из-под «Стерно» для подношений. А на улице старший писарь пытался отлить в бензобак «пэкарда-патриция» 54-го года, и пять или шесть младших матросов стояли кру́гом, ему потворствуя. Старик пел превосходным крепким баритоном:
- Что ни вечер, на Восточной Главной – Рождество.
- Здесь моряки подружек обретут,
- Огни – рубин и изумруд –
- Дружбу и любовь влекут,
- Из моря корабли они зовут.
- Мешок у Санты грезами набит,
- И пиво бьет шампанским озорством.
- Тут любят подавальщицы любить
- И не дают тебе забыть,
- Что на Восточной Главной – Рождество.
– Эгей, старшой, – завопил один бес. Профан свернул за угол. Как за нею водится, без особого предупреждения Восточная Главная напрыгнула на него.
Уволившись с Флота, Профан клал дороги, а когда работы не было – просто перемещался, вверх и вниз по восточному побережью, как йо-йо; и длилось это, может, года полтора. После такой давности на стольких именованных мостовых, что и считать неохота, Профан стал относиться к улицам с легкой опаской, особенно – к таким. Все они, вообще-то, сплавились в единственную отвлеченную Улицу, о которой с полнолунием ему станут сниться ужасы. Восточная Главная, гетто для Пьяных Матросов, с кем никто не знает, Что Делать, налетала на нервы со всею внезапностью того, как обычный ночной сон обращается в кошмар. Собака в волка, свет в межесветок, пустота в затаившееся присутствие, вот тебе сопляк-морпех блюет посреди улицы, подавальщица с гребным винтом, наколотым на каждой ягодице, один потенциальный бесноватый, что присматривается, как бы получше сигануть в оконное стекло (когда кричать «Джеронимо»? до или после того, как стекло разобьется?), пьяный боцманмат плачет, забившись в переулок, потому что когда БПы[1] в последний раз его таким поймали – укатали в смирительную рубашку. Под ногой то и дело начинался вибреж тротуара от берегового патрульного во многих фонарях оттуда, что ночной своей дубинкой выстукивал «Атас»; над головой, зеленя и уродуя все лица, сияли ртутные лампы, удаляясь асимметричной V к востоку, где темно и баров больше нет.
Прибыв в «Могилу моряка», Профан застал разгар небольшой потасовки между матросами и гидробойца́ми. Миг постоял в дверях, наблюдая; затем, осознав, что он уже и так одной ногой в «Могиле», нырнул вбок, чтоб не мешать драке, и прикинулся более-менее шлангом у латунных поручней.
– И чего не жить человеку в мире со своими собратьями, – поинтересовался голос за левым ухом Профана. То была подавальщица Беатрис, возлюбленная всего 22-го Дивизиона ЭМ, не говоря о прежнем судне Профана, военном корабле США эскадренном миноносце «Эшафот». – Бенни, – возопила она. Они разнежились, снова встретившись после такой долгой разлуки. Профан принялся рисовать в опилках сердечки, стрелки сквозь них, морских чаек, несущих в клювах транспарант, гласивший «Дорогая Беатрис».
Экипаж «Эшафота» отсутствовал – жестянка эта отчалила в Средь позавчера вечером под целый шторм нытья команды, долетавший аж до облачных Путей (как утверждала байка) голосами с корабля-призрака; даже в «Малом Ручье» слышали. Соответственно, сегодня вечером подавальщиц имелось в наличии несколько больше обычного, обслуживали столики по всей Восточной Главной. Ибо говорится же (и говорится недаром), что стоит лишь судну вроде «Эшафота» отдать концы, как некие военно-морские жены в момент переоблачаются из штатского в буфетчицкие мундиры, разминают пивоносные руки и репетируют милые улыбки потаскуний; не успеет оркестр ОБ[2] ВМС доиграть «Былые времена»[3], а эсминцы еще продувают трубы, осыпая черными хлопьями будущих рогоносцев, что мужественно вытянулись по стойке смирно, отбывая с сожаленьем и скупыми ухмылками.
Беатрис принесла пиво. От какого-то столика в глубине донесся пронзительный вяк, она дернулась, пиво плеснулось через обод стакана.
– Боже, – сказала она, – опять Фортель. – Фортель нынче служил мотористом на минном тральщике «Порывистый» и скандалом на всю длину Восточной Главной. Росту в нем было пять футов без гака в палубных сапогах, и он вечно пер на рожон против самых здоровенных на судне, зная, что всерьез они его никогда не воспримут. Десять месяцев назад (перед тем, как его перевели с «Эшафота») Флот решил удалить Фортелю все зубы. В ярости Фортель кулаками пробил себе дорогу сквозь старшину-санинструктора и двух офицеров-стоматологов, и только после этого решили, что он свои зубы хочет сохранить на полном серьезе.
– Но подумай сам, – кричали офицеры, стараясь не расхохотаться и отмахиваясь от его крохотных кулачков: – обработка корневого канала, абсцессы десен…
– Нет, – верещал Фортель. Наконец пришлось двинуть ему в бицепс уколом пентотала. Проснувшись, Фортель узрел апокалипсис, орал продолжительные непристойности. Два месяца он жутким призраком бродил по «Эшафоту», без предупреждения подпрыгивал и раскачивался на подволоке, будто орангутан, пытался пнуть комсостав в зубы.
Стоял, бывало, на кормовом подзоре и ездил по ушам тем, кто б ни готов был его слушать, разглагольствуя ватным ртом с больными деснами. Когда же во рту все зажило, ему вручили комплект блестящих уставных мостов, верхнего и нижнего.
– Боже мой! – заревел он и попытался прыгнуть за борт. Но его скрутил гаргантюанских габаритов негр по имени Дауд.
– Ты чего это, малявка, – сказал Дауд, подымая Фортеля за голову и пристально разглядывая эти судороги робы и ропота, чьи ноги бились в ярде над палубой. – Ты зачем это хочешь пойти и такое учинить?
– Мужик, да я сдохнуть хочу, больше ничего, – вскричал Фортель.
– Ты разве не знаешь, – произнес Дауд, – что ценнее жизни у тебя имущества нет?
– Хо, хо, – ответил Фортель сквозь слезы. – Почему это?
– Потому, – сказал Дауд, – что без нее ты труп.
– А, – сказал Фортель. Неделю потом об этом думал. Успокоился, снова стал ходить в увольнения на берег. Сбылся его перевод на «Порывистый». Вскоре машина, после Отбоя, начинала слышать странный скрежет от койки Фортеля. Так оно шло недель пару-тройку, пока однажды ночью, часа в два, кто-то не зажег в кубрике свет – Фортель сидел по-турецки на койке и точил зубы небольшим полудрачевым напильником. В следующий вечер выдачи денежного довольствия Фортель сидел за столом в «Могиле моряка» с прочей машиной, тише обычного. Около одиннадцати мимо качко пронесло Беатрис с подносом пива. Злорадно Фортель высунул голову, широко распахнул челюсти и впился свежезаточенными протезами в правую ягодицу подавальщицы. Беатрис завопила, стаканы полетели, параболически сверкая и орошая «Могилу моряка» водянистым пивом.
Это стало у Фортеля любимым развлечением. По дивизиону, по эскадре, а то и по всему Атлантическому миноносному соединению поползли слухи. Не служащие на «Порывистом» или «Эшафоте» приходили посмотреть. От этого начиналось множество драк вроде происходящей нынче.
– Кого он цапнул, – спросил Профан. – Я не видел.
– Беатрис, – ответила Беатрис. Беатрис была еще одной буфетчицей. Миссис Буффо, хозяйка «Могилы моряка», которую тоже звали Беатрис, выдвинула теорию: как маленькие дети всех женщин зовут мамой, так и моряки, по-своему равно беспомощные, всех буфетчиц должны звать Беатрис. В целях дальнейшего осуществления этой материнской политики она установила у себя заказные пивные краны, выполненные из пенорезины, в виде гигантских грудей. С восьми до девяти в вечер жалованья тут происходило нечто называемое миссис Буффо Часом Отсоса. Она его официально начинала, являясь из подсобки в кимоно, расшитом драконами, которое ей подарил воздыхатель с Седьмого флота, подносила к губам боцманскую дудку и давала сигнал «Команде Ужинать». По нему все кидались к пивным кранам, и, если везло добраться, из них удавалось соснуть. Кранов таких было семь, и обычно на такую потеху собиралось в среднем по 250 моряков.
Вот из-за угла бара высунулась голова Фортеля. Он щелкнул Профану зубами.
– А вот, – сказал Фортель, – мой друг Росни Гланд, на борту недавно. – Он показал на длинного печального мятежника с огромным клювом – дылда подвалил вместе с Фортелем, волоча по опилкам гитару.
– Здрасьте, – сказал Росни Гланд. – Мне хотелось бы спеть вам песенку.
– В честь того, что ты стал РПК[4], – сказал Фортель. – Росни ее всем поет.
– Это в прошлом году было, – сказал Профан.
Однако Росни Гланд уперся ногой в латунный поручень, гитарой в колено и затрямкал. После восьми тактов эдакого он запел, в темпе вальса:
- Разнесчастный Понурый Крысеныш,
- По тебе все рыдают тайком.
- В кубриках и на мостике грустно,
- Слезы льет даже жалкий старпом.
- Ты списался и сделал ошибку,
- Жопу драть тебе целились шибко,
- Рапортов на тебя – знай держись.
- Ну а мне б – только флотскую лямку,
- Крысой посуху – это не жизнь.
– Симпатично, – вымолвил Профан в стакан с пивом.
– Дальше – больше, – сказал Росни Гланд.
– О, – сказал Профан.
Сзади Профана вдруг окутали миазмы зла; на плечо ему мешком картошки обрушилась рука, а в поле периферического зрения вполз пивной стакан, окруженный крупной варежкой, неумело сработанной из шерсти недужного бабуина.
– Бенни. Как делишки чахнут, хьё, хьё.
Такой смех мог исходить только от Профанова некогда-сослуживца Свина Будина. Профан обернулся. И впрямь. «Хьё, хьё» примерно отображает смех, образуемый подведением кончика языка к основаньям верхних центральных резцов и выдавливанием из глотки гортанных звуков. Звучал он, как Свин и надеялся, до ужаса непристойно.
– Старина Свин. Ты разве не пропускаешь передислокацию?
– Я в самоволке. Боцманмат Папик Год вынудил дать тягу. – Избегать БП лучше всего по трезвянке и со своими. Потому и «Могила моряка».
– Как Папик.
Свин рассказал ему, как Папик Год и подавальщица, на которой он женился, разбежались. Она отвалила и устроилась работать в «Могилу моряка».
Ох уж эта юная жена, Паола. Сказала, что ей шестнадцать, но поди пойми – родилась перед самой войной, и здание со всеми записями о ней уничтожили, как большинство прочих зданий на острове Мальта.
Профан присутствовал при их знакомстве: бар «Метро», Прямая улица. Кишка. Валлетта, Мальта.
– Чикаго, – это Папик Год своим голосом гангстера. – Слыхала о Чикаго, – меж тем зловеще суя руку себе под фуфайку, обычный финт Папика по всей Средь-литорали. Вытаскивал обычно платок, а вовсе не волыну и не шпалер, сморкался в него и хохотал над той девчонкой, кому выпало сидеть напротив за его столиком. От американских киношек вырабатывались стереотипы – у всех, кроме Паолы Майистрал, которая и после его рассматривала так же, не раздув ноздрей, брови на мертвой точке.
В итоге Папик занял 500 под 700 из смазочного фонда кока Малого, чтобы привезти Паолу в Штаты.
Может, для нее то просто был способ выбраться в Америку – полоумие всякой средиземноморской буфетчицы, – где хватает еды, теплой одежды, всегда есть отопление, дома целы и невредимы. Папику пришлось наврать про ее возраст, чтобы протащить в страну. Она могла выглядеть на любые года, каких пожелает. И в ней ты подозревал любую национальность, ибо Паола владела огрызками, похоже, всех языков.
Папик Год на потеху палубе описал ее в шкиперской кладовке военного корабля США «Эшафот». Говоря все время, однако, с причудливой нежностью, словно бы медленно осознавал, может, и по мере выкладывания байки, что в половых отношениях вдруг больше таинства, нежели он предвидел, и счет ему в итоге окажется неведом, потому что такие счета не цифирью записываются. Что после сорока пяти лет жизни для любого разнузданного[5] Папика Года было ничто по сравнению с самим таким открытием.
– Годный кадр, – обронил Свин в сторону. Профан перевел взгляд в глубину «Могилы моряка» и увидел, как она уже подходит сквозь скопившийся вечерний дым. Похожа на подавальщицу с Восточной Главной. Что там про зайца-беляка на снегу, про тигра в высокой траве на солнце?
Она улыбнулась Профану: грустно, с натугой.
– На сверхсрочную вернулся?
– Я проездом, – ответил Профан.
– Давай со мной на западное побережье, – сказал Свин. – Не собрали БП еще такой машины, чтоб уделала мой «харлей».
– Глядите, глядите, – вскричал малыш Фортель, прыг-скок на одной ножке. – Только не сейчас, ребяты. На старт. – Он показал. На стойке материализовалась миссис Буффо в своем кимоно. Заведение притихло. Между гидробойцами и матросами, забившими проход, заключилось мгновенное перемирие.
– Мальчики, – объявила миссис Буффо, – у нас Сочельник. – Она извлекла боцманскую дудку и заиграла. Над распахнутыми глазами и раззявленными ртами знойно и флейтово затрепетали первые ноты. Все в «Могиле моряка» слушали благоговейно, мало-помалу соображая, что играет она «Вот ясной полночью звучит», в ограниченном диапазоне боцманской дудки. Откуда-то с тылов заведения молодой резервист, некогда выступавший по ночным клубам Филли, взялся тихонько подпевать. У Фортеля засияли глаза.
– Это голос ангела, – произнес он.
Они дождались той части, что гласила «Покой земле, а людям благ Несет Небесный Царь», и тут Свин, воинствующий атеист, решил, что больше не выдержит.
– Это, – громко объявил он, – похоже на «Команде Ужинать». – Миссис Буффо и резервист умолкли. Прошла секунда, и только потом до всех дошло.
– Час Отсоса! – завопил Фортель.
Что как бы разрушило чары. Сообразительные узники «Порывистого» как-то слиплись в неожиданной круговерти веселых митрох, телесно вздернули Фортеля повыше и с малявкой наперевес ринулись к ближайшему соску, в ертауле наступления.
Миссис Буффо, воздвигшись на свой бастион, точно краковский трубач, приняла на себя всю мощь атаки и опрокинулась спиной в лохань со льдом, когда барную стойку штурмом взяла первая волна. Фортеля, с вытянутыми вперед руками, метнули через верх. Он уцепился за одну рукоять крана, и сослуживцы его тут же отпустили; инерция пронесла его вместе с рукоятью аркой вниз – пиво хлестануло белопенным каскадом из одной пенорезиновой груди, омывая Фортеля, миссис Буффо и пару дюжин моряков, забежавших за стойку фланговой атакой, а теперь колотивших друг друга до бесчувствия. Группа же, перекинувшая Фортеля, рассредоточилась и попыталась отхватить себе побольше кранов. Главный корабельный старшина Фортеля, держась за его ноги, стоял на четвереньках готовый сшибить его с этих ног и самому занять место голеадора, когда Фортелю уже хватит. Подразделение «Порывистого» в стремительном своем рейде образовало живой клин. В кильватере за ними сквозь брешь пробралось по крайней мере еще шестьдесят истекавших слюнями синих бушлатов – они пинались, царапались, толкались локтями, оглушительно ревели; кое-кто размахивал пивными бутылками, расчищая себе путь.
Профан сидел у дальнего конца стойки, озирая вручную выделанные палубные сапоги, клеша, подвернутые манжеты «ливайсов»; время от времени являлась слюнявая рожа, приделанная к падшему телу; битые пивные бутылки, крохотные ураганы опилок.
Вскорости он перевел взгляд; там была Паола, руки вокруг его ноги, щека прижата к черному дениму.
– Ужас, – сказала она.
– О, – сказал Профан. Погладил ее по голове.
– Мир, – вздохнула она. – Не его ли нам всем надо, Бенни? Хоть чуточку мира. Чтоб никто не прыгал и не кусался за жопу.
– Чш, – сказал Профан, – глянь: только что Росни Гланду кто-то двинул в живот его же гитарой.
Паола побормотала ему в ногу. Они сидели тихонько, не подымая взглядов на побоище, бушевавшее сверху. Миссис Буффо предприняла буйную истерику. Нечеловеческие рыдания бились в старое поддельное красное дерево бара и вздымались из-под него.
Свин сдвинул в сторону пару дюжин пивных стаканов и уселся на выступ за стойкой. В лихую годину он предпочитал отсиживаться и наблюдать. Свин рьяно пялился на сослуживцев, что отнятыми поросятками бились за семь гейзеров под ним. Пиво промочило почти все опилки за стойкой: потасовки и любительские антраша теперь карябали в них чужеродную иероглифику.
Снаружи донеслись сирены, свистки, топот бегущих ног.
– Ой, ой, – произнес Свин. Он соскочил с выступа, пробрался вокруг конца стойки к Профану и Паоле. – Эй, ас, – сказал он невозмутимо и сощурившись так, словно ему дуло ветром в глаза. – Шериф на подходе.
– Через зад, – ответил Профан.
– Девку захвати, – сказал Свин.
Втроем они короткими перебежками миновали пересеченную местность кишащих тел. По пути прихватили Росни Гланда. Когда Береговой Патруль вломился в «Могилу моряка», молотя дубинками, четверка уже ловила себя на том, что мчится по переулку, параллельному Восточной Главной.
– Мы куда, – сказал Профан.
– Куда следуем, – сказал Свин. – Двигай жопой.
II
А оказались они в конце концов на квартире в Ньюпорт-Ньюз, населяемой четверкой лейтенантов ВОЛН[6] и стрелочником с угольных причалов (другом Свина) по имени Моррис Тефлон, эдаким отцом дома. Неделя между Рождеством и Новым годом провелась достаточно пьяно, чтоб опознать, что это были праздники. Никто в доме, похоже, не возражал, когда все они вселились.
Прискорбная привычка Тефлона свела Профана и Паолу вместе, хотя ни ему, ни ей этого не хотелось. У Тефлона имелся фотоаппарат: «лейка», раздобытая полулегально за морем одним флотским другом. По выходным, когда дела шли хорошо, а дешевое красное плескалось всюду волной от тяжелого купца, Тефлон накидывал камеру себе на шею и отправлялся бродить от кровати к кровати, делая снимки. Их он потом продавал охочим матросам на нижнем конце Восточной Главной.
Так вышло, что Паола Год, урожденная Майистрал, отдав швартовы по собственному капризу из надежной постели Папика Года рано, а из почти-дома «Могилы моряка» поздно, ныне пребывала в потрясении, отчего Профан наделялся всевозможными целительскими и сопереживательными талантами, коими на деле не обладал.
– Только ты у меня и есть, – предупредила его она. – Будь ко мне добр. – Они сиживали вокруг стола на кухне Тефлона: Свин Будин и Росни Гланд лицом к ним каждому, как партнеры по бриджу, посередине бутылка водки. Никто не разговаривал – только спорили, с чем мешать водку дальше, когда то, что есть, кончится. На той неделе они попробовали молоко, баночный овощной суп, наконец сок из высохшего куска арбуза – больше у Тефлона в холодильнике не осталось ничего. Попробуй как-нибудь выжать арбуз в стопку, если рефлексы твои уже не те. Считай, невозможно. Выколупывать арбузные семечки из водки тоже оказалось целое дело и привело к нарастанию взаимной неприязни.
Неприятность отчасти была в том, что и Свин, и Росни оба на Паолу положили глаз. Всякий вечер они обращались к Профану как к попечителю и запрашивали себе второй разбор.
– Она от мужиков старается отойти, – пытался сказать Профан. Свин от такого либо отмахивался, либо воспринимал как оскорбление Папику Году, старому своему начальнику.
Говоря по правде, Профану ничего не обламывалось. Хотя становилось трудно сказать, чего Паола хочет.
– Ты в каком это смысле, – говорил Профан. – Быть к тебе добр.
– Как Папик Год не был, – отвечала она. Вскоре он отказался и от попыток декодировать несколько ее бзиков. Временами она принималась излагать всевозможные дикие сказки о неверности, чуть-что-в-зубы, о пьяных издевательствах. Профан скатывал и пролопачивал, оббивал зубилом, драил железным ершом, красил и снова оббивал под началом Папика четыре года, а оттого поверил бы где-то половине. Половине потому, что женщина – лишь половинка того, у чего обычно есть две стороны.
Она всех обучила песенке. Сама ее узнала от авиадесантника, по-французски слинявшего от боевых действий в Алжире:
- Demain le noir matin,
- Je fermerai la porte
- Au nez des années mortes;
- J’irai par les chemins.
- Je mendierai ma vie
- Sur la terre et sur l’onde,
- Du vieux au nouveau monde…[7]
Он был коренаст и сложен, как сам остров Мальта: скала, непроницаемое сердце. С ним она провела всего ночь. А потом он отчалил в Пирей.
Я в самый черный час запру покрепче двери, мертвым годам нет веры – чуть свет уйду от вас. По миру я пойду, по волнам и по скалам – что новый свет, что старый…
Она показала Росни Гланду аккорды, и вот все они сидели вокруг стола на зябкой кухне Тефлона, а четыре газовых огонька на плите пожирали их кислород; и пели, пели. Когда Профан наблюдал за ее глазами – думал, она грезит о десантнике: вероятно, человеке бесполитичном и храбром, какими все вообще на войне бывают, – но он устал, вот и все, устал перемещать туземные деревни и поутру измысливать варварства похлеще тех, что творились F. L. N.[8] накануне ночью. На шее она носила Чудотворную Медаль (подаренную, быть может, каким-нибудь случайным моряком, кому напоминала добрую девочку-католичку еще из Штатов, где близость забесплатно – или за свадьбу?). Что она вообще за католичка? Профан, который сам католик наполовину (мама-еврейка), чья нравственность фрагментарна (ибо выводится из опыта, а того немного), не понимал, какие затейливые иезуитские аргументы привели ее к тому, чтоб сбежать с ним, отказываться делить с ним постель, но все равно просить его «быть к ней добрым».
Накануне Нового года они ночью отбились от кухни и забрели в кошерную закусочную в нескольких кварталах оттуда. А вернувшись к Тефлону, обнаружили, что Свина и Росни там нет: «Ушли бухать», – гласила записка. Внутри все было озарено рождественски, радио настроено на «В-О-Эл-Эн» и Пэта Буна в одной спальне, в другой грохот бросаемых предметов. Молодой паре как-то удалось наткнуться на затемненную комнату, а в ней эта кровать.
– Нет, – сказала она.
– В смысле, да.
Скрип, сказала кровать. Не успел никто сообразить:
Щелк, сказала «лейка» Тефлона.
Профан совершил то, что он него ожидалось: с ревом слетел с кровати, рука завершилась кулаком. Тефлон увернулся шутя.
– Будет, будет, – хмыкнул он.
Грубо нарушенное уединение – пустяк; но прерывание случилось в аккурат перед Большим Мигом.
– Ты не против, – говорил ему Тефлон. Паола спешила влататься.
– Наружу, в снег, – сказал Профан, – вот куда эта камера, Тефлон, отправляет нас.
– На: – открыл фотоаппарат, отдал Профану пленку, – будешь дуться из-за этого, как конский зад.
Профан взял пленку, а на попятный уже пойти не смог. Поэтому оделся и нахлобучил ковбойскую шляпу. Паола надела флотскую шинель, для нее великоватую.
– Вон, – вскричал Профан, – под снег. – Кой на самом деле там и был. Они успели на паром в Норфолк и сидели в верхнем салоне, пили черный кофе из картонных стаканчиков и смотрели, как снежные покровы немо хлопают о широкие иллюминаторы. Больше смотреть было не на что – лишь бичара на банке напротив да они сами. Где-то внизу бумкала и ворочалась машина, они ее чувствовали ягодицами, но ни он, ни она так и не придумали, что сказать друг дружке.
– Ты хотела остаться, – спросил он.
– Нет, нет, – вздрогнула она, между ними благоразумный фут потертой банки. У Профана не возникло порыва привлечь ее поближе. – Как решишь.
Мадонна, подумал он, у меня иждивенец завелся.
– Чего ты дрожишь. Тут же тепло вроде.
Она покачала головой, мол, нет (что бы это ни значило), не сводя взгляда с носков своих галош. Немного погодя Профан встал и вышел на палубу.
От снега, лениво падавшего на воду, 11 вечера напоминали сумерки или затмение. Над головой всякие несколько секунд взревывал гудок, спугивая всё со встречного курса. Однакож на этом рейде в конце концов будто ничего не было, лишь корабли, необитаемые, неодушевленные, шумят друг другу, что значит не более бурленья винтов или шипа снега по воде. И Профан тут совсем один.
Некоторые из нас боятся умереть; другие – человеческого одиночества. Профан боялся таких вот далей суши или моря, где не живет больше никто, кроме него самого. Он, похоже, вечно в такую забредает: свернешь за угол на улице, откроешь дверь на верхнюю палубу – и вот уже в чужих краях.
Но дверь у него за спиной открылась снова. Вскоре он почуял, как руки Паолы без перчаток скользнули ему подмышки, щека ее прижалась к его спине. Мысленный взор его ретировался, озирая их натюрморт, как смотрел бы посторонний. Но от Паолы сцена ни на гран не стала менее чужой. Так они и держались до другой стороны, паром скользнул к причалу, и лязгнули цепи, заныли зажигания машин, завелись моторы.
На автобусе они въехали в город, бессловесно; сошли у отеля «Монтичелло» и выступили к Восточной Главной искать Свина и Росни. В «Могиле моряка» было темно, впервые на памяти Профана. Должно быть, легавые закрыли.
Свина они отыскали по соседству, в «Честеровом Виталище Вахлака». Росни подсел лабать к банде.
– Балеха, балеха, – кричал Свин.
Около дюжины бывших служивых с «Эшафота» восхотели вечер встречи. Свин, назначив себя общественным распорядителем, выбрал «Сусанну Сквадуччи», итальянский комфортабельный лайнер, ныне на последних этапах постройки на верфях Ньюпорт-Ньюз.
– Опять в Ньюпорт-Ньюз? – (Решив не сообщать Свину о размолвке с Тефлоном.) Стало быть: снова йо-йошим. – Это пора прекращать, – сказал он, но его никто не слушал. Свин уже отплясывал похабный буги с Паолой.
III
Той ночью Профан спал у Свина, рядом со старыми паромными причалами, и спал он один. Паола столкнулась с одной Беатрис и отправилась ночевать к ней, кротко пообещав Профану, что составит ему пару на встречу Нового года.
Около трех Профан проснулся на кухонном полу с головной болью. Ночной воздух, люто холодный, сочился под дверь, и откуда-то снаружи до Профана доносился низкий настойчивый рык.
– Свин, – хрипло выдавил Профан. – Аспирин у тебя где. – Нет ответа. Профан ввалился в другую комнату. Свина в ней не было. Рык снаружи набрал угрозы. Профан подошел к окну и увидел Свина в переулке: он сидел на мотоцикле и газовал. Крохотными мерцающими остриями падал снег, переулок держал причудливый снежный свет сам по себе: сведя Свина к черно-белому шутовскому костюму, а древние кирпичные стены, присыпанные порошей, к безучастной серости. На Свине была вязаная шапочка вахтенного, натянутая на лицо до шеи, отчего голова его представляла собой сферу мертвой черноты. Вокруг него тучами вздымались клубы выхлопа. Профана передернуло. – Ты чего делаешь, Свин, – позвал он. Тот не ответил. Загадка или зловещее виденье Свина и его «харли-дейвидсона» одних в переулке в три часа ночи ни с того ни с сего напомнили Профану о Рахили, а думать о ней ему совсем не хотелось, сегодня ночью в пронизывающей холодрыге уж точно, с головной болью, когда в комнату крадется снег.
Рахиль Филинзер владела, еще в 54-м, этим своим «МГ». Папашин подарок. Обкатав его в гарантийном плавании по местности вокруг Главного центрального (где располагалась Папашина контора), познакомив с телефонными столбами, пожарными гидрантами и случайными пешеходами, она отогнала машину на лето в Кэтскиллз. Тут мелкая, насупленная и роскошная фигурой Рахиль устраивала на этом своем «МГ» тпру и ну всем кровожадным поворотам и вывертам Трассы 17, виляя его наглым задом мимо возов сена, ворчливых полуприцепов, старых открытых «фордов», набитых под завязку стриженными ежиком гномами-студиозусами.
Профан только списался с Флота и тем летом работал салатным поваренком в «Трокадеро Шлоцхауэра», в девяти милях от Либерти, Нью-Йорк. Начальником у него был некто Да Конью, безумный бразилец, который желал сражаться с арабами в Израиле. Однажды вечером перед открытием сезона в салоне «Фиеста», сиречь баре «Трокадеро», появился пьяный морпех с автоматом.30-го калибра в самоволочном своем вещмешке. Он не очень соображал, как к нему попало оружие: Да Конью предпочитал считать, что его деталь за деталью контрабандой вынесли с острова Пэррис – так бы поступила «Хагана». После значительного торга с барменом, которому тоже хотелось автомат, Да Конью в итоге восторжествовал, обменяв на него три артишока и баклажан. Свой приз Да Конью присовокупил к мезузе, прибитой над овощным холодильником, и сионистскому флагу, висящему за салатной стойкой. В следующие недели, пока старший повар смотрел в другую сторону, Да Конью собирал свой автомат, маскировал его салатом «айсберг», жерухой и бельгийским эндивием и понарошку расстреливал собравшихся в зале едоков.
– Тары-бары, тары-бары, – озвучивал он, недобро щурясь в прицел, – в самую мертвую точку тебе, Абдул Саид. Тары-бары, мусульманская свинья. – Автомат Да Конью был единственным на свете, который стрелял «тары-бары». Да Конью засиживался до начала пятого утра, чистя его, грезя о пустынях, похожих на лунные, о жарком шепоте ченгов, о йеменских девушках, чьи изысканные головы покрыты белыми платками, а чресла ноют от любви. Он не понимал, как американские евреи могут самовлюбленно отсиживать в этой зале одну трапезу за другой, когда всего лишь за полмира от них трупы их сородичей неумолимо заносит песками пустыни. Как ему сказать об этом бездушным желудкам? Воспалить их речами масла и уксуса, умолить пальмовой сердцевиной. У него один голос – голос автомата. Услышат ли они его, умеют ли вообще желудки слушать: нет. Ведь никогда не слышишь того, что тебя пробирает. Нацеленный, быть может, на любой пищеварительный тракт в костюме от «Харта, Шаффнера и Маркса», что похотливо урчит, не скрываясь, любой проходящей официантке, автомат этот – лишь предмет, направленный туда, куда может его навести любая неуравновешенная сила: но к какой ременной пряжке Да Конью стремился прежде всего: к Абдулу Саиду, пищеварительному тракту, себе самому? Чего спрашивать. Знал он лишь одно – что он сионист, страдает, смятен, безрассуден до того, что готов стоять по самый верх носков в крупном песке любого кибуца совсем другого полушария.
Профан задавался тогда вопросом, что это у Да Конью с этим его автоматом. Любовь к предмету, это для него новость. Когда он вскоре после обнаружил, что у Рахиль с ее «МГ» то же самое, ему поступили первые разведданные, что под розой что-то происходит, возможно – дольше и у большего числа людей, нежели ему хотелось бы думать.
Познакомился он с нею через «МГ», как и все с ней знакомились. Она его чуть не сбила. Однажды полуднем он выбрел из черного хода кухни с мусорным баком, переполненным листьями латука, который Да Конью счел некондиционным, и тут откуда-то справа до него долетел зловещий рык «МГ». Профан шел себе дальше, исполненный крепкой веры в то, что отягощенные ношей пешеходы обладают преимущественным правом перед автомобилями. И тут же его задний конец подрезало правое крыло машины. Та, к счастью, двигалась со скоростью всего 5 миль/час – не так быстро, чтобы сломать ему что-нибудь, но Профан вместе с мусорным баком и листиками латука полетел вверх кармашками, как огромный зеленый фонтан.
Они с Рахилью, оба в латучной листве, посмотрели друг на друга, сторожко.
– Как романтично, – сказала она. – Чего доброго, вы еще и мужчина моей мечты будете. Снимите этот листик с лица, чтоб я разглядела хорошенько. – (Как бы стаскивая шляпу – вспомнив свое место, – он снял лист.) – Нет, – сказала она, – вы не он.
– А может, – сказал Профан, – в следующий раз попробуем с фиговым.
– Ха, ха, – ответила она и с ревом укатила. Профан нашел грабли и принялся собирать мусор в кучу. Он размышлял: вот еще один неодушевленный предмет, который его чуть не убил. Он не был уверен, о Рахили это или о ее машине. Груду латука собрал обратно в мусорный бак и вывалил его за автостоянкой в овражек, служивший «Трокадеро» выгребной ямой. А когда возвращался на кухню, Рахиль подъехала снова. Аденоидный выхлоп «МГ» звучал так, что слышали, должно быть, аж в Либерти. – Поехали катнемся, але-Жоп, – позвала она. Профан прикинул, что запросто. Накрывать на ужин еще через два часа.
Через пять минут по Трассе 17 он решил: если вернется вообще в «Трокадеро» живым и неискалеченным, забудет о Рахили и далее станет интересоваться только девушками из тихой пехтуры. Машину она вела, как про́клятая на каникулах. У него не было сомнений: способности и свои, и машины она знает, но откуда ей, к примеру, известно перед поворотом с плохой обзорностью на двухрядке, что до встречного молоковоза окажется ровно столько, чтобы успеть юркнуть обратно на свою полосу с зазором в целую шестнадцатую дюйма?
Профан слишком боялся за свою жизнь, чтобы, как это с ним бывало обычно, робеть с девушкой. Он протянул руку, открыл ее сумочку, нашел сигарету, закурил. Рахиль не заметила. Ехала она целеустремленно и не сознавая, что рядом кто-то сидит. Заговорила лишь раз – сообщила ему, что сзади стоит коробка холодного пива. Он дымил ее сигаретой и не понимал, тянет ли его к самоубийству. Казалось, иногда он нарочно подставляется злонамеренным предметам, шлимазнуться до полного несуществования. Зачем он тут вообще? Потому что у Рахили славная жопка? Он глянул вбок на нее – подскакивает на кожаной обивке, синхронно с машиной; понаблюдал за не-слишком-уж-простым и не вполне гармоничным колебаньем ее левой груди, не затухавшим под черным свитером. Наконец заехали в заброшенную каменоломню. Вокруг валялись корявые куски камня. Он не знал, какой породы, но все – неодушевленные. По грунтовке они поднялись к плоскому участку в сорока футах над дном карьера.
День выдался неуютный. С безоблачных, небережных небес лупило солнце. Профан, толстый, потел. Рахиль сыграла в «А Ты Знаешь» нескольких ее знакомых пацанов, что ходили с ним в одну среднюю школу, и Профан проиграл. Она болтала обо всех свиданках, какие обломились ей этим летом, и все, похоже, – со старшекурсниками из колледжей «Плющевой Лиги». Профан время от времени поддакивал, до чего это прекрасно.
Говорила она и о Беннингтоне, ее альма-матери. Говорила о себе.
Рахиль происходила из Пятиградья на южном берегу Лонг-Айленда – района, состоящего из Мэлверна, Лоренса, Сидархёрста, Хьюлетта и Вудмиэра, а иногда Лонг-Бича и Атлантик-Бича, хотя никому ни разу не приходило в голову называть его Семиградьем. Хотя живут там отнюдь не сефарды, район, видать, подвержен некоему географическому инцесту. Дщерей удерживают в волшебных границах страны, где эльфийская архитектура китайских ресторанов, дворцов морепродуктов и синагог с полуэтажами частенько завораживает, как море, и они там бродят туда-сюда, как толпа Рапунцелей, застенчивых и темноглазых; а когда созреют, их усылают в горы и колледжи Северо-востока. Не на мужей охотиться (ибо в Пятиградье достичь определенного паритета возможно всегда – согласно ему славный мальчик может предназначаться кому-то в супруги уже в шестнадцать или семнадцать лет); но дабы им дарована была иллюзия как минимум «нагуляться» – столь необходимая для эмоционального развития девушки.
Сбегают лишь самые смелые. Чуть воскресный вечер, гольф окончен, негритянки-горничные, устранив беспорядок после вчерашней вечеринки, отправляются в Лоренс навестить родню, а до Эда Салливана еще не один час, кровь королевства сего истекает из их громадных жилищ, просачивается в автомобили и следует к деловым районам. Там же забавляют они себя среди вроде бы бескрайних просторов креветок-бабочек и яиц фу-янг; азиаты кланяются и улыбаются, и порхают в летних сумерках, а в голосах у них поют птицы лета. И с паденьем нощи настает краткий променад по улице; отцовский торс крепок и уверен в костюме от Дж. Пресса; дочерние глаза тайны за солнечными очками, оправленными стразами. И как имя свое ягуар уделил маминой машине, так узор своей шкуры он подарил брючкам, облекающим ее округлые бедра. Кто отсюда сбежит? Кому захочется?
Рахиль хотелось. Профан, чинивший дороги вокруг Пятиградья, ее понимал.
Когда солнце закатывалось, они почти уговорили коробку на двоих. Профан был пагубно пьян. Он выбрался из машины, забрел за дерево и нацелился на запад, с некоторым намереньем обоссать солнце и погасить его раз навсегда и все такое, ибо это ему отчего-то было важно. (Неодушевленные предметы могут делать что хотят. Не что они хотят, потому что вещи хотеть не могут; только люди. Но вещи делают то, что делают они, и вот поэтому Профан ссал на солнце.)
Оно село; словно Профан в итоге его погасил и жил себе дальше бессмертным, богом потемненного мира.
Рахиль за ним наблюдала, в любопытстве. Он застегнул ширинку и спотыкливо побрел обратно к пивной коробке. Осталось две банки. Он их откупорил и одну протянул Рахили.
– Я загасил солнце, – сказал он, – выпьем же за это. – Почти все он расплескал себе на рубашку.
Еще две мятые банки пали на дно карьера, за ними – пустая коробка.
Рахиль из машины не сдвинулась.
– Бенни, – один ноготь коснулся его лица.
– Чё?
– Ты будешь мне другом?
– Тебе, похоже, хватает.
Она опустила взор в карьер.
– А давай притворимся, что никто из нас не реален, – сказала она: – никакого Беннингтона, никакого Шольцхауэра, никакого Пятиградья. Только этот карьер: мертвые скалы, что были тут до нас и будут после.
– Зачем.
– Мир не таков разве?
– Тебя этому учат по геологии на первом курсе или что?
Она вроде как обиделась.
– Я это просто сама знаю… Бенни, – вскрикнула она – тихим вскриком… – Будь мне другом, вот и все.
Он пожал плечами:
– Пиши.
– Только не жди, что…
– Как дорога. Твоя мальчуковая дорога, которой я никогда не увижу, с ее Дизелями и пылью, с придорожными тавернами, салунами на перекрестках. Больше ничего. Как там западнее Итаки и южнее Принстона. В местах, где я не побываю.
Он почесал живот.
– Верняк.
Профан и дальше сталкивался с нею по меньшей мере раз в день все оставшееся лето. Разговаривали они всегда в машине, он – пытаясь подобрать отмычку к ее зажиганию в глазах под приспущенными веками, она – откинувшись за рулем справа и треща без умолку, только словами «МГ», неодушевленными словами, а прекословить им он не умел.
Вскоре то, чего он боялся, случилось – он околично впутался в любовь к Рахили и удивлялся лишь тому, почему этого не произошло раньше. Лежал ночами во времянке, курил в темноте и взывал к апострофу тлеющего кончика сигареты. Около двух с ночной смены возвращался обитатель верхней койки – некто Дюк Клин, прыщавый браво[9] откуда-то из Челси, и его всегда подмывало поговорить о том, сколько ему обламывается, а обламывалось ему, вообще-то, с горкой. Это Профана и убаюкивало. Однажды ночью он и впрямь наткнулся на Рахиль и Клина, мерзавца, запаркованных в «МГ» перед ее коттеджем. Отполз к себе в койку, не особо ощущая себя преданным, ибо знал, что Клин ни к чему особо не подобьется. Даже засыпать не стал, чтобы Клин удостоил его, придя, пошаговым отчетом о том, как он ее чуть не склеил, только не вполне. Как обычно, Профан уснул на середине.
Он так никогда и не проник ни за треп о ее мире, ни дальше него – о мире предметов желаемых или ценимых, в такой атмосфере Профан задыхался. В последний раз он ее видел ночью на День труда. Назавтра она уезжала. В тот вечер, перед самым ужином, кто-то спер автомат Да Конью. Тот метался весь в слезах, его разыскивая. Главный повар поставил на салаты Профана. Тому удалось замешать мороженую клубнику во французскую приправу, а рубленую печень в «Уолдорф» плюс нечаянно уронить две дюжины или около того редисок во фритюрницу для картошки (хотя их клиенты приняли с восторгом, когда он подал их невзирая – лень было искать замену). То и дело через кухню с топотом и весь в слезах проносился бразилец.
Возлюбленный автомат свой он так и не нашел. Осиротелого и нервно-истощенного, его на следующий день уволили. Сезон все равно закончился – поди знай, думал Профан, может, Да Конью однажды и сел на судно в Израиль, возиться там с кишками какого-нибудь трактора, стараясь забыть, как многие изможденные работяги за границей, какую-то любовь, оставшуюся в Штатах.
После разборки Профан отправился искать Рахиль. Она ушла, как его проинформировали, с капитаном Гарвардской команды арбалетчиков. Профан побродил вокруг времянки и нашел угрюмого Клина, нехарактерно беспартнерного на вечер. До полуночи они дулись в очко на все контрацептивы, которые Клин не использовал за лето. Числом около сотни. Профан занял 50, и ему поперла везуха. Когда он обчистил Клина, тот побежал занимать еще. Вернулся через пять минут, качая головой.
– Мне никто не поверил. – Профан одолжил ему несколько. А в полночь проинформировал Клина: тот на 30 в долгу. Клин озвучил уместный комментарий. Профан сгреб резинки в кучу. Клин бился головой о столешницу. – Он их никогда не использует, – сообщил он столу. – Вот в чем сучность-то. Даже за всю жизнь.
Профан опять прибрел к коттеджу Рахили. Со двора за домом услышал плеск и бульканье, обошел разузнать. Там она мыла машину. Но среди ночи. Мало того, она с машиной беседовала.
– Прекрасный ты жеребец, – услышал Профан, – обожаю тебя трогать. – Чё, подумал он. – Знаешь, каково мне, когда мы с тобой на дороге? Одни, вдвоем с тобой? – Она нежно возила губкой по переднему бамперу. – Ты так смешно отзываешься, дорогой, я знаю это наизусть. Как у тебя тормоза чуть влево тянут, как где-то на 5000 об/мин ты содрогаешься, когда возбужден. И масло жжешь, если на меня сердишься, правда? Я знаю. – И никакого безумия тебе у нее в голосе; так школьница может играть, хотя все равно, признал Профан, затейливо. – Мы всегда будем вместе, – ведя замшей по капоту, – и совсем не надо волноваться из-за того черного «бьюика», который мы сегодня обогнали. Фу: жирная, сальная мафиозная машина. Того и гляди труп из задней дверцы вылетит, а? А кроме того, ты такой угловатый, настоящий англичанин, такой весь твидовый – и ах, такой Плющевый, что мне тебя никогда не покинуть, дорогой мой. – Профана осенило, что сейчас его вырвет. Так на него действовали прилюдные проявления сантиментов. Она забралась за руль и откинулась на спинку, горло подставлено летним созвездиям. Профан собрался было подойти ближе, но тут увидел, как левая рука ее, вся бледная, поползла змеей ласкать рычаг переключения передач. Остановился посмотреть и заметил, как она его трогает. Только что от Клина, связь он уловил. Больше видеть ему не хотелось. Он иноходью перевалил холмик и углубился в леса, а когда вернулся в «Трокадеро» – не сумел бы в точности сказать, где его носило. Все коттеджи были темны. Контора еще открыта. Дежурный вышел. Профан порылся в ящиках стола, пока не нашел коробку кнопок. Вернулся к коттеджам и до трех часов ночи ходил по дорожкам между ними под звездами и на каждую дверь прикнопливал по контрацептиву Клина. Никто ему не помешал. Он себя чувствовал Ангелом Смерти, метящим кровью двери завтрашних жертв. Смысл мезузы – одурачить Ангела, чтоб он тебя обошел. На этих сотне или около того коттеджей мезузы Профан не увидел нигде. Тем хуже для них.
После лета, стало быть, пошли письма, его – грубые и полные не тех слов, ее – поочередно остроумные, отчаянные, страстные. Годом позже она выпустилась из Беннингтона и приехала в Нью-Йорк работать секретаршей в агентстве по найму, а поэтому он видел ее и в Нью-Йорке, раз-другой, когда бывал там проездом; и хотя думали они друг о друге наобум, хотя ее йо-йошная рука обычно занималась другими делами, время от времени прилетал незримый рывок пуповины, вот как сегодня ночью – мнемонически, возбуждающе, и он не понимал, насколько он сам себе мужик. Надо отдать ей должное хотя бы в одном – Рахиль никогда не называла это Отношениями.
– Что же тогда это, эй, – как-то раз спросил он.
– Секрет, – с ее улыбкой совсем ребенка, от коей, как от Роджерза и Хаммерстайна на 3/4, Профан весь трепетал и студенился.
По временам она его навещала, как сейчас, среди ночи, подобно суккубу, наметалась вместе со снегом. Нипочем было не узнать ему, как и то и другое не впускать внутрь.
IV
Как оказалось, всей новогодней вечеринке суждено было покончить с йо-йошеньем, по крайней мере – пока. Вечер встречи обрушился на «Сусанну Сквадуччи», развел ночную вахту бутылкой вина и впустил команду с эсминца в сухом доке (после некоторой предварительной перебранки) на борт.
Паола сперва не отлипала от Профана, который не сводил глаз с некоей телесно роскошной дамы в чем-то вроде меховой шубки – дама утверждала, что она адмиральская жена. Наличествовали портативный радиоприемник, шумизаторы, вино, вино. Росни Гланд решил влезть на мачту. Мачту недавно покрасили, но Росни лез, чем выше, тем больше походя на зебру, под ним болталась гитара. Достигши салинга, Росни сел, потрямкал на гитаре и запел с вахлацким выговором:
- Depuis que je suis né
- J’ai vu mourir des pères,
- J’ai vu partir des fréres,
- Et des enfants pleurer…
Опять этот дес. Прямо неотступен на этой неделе. С рожденья вижу тут (говорил он), как папы умирают, как братья уезжают и дети слезы льют…
– В чем незадача этого воздушно-десантного мальчика, – спросил у нее Профан, когда она впервые ему перевела. – Кто этого не видел. Бывает и по другим причинам, не только из-за войны. При чем тут война. Я в гуверовских трущобах родился, до войны.
– В том-то и дело, – сказала Паола. – Je suis né. Родиться. Больше ничего делать не нужно.
Голос Росни вливался в неодушевленный ветер, так высоко над головой. Что сталось с Гаем Ломбардо и «Былыми временами»?
В одну минуту 1956 года Росни был на палубе, а Профан – верхом на рангоутном дереве, поглядывая сверху вниз, как прямо под ним совокупляются Свин и адмиральша. Из присвоенного снегом неба спорхнула чайка, сделала круг, присела на выстрел в стопе от Профановой ладони.
– Йо, чайка, – сказал Профан. Чайка не ответила. – Ой, чувак, – сообщил Профан ночи. – Нравится мне, когда молодые люди вместе. – Он обозрел главную палубу. Паола исчезла. Все вдруг прорвало. Подале на улице взвыла сирена, вторая. На причал с ревом вырвались машины, серые «шеви» с надписями «ВМФ США» на бортах. Зажглись прожектора, по пирсу загоношились людишки в белых бесках и черно-желтых нарукавных повязках БП. Вдоль левого борта побежали трое бдительных бражников, сталкивая в воду сходни. К транспортным средствам на причале, чье количество дорастало уже почти до штатного автопарка, подкатил грузовик с радиоустановкой.
– Так, ладно, нижние чины, – заревели 50 ватт бестелесного голоса: – ладно, нижние чины. – Считай, больше сказать ему было нечего. Адмиральша заверещала, что это супруг, наконец-то ее поймал. Два или три прожектора пришпилили их на месте (во жгучем грехе), Свин пытался продеть тринадцать пуговиц своей синей робы в нужные петли, а это почти невозможно, если торопишься. С пирса – аплодисменты и хохот. Кое-кто из БП по-крысиному уже лез по швартовам. Служившие некогда на «Эшафоте», пробужденные от сна в подпалубных помещениях, ковыляли вверх по трапам, а Росни вопил:
– По местам стоять, отражать абордаж, – и размахивал гитарой, как абордажной саблей.
Профан на все это смотрел и отчасти волновался за Паолу. Искал ее взглядом, но прожектора все время юлили, портя освещение главной палубы. Опять пошел снег.
– Предположим, – молвил Профан чайке, коя ему моргала, – предположим, я Бог. – Он проелозил до площадки и лег на живот, а за край остались торчать лишь нос, глаза и ковбойская шляпа, как у горизонтального Килроя. – Был бы я Бог… – Он показал на одного БП; – Тяп, БП, кранты твоей жопе. – БП продолжал заниматься своим делом: лупил 250-фунтового старшину – специалиста по управлению Пентюха Пагано в живот дубинкой.
К автопарку на пирсе прибавилась скотовозка, на флоте так называют автозаки, сиречь брюнетки.
– Тяп, – сказал Профан, – скотовозка, езжай дальше и свались с конца пирса, – что та почти и сделала, но вовремя тормознула. – Пентюх Пагано, отрасти себе крылушки и улетай отсель. – Но последний удар в поддыхало надежно свалил Пентюха. БП оставил его лежать. Сдвинуть его с места можно только вшестером. – Что такое, – заинтересовался Профан. Морской птице все это надоело, она снялась курсом на ОБФ. Может, подумал Профан, Богу положено быть положительней, а не швыряться молниями все время. Он тщательно наставил палец. – Росни Гланд. Спой им эту алжирскую песню пацифистов. – Росни, оседлав верхний леер на мостике, сыграл вступло на басовой струне и запел «Синие замшевые ботинки», на манер Элвиса Пресли. Профан перевернулся на спину, моргая летящему снегу. – Ну почти, – сказал он – отчалившей птице, снегу. Шляпу надвинул на лицо, закрыл глаза. И вскоре уснул.
Шум внизу стихал. Выносили тела, складывали их в скотовозку. Вещательный грузовик, после нескольких выплесков самозаводки, выключили и угнали. Погасли прожектора, сирены задопплировали прочь, в сторону штаб-квартиры берегового патруля.
Проснулся Профан спозаранку, под тонким слоем снега и ощущая накат сильной простуды. Он наобум сполз вниз по обледенелым скобам, через ступеньку оскальзываясь. На судне никого не было. Он спустился внутрь согреться.
Вновь оказался он в кишках чего-то неодушевленного. Несколькими палубами ниже шум: ночная вахта, скорее всего.
– Нипочем одному не остаться, – пробормотал Профан, на цыпочках идя по коридору. На палубе он заметил мышеловку, осторожно взял ее и метнул вдоль прохода. Та ударилась в переборку и разрядилась с громким ТРЕСЬ. Шаги резко стихли. Затем возобновились, осмотрительней, прошли под Профаном и вверх по трапу, туда, где лежала мышеловка. – Ха-ха, – сказал Профан. Увильнул за угол, нашел другую мышеловку и сбросил ее в сходный люк. ТРЕСЬ. Шаги захлопали вниз по трапу.
Четыре мышеловки спустя Профан оказался на камбузе, где вахта устроила себе примитивную кают-компанию. Прикинув, что вахтенный еще несколько минут будет попутан, Профан поставил себе кипятиться на плитку котелок воды.
– Эй, – завопил вахтенный, двумя палубами ниже.
– Ой, ой, – сказал Профан. Он тишком выбрался с камбуза и пошел искать еще мышеловок. Одну нашел палубой выше, вышел наружу, подкинул ее повыше невидимой аркой. Хоть мышей спасает. Сверху раздался приглушенный треск и вопль. – Мой кофе, – бормотнул Профан, перескакивая вниз через две ступеньки. В кипящую воду он бросил горсть помолки и выскользнул через другую дверь, едва не столкнувшись при этом с ночным вахтенным, который крался с мышеловкой, болтавшейся на левом рукаве. В такой близи, что Профан разглядел у этого вахтенного терпеливое лицо мученика. Тот вошел на камбуз, и Профана там не стало. Он поднялся на три палубы и только оттуда услышал рев с камбуза. – Что еще? – Он забрел в коридор, куда выходили пустые каюты. Нашел мелок, забытый сварщиком, написал «СУСАННУ СКВАДУЧЧИ ВО ВСЕ ДЫРЫ» и «ДОЛОЙ ВАС ВСЕХ БОГАТАЯ СВОЛОЧЬ» на переборке, подписал «ФАНТОМ», и ему получшело. Кто поплывет на этой штуке в Италию? Председатели советов директоров, кинозвезды, депортированные вымогатели, может. – Сегодня, – мурлыкнул Профан, – сегодня ночью, Сусанна, ты вся моя. – Его, чтоб всю разметить, чтоб в ней грохать мышеловки. Ни один оплаченный пассажир ей такого никогда не сделает. Профан фланировал по коридору, собирая мышеловки.
Снова у камбуза он принялся разбрасывать их в разные стороны.
– Ха, ха, – произнес ночной вахтенный. – Валяй, шуми. Я пью твой кофе.
И впрямь. Профан рассеянно взвесил на руке оставшуюся мышеловку. Она сработала, зажав ему три пальца между первой и второй костяшками.
Что мне делать, задался он вопросом, заорать? Нет. Ночной вахтенный и без того сильно ржал. Стиснув зубы, Профан отодрал от руки мышеловку, вновь зарядил ее, швырнул в иллюминатор на камбуз и сбежал. Уже выскочил на пирс, и тут получил снежком в затылок, от чего слетела шляпа. Он нагнулся за ней и подумал было вернуть бросок. Нет. Он побежал дальше.
Паола была у парома, ждала. Взяла его под руку, когда они заходили на борт. Он сказал только:
– Мы когда-нибудь сойдем с этого парома?
– Ты весь в снегу. – Она дотянулась его счистить, и он почти ее поцеловал. От холода его мышеловочная травма онемела. Поднялся ветер, от Норфолка. На этом переходе они оставались внутри.
Рахиль его настигла на автостанции в Норфолке. Он сгорбился рядом с Паолой на деревянной лавке, стертой до мертвенной бледности и сальности поколением случайных задов, два билета в один конец до Нью-Йорка, Нью-Йорк, заткнуты изнутри в ковбойскую шляпу. Глаза у него были закрыты, он пытался спать. Только его начало сносить, как по громкой связи вызвали его имя.
Он тут же понял, даже толком не проснувшись, кто это должен быть. Просто по наитию. Он о ней думал.
– Дорогой Бенни, – сказала Рахиль. – Я обзвонила все автостанции в стране. – В трубке фоном звучала вечеринка. Новогодняя ночь. А там, где он, лишь старые часы, время показывать. Да дюжина бездомных, съежились на деревянной скамье, стараются уснуть. Дожидаясь дальнобойного автобуса, ни «Борзого», ни «Путьдорожного». Он смотрел на них, не мешая ей говорить. Она говорила:
– Возвращайся домой. – Единственная, кому он такое позволял, за вычетом внутреннего голоса, от коего скорей бы отрекся как от блудного, нежели к нему прислушался.
– Ты знаешь… – попытался сказать он.
– Я пришлю тебе денег на автобус.
Прислала бы.
По полу к нему подтащился гулкий, блямкающий лязг. Росни Гланд, угрюмый и сплошь кости, волок за собой гитару. Профан бережно ее перебил.
– Вот пришел мой друг Росни Гланд, – сказал он, чуть ли не шепотом. – Он хотел бы спеть тебе песенку.
Росни ей спел старую песню Депрессии, «В скитаньях». Угри есть в океане, и в море их родня, а рыжая подруга обмишулила меня…
У Рахили волосы были рыжие, в прожилках ранней седины, такие длинные, что она их могла одной рукой отвести, поднять над головой и уронить вперед на долгие глаза. Что для девушки в 4ʹ10ʹʹ без туфель – жест нелепый; или должен им быть.
Он чувствовал этот незримый рывок струны пуповины у себя по миделю. Подумал о длинных пальцах, сквозь которые, быть может, ему и удастся ловить взглядом синее небо, изредка.
А я, похоже, никогда не брошу.
– Она тебя хочет, – сказал Росни. Девушка в будке Информации хмурилась. Широкая в кости, пестрая лицом: девушка откуда-то не из города, глаза ее грезили об оскалах радиаторов «бьюика», о шаффлборде в какой-нибудь придорожной таверне.
– Я тебя хочу, – сказала Рахиль. Он подвигал подбородком по микрофону трубки, скрежеща трехдневной щетиной. Подумал, что где-то аж на севере, вдоль 500 миль подземного телефонного кабеля, должны быть земляные черви, слепые тролли какие-нибудь, подслушивают. Тролли много волшбы знают: а могут они менять слова, подражать голосам? – Значит, так и будешь в дрейфе, – сказала она. За нею в глубине кто-то блевал, а те, кто смотрел, смеялись, истерически. Джаз на проигрывателе.
Ему хотелось сказать: Господи, чего мы только не желаем. Он сказал:
– Как вечеринка.
– Она у Рауля, – ответила она. Рауль, Сляб и Мелвин – это из компашки недовольных, на которую кто-то навесил ярлык «Цельная Больная Шайка». Полжизни они проводили в одном баре нижнего Уэст-сайда, под названием «Ржавая ложка». Он подумал о «Могиле моряка» и большой разницы не приметил. – Бенни. – Она никогда не плакала, он ни разу не помнил. Его это встревожило. Но, может, прикидывается. – Чао, – сказала она. Этот фуфлыжный, Гренич-Деревенский способ избегнуть прощания. Он повесил трубку.
– Славная там драчка, – сказал Росни Гланд, хмурый и красноглазый. – Старина Фортель так нарезался, что взял и укусил в жопу морпеха.
Если сбоку посмотреть на планету, что болтается по кругу на своей орбите, рассечь солнце зеркалом и вообразить бечевку, все это похоже на йо-йо. Самая дальняя от солнца точка называется апогелий. Точка, самая дальняя от руки с йо-йо, называется, по аналогии, апохир.
Той ночью Профан и Паола уехали в Нью-Йорк. Росни Гланд вернулся на судно, и Профан его больше никогда не видел. Свин отвалил на «харли», пункт назначения неизвестен. В «борзом» присутствовала одна юная пара, которая, едва остальных пассажиров сморил сон, имелась на заднем сиденье; один торговец карандашными точилками, видевший все территории страны, а посему способный сообщить интересную информацию о любом городе, в какой бы ни случилось ехать; и четыре младенца, всякий – с мамашей-неумехой, – размещенные на стратегических позициях по всему автобусу, они лепетали, ворковали, блевали, практиковали самоудушение, пускали слюни. Минимум один умудрился орать все двенадцать часов пути.
Примерно когда они въехали в Мэриленд, Профан решил с этим покончить.
– Не то чтоб я пытался от тебя избавиться, – вручая ей билетный конверт с адресом Рахили простым карандашом, – но не знаю, сколько буду в городе. – Впрямь не знал.
Она кивнула:
– Значит ты влюблен, что ли.
– Она хорошая женщина. Устроит тебя на работу, найдет, где пожить. Не спрашивай, любовь ли у нас. Слово ничего не значит. Вот ее адрес. Прямо там можешь сесть на МСТ[10] до Уэст-сайда.
– Чего ты боишься.
– Спи давай. – Она дала, на плече у Профана.
На станции 34-й улицы, в Нью-Йорке, он кратко ей козырнул.
– Могу задержаться. Но надеюсь, нет. Все сложно.
– Мне ей сказать…
– Она и так знает. В том-то и беда. Тут ничего ей не скажешь – не скажу, – чего б она не знала.
– Позвони мне, Бен. Пожалуйста. Может.
– Ну да, – сказал ей он, – может.
V
И вот так в январе 1956-го Бенни Профан снова объявился в Нью-Йорке. В город он приехал, цепляясь за фалды ложной весны, нашел себе матрас в центре, в ночлежке под названием «Наш дом», а подальше от центра, в киоске, – газету; допоздна в тот же вечер побродил по улицам, изучая под фонарями объявления. Как обычно, никому конкретно он не требовался.
Если бы здесь еще кто-нибудь его помнил, они бы сразу заметили, что Профан не изменился. Все такой же мальчишка, похожий на амебу, мягкий и толстый, волосы обрезаны коротко и растут клочками, глаза маленькие, как у поросенка, и расставлены слишком широко. Дорожные работы ничем не улучшили Профана снаружи, да и внутри – тоже. Хотя улица присвоила себе немалую часть Профанова возраста, она и он остались друг дружке чужими во всем. Улицы (дороги, круговые развязки, квадратные площади, плацы, проспекты) ничему его не научили: он не мог работать с теодолитом, подъемным краном, ковшовым погрузчиком, не умел класть кирпич, правильно натянуть мерную ленту, спокойно держать нивелирную рейку, даже машину водить не научился. Он ходил пешком; ходил, как ему думалось иногда, по проходам яркого гигантского супермаркета, а единственная функция его – хотеть.
Однажды утром Профан проснулся рано, снова уснуть не сумел и ни с того ни с сего решил провести день, как йо-йо, катаясь на подземке взад-вперед под 42-й улицей, от Таймз-скуэр до Главного центрального и наоборот. Он добрался до умывальни «Нашего дома», по пути запнувшись об два матраса. Бреясь, порезался, лезвие не вытаскивалось, и он раскроил себе палец. Залез под душ смыть кровь. Краны не поворачивались. Когда наконец отыскал работающий душ, вода потекла то горячая, то холодная, в случайной последовательности. Профан поплясал, завывая и дрожа, поскользнулся на бруске мыла и чуть не свернул себе шею. Вытираясь, разорвал пополам истрепанное полотенце, отчего оно стало бесполезным. Майку натянул задом наперед, десять минут застегивал ширинку, а еще пятнадцать ремонтировал шнурок, который порвался, пока он его завязывал. Все остатки его утренних песен были безмолвными словами проклятий. Не то чтоб он устал или координация заметно подводила. Дело лишь в том, что́ он, будучи шлемилем, знал не первый год: неодушевленные предметы и он не могли сосуществовать в мире.
На местном с Лексингтон-авеню Профан поехал на Главный центральный. Так уж вышло, что вагон, в который он сел, наполнен был всяким родом потрясающе роскошных красоток: секретаршами по пути на работу и малолетней тюремной наживкой – в школу. Чересчур, чересчур. Профан свисал с поручня, ослабнув. Ежелунно его окатывали эти огромные валы неизбирательного блудолюбия, и соответственно им все женщины определенной возрастной группы и фигурных очертаний становились немедленно и невозможно желанны. Из таких приступов он выныривал с по-прежнему осциллирующими глазными яблоками и сожалением, что шея его неспособна вращаться полные 360°.
Челнок после утреннего часа пик почти пуст, как замусоренный пляж после того, как все туристы разъехались по домам. В часы между девятью и полуднем постоянные жители снова всползают к себе на променад набережной, робкие и неуверенные. С восхода всевозможные толстосумы наполняли пределы этого мира впечатлением лета и жизни; ныне же спящие бродяги и старушки на пособиях, доселе незаметные, утверждают свое некое право собственности и падение осеннего сезона.
На своем одиннадцатом или двенадцатом транзите Профан уснул и увидел сон. Ближе к полудню разбудили его три пуэрториканских пацана прозваньями Толито, Хосе и Чучка, сокращение от Кукарачито. Они разыгрывали такой номер, на деньги, хоть и знали, что подземка по утрам среди недели no es bueno[11] в смысле танцев и бонгов. Хосе таскал с собой кофейную банку: перевернутой она служила для оттарабанивания аккомпанемента их буйным меренге и бейонам, а полой стороной вверх – для получения от благодарной аудитории пенни, проездных жетонов, жевательной резинки, плевков.
Профан проморгался и посмотрел, как они там джазуют, ходят колесом, обезьянничают кадреж. Они раскачивались на поручнях, елозили по шестам; Толито швырял семилетнего Чучку по всему вагону, как бобовый пуф, а за всем этим, полиритмично долбя под дребезг челнока, Хосе на своем жестяном барабане, руки и кисти вибрируют за пределами стойкости зрения, а во все зубы – неустанная улыбка шириной с целый Уэст-сайд.
Они пошли с банкой, когда поезд подъезжал к Таймз-скуэр. Профан закрыл глаза, не успели они до него дойти. Уселись напротив, считая выручку, ноги болтаются. Чучка в середине, двое других пытались столкнуть его на пол. В вагон вошли два подростка из их района: черные твиловые штаны, черные рубашки, черные бандовые куртки, на спинах стекающим красным выписано «БАБНИКИ». Всякое движение среди троицы резко прекратилось. Они уцепились друг за друга, распахнувши глаза пошире.
Чучка, детка, сдержать в себе ничего не смог.
– Maricón![12] – с ликованьем завопил он. Глаза Профана раскрылись. Набойки мальчишек постарше процокали мимо, равнодушно и стаккатно, в следующий вагон. Толито возложил руку на голову Чучки, стараясь вмять его в пол, чтоб не отсвечивал. Тот вывернулся. Двери закрылись, челнок снова тронулся к Главному центральному. Троица обратила свое внимание на Профана.
– Эй, дядя, – сказал Чучка. Профан наблюдал за ним, полусторожко.
– А чего это, – сказал Хосе. Кофейную банку он рассеянно напялил себе на голову, где она съехала ему на уши. – Чего ты на Таймз-скуэр не вышел.
– Он спал, – сказал Толито.
– Он йо-йо, – сказал Хосе. – Вот увидишь. – На миг они забыли Профана, переметнулись по вагону вперед и сыграли свой номер. Когда поезд снова отходил от Главного центрального, возвратились.
– Видишь, – сказал Хосе.
– Эй, дядя, – сказал Чучка, – чего это.
– Ты без работы, – сказал Толито.
– Пошел бы на аллигаторов охотиться, как мой брат, – сказал Чучка.
– Брат Чучки из дробовика их стреляет, – сказал Толито.
– Если тебе работа нужна, надо на аллигаторов охотиться, – сказал Хосе.
Профан почесал живот. Посмотрел в пол.
– То постоянка, – спросил он.
Подземка подъехала к Таймз-скуэр, изрыгнула пассажиров, приняла внутрь еще, захлопнула двери и завизжала прочь по тоннелю. Прибыл еще один челнок, по другому пути. В буром свете мотылялись тела, громкоговоритель объявлял челноки. Час обеда. Станция подземки зажужжала, наполнилась человечьим шумом и движеньем. Гуртами возвращались туристы. Пришел другой поезд, открыл, закрыл, пропал. Давка на деревянных перронах росла, вместе с аэром лишений, голода, тягости мочевых пузырей, удушья. Вернулся первый челнок.
В толпе, втиснувшейся внутрь на сей раз, была юная девушка в черном пальто, волосы длинно свисали поверх. Она обыскала четыре вагона, пока не нашла Чучку, сидевшего рядом с Профаном, наблюдавшего за ним.
– Он хочет помогать Анхелю бить аллигаторов, – сообщил ей Чучка. Профан спал, лежа на сиденье по диагонали.
Во сне он был совсем один, как обычно. Шел по какой-то улице ночью, где живого ничего, кроме его собственного поля зрения. Непременная ночь на этой улице. Фонари недрожко мерцали на гидранты; на крышки люков, валявшиеся по всей улице. Там и сям неоновые вывески выписывали по складам слова, которых он бы, проснувшись, не вспомнил.
Все это как-то увязывалось с историей, которую он где-то слышал, о мальчике, родившемся с золотым винтом вместо пупка. Двадцать лет ходит по врачам и специалистам всего света, стараясь от этого винта избавиться, и безуспешно. В конце концов на Гаити сталкивается с лекарем вуду, и тот дает ему вонючее снадобье. Мальчик его выпивает, засыпает, и ему снится сон. Во сне этом он оказывается на улице, освещенной зелеными фонарями. По инструкции ведуна он дважды сворачивает направо и раз налево от своего начала координат, находит растущее у седьмого уличного фонаря дерево, все увешанное разноцветными воздушными шариками. На четвертой ветке сверху висит красный; мальчик его протыкает, внутри – отвертка с желтой пластмассовой ручкой. Отверткой этой он выкручивает винт из живота и, как только это происходит, просыпается. Смотрит себе в пупок – винта нет. Двадцатилетнее проклятье наконец спало. Ошалев от радости, он вскакивает с кровати, и у него отваливается жопа.
Профану, в одиночестве на улице, всегда казалось, что и он, похоже, чего-то ищет, дабы факт его собственного демонтажа стал достоверен, как у любой машины. Всегда именно в этом месте начинался страх: именно здесь все превращалось в кошмар. Потому что теперь, если он пойдет по улице и дальше, не только жопой, но и руками, ногами, губкой мозга и часами сердца придется захламить мостовую, разбросать их между крышками люков.
Дом ли это – ртутно-освещенная улица? Возвращается ли он, как слон, на свое кладбище – лечь там и вскоре стать слоновой костью, в чьей толще спят, непроявленно, изысканные очертания шахматных фигур, спиночесных палок, полых ажурных китайских сфер, гнездящихся одна в другой?
Больше не о чем было ему сновидеть; вот и все: Улица. Вскоре он проснулся, не найдя ни отвертки, ни ключа. Проснулся прямо в лицо девушке, нос к носу. Фоном стоял Чучка, ноги напряженно чуть расставлены, голова поникла. В паре вагонов от него, на ходу перекрывая грохот подземки на стрелках, слышался металлический треск Толито по кофейной банке.
Лицо у нее было молодое, мягкое. На одной щеке – бурая родинка. Девушка разговаривала с ним, не успели глаза его открыться. Хотела, чтобы он пошел с нею домой. Звали ее Хосефина Мендоса, она сестра Чучки, живет в спальных районах. Она должна ему помочь. Он понятия не имел, что происходит.
– Чё, дама, – сказал он, – чё.
– Вам тут, что ли, нравится, – воскликнула она.
– Нет, дама, не нравится, – сказал Профан. Поезд направлялся к Таймз-скуэр, битком. Две старухи, после закупок в «Блуминдейле», стояли и враждебно пялились на них из головы вагона. Фина заплакала. Остальные детки ринулись обратно, распевая. – На помощь, – сказал Профан. Он не знал, кого призывает. Проснулся влюбленным во всех женщин города, хотел их всех: а перед ним та, кто хочет забрать его домой. Челнок въехал на Таймз-скуэр, двери распахнулись. Единым махом, лишь наполовину сознавая, что делает, он подхватил одной рукой Чучку и выбежал в двери: Фина, с тропическими птицами, что выглядывали с зеленого платья, стоило разлететься полам ее черного пальто, следом, сцепившись руками с Толито и Хосе в линию. Они пробежали через всю станцию, под цепью зеленых огней, Профан размашисто и неспортивно цеплял мусорные урны и автоматы с колой. Чучка оторвался и короткими перебежками рванул через полуденную толпу.
– Луис Апарисио, – верещал он, скользя к какой-то личной домашней базе: – Луис Апарисио, – чиня раздрай и смятенье в отряде гёрлскаутов. Вниз по лестнице, к местному из центра, поезд ждал, Фина с детьми сели; а когда в двери сунулся Профан, они закрылись, зажав его посреди. Глаза у Фины распахнулись, совсем как у брата. Испуганно вскрикнув, она схватила Профана за руку, потащила на себя – и случилось чудо. Двери снова открылись. Она сгребла его вовнутрь, в свое тихое поле силы. Он понял сразу: здесь, пока во всяком случае, Профан-шлемиль может двигаться проворно и уверенно. Всю дорогу домой Чучка распевал «Tienes Mi Corazón»[13], песню про любовь, которую однажды услышал в кино.
Жили они на севере, в 80-х, между Амстердам-авеню и Бродуэем. Фина, Чучка, мать, отец и еще один брат по имени Анхель. Иногда приходил и оставался ночевать на полу в кухне друг Анхеля Херонимо. Старик сидел на пособии. Мать влюбилась в Профана, не сходя с места. Ему выделили ванну.
Назавтра Чучка нашел его там, спящим, и пустил холодную воду.
– Боже-Иисусе, – заорал Профан, отфыркиваясь и пробуждаясь.
– Дядя, иди ищи работу, – сказал Чучка. – Так Фина говорит. – Профан подпрыгнул и погнался за Чучкой по маленькой квартире, с него повсюду текло. В гостиной запнулся об Анхеля и Херонимо, которые лежали, пили вино и беседовали о девушках, за которыми пойдут сегодня наблюдать в Риверсайд-парк. Чучка сбежал, хохоча и оря: – Луис Апарисио. – Профан растянулся носом в пол.
– Выпей вина, – сказал Анхель.
Несколько часов спустя все они, спотыкаясь, скатились по лестнице старого бурокаменного дома, до ужаса пьяные. Анхель и Херонимо спорили, не слишком ли холодно девушкам гулять в парке. Направились на запад по середине улицы. Небо было пасмурно и уныло. Профан все время втыкался в машины. На углу они вторглись в тележку с хот-догами и выпили пинья-колады, чтобы протрезветь. Не помогло. Добрались до Риверсайд-драйва, где Херонимо рухнул. Профан и Анхель его подняли и побежали через дорогу, держа его, как таран, вниз по склону и в парк. Профан запнулся о камень, и полетели все втроем. Лежали на мерзлой траве, а компания детишек в толстых шерстяных пальто бегала над ними взад-вперед, играя в подай-поймай ярко-желтым бобовым мячиком. Херонимо запел.
– Дядя, – сказал Анхель, – вон одна. – Она прогуливала злобного пуделя с мерзкой мордой. Молодая, длинные волосы плясали и мерцали у ворота пальто. Херонимо оборвал песню, чтобы произнести:
– Coño[14], – и пошевелить пальцами. После чего продолжил, только теперь пел ей. Она ни одного из них не заметила, а направилась прочь от центра, безмятежная, улыбаясь нагим деревьям. Глаза их следили за нею, пока не скрылась из виду. Им стало грустно.
Анхель вздохнул.
– Так много, – сказал он. – Так много миллионов и миллионов девушек. И здесь в Нью-Йорке, и в Бостоне, я там как-то раз бывал, и в тысячах других городов… Я от этого падаю духом.
– И в Джёрзи тоже, – сказал Профан. – Я работал в Джёрзи.
– В Джёрзи много чего хорошего, – сказал Анхель.
– На дороге, – сказал Профан. – Все они были в машинах.
– Мы с Херонимо работаем в канализации, – сказал Анхель. – Под улицей. Там ничего не увидишь.
– Под улицей, – повторил Профан через минуту: – под Улицей.
Херонимо перестал петь и рассказал Профану, как оно там. Помнит ли он крокодильчиков? В прошлом году, а может, в позапрошлом детки по всему Нуэва-Йорку покупали себе домой крокодильчиков. «Мэйсиз» ими торговали по пятьдесят центов, и каждому ребенку, судя по всему, такого было надо непременно. Но вскоре они детям надоели. Некоторые выпускали их на улицу, а большинство просто смывало в унитазы. И эти-то выросли и размножились, питаясь крысами и отходами, поэтому теперь перемещались по всей канализационной системе, большие, слепые, альбиносы. Внизу там их бог знает сколько. Некоторые стали людоедами, ибо сожрали всех крыс поблизости, либо же те в ужасе разбежались.
После прошлогоднего сточного скандала Управление врубило добросовестности. Созвали добровольцев – спускаться в канализацию с ружьями и от аллигаторов избавляться. Вызывались немногие. А те, кто вызвался, вскоре бросали. Они с Анхелем, гордо сообщил Херонимо, работают там на три месяца больше всех остальных.
Профан весь вдруг протрезвел.
– Им еще нужны добровольцы, – медленно произнес он. Анхель запел. Профан перекатился на живот и зыркнул на Херонимо. – Эй?
– Еще б, – сказал Херонимо. – Ты из ружья когда-нибудь стрелял?
Профан ответил да. Он не стрелял никогда – и не будет, уж на уровне улицы точно. Но ружье под улицей, под Улицей, может, и ничего. Себя убить может, но, глядишь, обойдется. Попробовать не мешает.
– Поговорю с мистером Цайтзюссом, он начальник, – сказал Херонимо.
Бобовый мячик на секунду весело и ярко завис в воздухе.
– Смотри, смотри, – закричали дети: – смотри, как падает!
Глава вторая
Цельная Больная Шайка
I
Профан, Анхель и Херонимо бросили наблюдать девушек около полудня и оставили парк в поисках вина. Час или около того спустя Рахиль Филинзер, Профанова Рахиль, миновала место, которое они покинули, по пути домой.
Ничем не описать, как она шла, разве что – храбро и чувственно влеклась: словно по нос в сугробах, однакож на встречу с возлюбленным. Она вышла в мертвую точку центра торгового пассажа, серое пальто слегка трепетало на ветерке с джёрзийского побережья. Высокие каблуки били всякий раз точно и аккуратно в Х-ы решетки в середине пассажа. Полгода уже в городе – этому она, по крайней мере, научилась. Теряла каблуки, а время от времени – и выдержку, в процессе; но теперь попадала хоть вслепую. С решетки она не сходила, чтобы повыпендриваться. Перед собой.
Рахиль трудилась анкетером, она же кадровичка, в бюро по трудоустройству в центре города; в данный момент возвращалась со встречи в Ист-сайде с неким Шелхом Шёнмахером, Д. М.[15], пластическим хирургом. Шёнмахер был искусник и взлетел высоко; располагал двумя ассистентами, из коих одна секретарша/администратор/медсестра с невозможно жеманным носиком retroussé[16] и тысячами веснушек, и все это Шёнмахер сотворил сам. Веснушки нататуированы, девушка – его любовница; прозываемая, благодаря некой ассоциативной причуди, Ирвинг. Вторым ассистентом был малолетний преступник по имени Окоп, развлекавшийся между приемами тем, что метал скальпели в именную дощечку, презентованную его нанимателю Объединенным еврейским призывом. Дела велись в модной путанице, сиречь кроличьем садке комнат в жилом здании между Первой авеню и Йорк, на краю Немецкого квартала. Соответственно месторасположению из скрытой системы динамиков непрерывно ревела Brauhaus[17] -ная музыка.
Явилась она в десять утра. Ирвинг велела ей подождать; она подождала. Доктор сегодня утром занят. Здесь такая сутолока, прикинула Рахиль, потому что нос после операции заживает четыре месяца. А потом настанет июнь; это значит, что множество хорошеньких еврейских девушек, ощущавших себя совершенно женибельными, если б не уродский нос, теперь смогут выйти на охоту за мужьями на различных курортах, все с единообразными носовыми перегородками.
Рахиль было противно – ее теория заключалась в том, что эти девушки шли на операцию не столько из косметических побуждений, а потому, что нос крючком есть признак еврея, вздернутый же – признак «белой кости», сиречь Белого Англо-Саксонского Протестанта, в кино и рекламе.
Она устроилась поудобнее, наблюдая за пациентами, проходившими через приемную, и не очень стремясь повидаться с Шёнмахером. Один вьюноша с чахлой бороденкой, которая никак не скрывала безвольного подбородка, то и дело сконфуженно поглядывал на нее влажными глазами, по-над простором безучастного коврового покрытия. Девушка с марлевым клювом, глаза закрыты, вся оползла, сидя на диване с родителями по обоим флангам, а те совещались шепотом о стоимости.
Прямо напротив Рахили на другой стене – зеркало, высоко, а под ним – полка, державшая на себе часы рубежа веков. Двойной лик циферблата висел на четырех золотых аркбутанах над путаницей механизма, заключенного в прозрачное шведское свинцовое стекло. Маятник качался не взад-вперед, а устроен был в форме диска, параллельного полу и движимого шпинделем, параллельным стрелкам на шести часах. Диск делал четверть оборота в одну сторону, затем четверть оборота в другую, всякое реверсированное кручение на шпинделе продвигало регулятор хода на риску. На диске были установлены два бесенка или чертика, выкованные из золота, замершие в фантастических позах. Движения их отражались в зеркале, вместе с окном за спиной у Рахили, тянувшимся от пола до потолка и являвшим ветви и зеленую хвою сосны. Ветви метались туда-сюда на февральском ветру, непрестанные и мерцающие, а перед ними два беса исполняли свой метрономный танец, под вертикальным строем золотых шестерней и храповиков, анкеров и пружин, что поблескивали тепло и весело, ни дать ни взять люстра в бальной зале.
Рахиль смотрела в зеркало под углом 45°, поэтому ей открывался вид и на лик часов, повернутый к комнате, и на другую сторону, отраженную в зеркале; вот время и обратное время, сосуществуют, отменяя друг друга в точности. Много ли таких реперных точек разбросано по всему свету, быть может, лишь в таких вот узлах, как эта приемная, где размещается мигрирующее народонаселение несовершенных, неудовлетворенных; равны ли реальное время плюс виртуальное, оно ж зеркальное, время нулю и тем самым служат ли некоей полупонимаемой нравственной задаче? Или же считается только зеркальный мир; лишь обещание того сорта, что вогнутость переносицы либо выступ дополнительного хряща на подбородке означают такое обращение злосчастия, что мир измененного отныне будет жить по зеркальному времени; работай и люби при зеркальном свете и будь лишь, пока смерть не остановит тиканье сердца (музыку метронома) тихонько при свете, что прекратит вибрировать, танцем бесенка под личными люстрами столетия…
– Мисс Филинзер. – Ирвинг, улыбаясь от входа в ризницу Шёнмахера. Рахиль поднялась, захватив сумочку, миновала зеркало и поймала взгляд искоса на собственную двойницу в его районе, прошла в дверь предстать пред врачом, ленивым и враждебным за почковидным столом. Перед ним лежали счет и копия.
– Кредит мисс Харвиц, – произнес Шёнмахер.
Рахиль открыла сумочку, вытащила рулончик двадцаток, выронила их поверх бумаг.
– Считайте, – сказала она. – Это остаток.
– Потом, – сказал врач. – Сядьте, мисс Филинзер.
– Эсфирь подчистую разорена, – сказала Рахиль, – и у нее не жизнь, а сущий ад. У вас же тут…
– …злостный грабеж, – сухо произнес он. – Сигарету.
– У меня свои. – Она присела на краешек стула, оттолкнула прядь-другую волос, упавших на лоб, поискала сигарету.
– Торгуем человечьим тщеславием, – продолжал Шёнмахер, – плодим заблуждение, что красота – не в душе, что ее можно купить. Да… – его рука выметнулась с тяжелой серебряной зажигалкой, тонкий огонек, голосом гавкнул… – ее можно купить, мисс Филинзер, я ее продаю. На себя я даже не смотрю как на необходимое зло.
– Вы обходимы, – сказала она сквозь нимб дыма. Глаза ее сверкали, как скаты соседних зубьев пилы. – Вы поощряете их продаваться, – сказала она.
Он посмотрел на чувственную дугу ее собственного носа.
– Вы ортодоксальны? Нет. Консервативны? Среди молодежи таких никогда нет. У меня родители были ортодоксы. Они полагают, я полагаю, что, кем бы ни был отец, коль скоро мать твоя еврейка, еврей и ты, поскольку все мы выходим из утробы матери. Долгая непрерывная цепь еврейских мамочек восходит аж к Еве.
Она посмотрела на него «ханжа».
– Нет, – сказал он, – Ева была первой еврейской мамочкой, она и показала пример. То, что она сказала Адаму, дочери ее повторяют с тех самых пор: «Адамчик, – сказала она, – зайди скушай фруктов».
– Ха, ха, – произнесла Рахиль.
– Что ж с этой цепью, что ж с наследуемыми характеристиками. Мы продвинулись, ибо с годами стали умудреннее, мы больше не верим, что Земля плоская. Хотя в Англии есть один человек, президент Общества плоской Земли, который утверждает, будто она такова и окружена барьерами льда, замерзшим миром, куда отправляются все без вести пропавшие и больше оттуда не возвращаются. То же с Ламарком, который утверждал, что если у мамы-мыши отрезать хвост, ее детки тоже будут бесхвостыми. Но это неправда, ему противоречит вес научного свидетельства, равно как всякая фотография с ракеты над Белыми песками или мысом Канаверал – против Общества плоской Земли. Что б я ни делал с носом еврейской девушки, оно не изменит носов ее детей, когда она станет, как ей полагается, еврейской мамочкой. Так с какой стати я отвратителен. Меняю ли я эту грандиозную непрерывную цепь, нет. Я не иду против природы, я не продаю никаких евреев. Индивиды делают что хотят, но цепь не прерывается, и мелкие силы вроде меня с нею ни за что не справятся. На это способно такое, что изменит зародышевую плазму, ядерное излучение, быть может. Евреев продадут, может, одарят будущие поколения двумя носами или вообще ни одним, кто ж их унюхает, ха, ха. Весь род людской продадут.
Из-за дальней двери послышался удар – там Окоп отрабатывал скальпельные броски. Рахиль сидела, плотно скрестив ноги.
– Внутри, – сказала она, – что оно с ними там делает. Там же вы их тоже меняете. Что за еврейская мама из них получится, за ними ж не заржавеет вынуждать девочку нос себе сделать, пусть она даже не хочет. Над сколькими поколениями вы до сих пор потрудились, скольким сыграли доброго милого семейного доктора.
– Вы гадкая девчонка, – сказал Шёнмахер, – и такая хорошенькая в придачу. К чему на меня орать, я же всего-навсего пластический хирург. Не психоаналитик. Может, когда-нибудь и появятся особые пластические хирурги, которые и мозг оперировать смогут, делать из какого-нибудь пацана Эйнштейна, а из какой-нибудь девчонки – Элинор Рузвельт. Или даже заставлять людей не так гадко себя вести. А пока же откуда мне знать, что там внутри происходит. У нутра с цепью ничего общего.
– Вы другую цепь устанавливаете. – Она пыталась не орать. – Меняете их изнутри, а от этого тянется другая цепь, которая ничего общего не имеет с зародышевой плазмой. Вы можете передавать свойства и наружно. Передать отношение можете…
– Изнутри, снаружи, – сказал он. – вы непоследовательны, вы меня теряете.
– Хотелось бы, – сказала она, вставая. – Мне о таких людях, как вы, снятся скверные сны.
– Пусть ваш аналитик вам расскажет, что они значат, – сказал он.
– Надеюсь, мечтать вы не бросите. – Она стояла в дверях, полуобернувшись к нему.
– У меня сальдо в банке хватит на то, чтоб не терять иллюзий, – сказал он.
Будучи девушкой из тех, что не устоят против прощальной реплики:
– Я слыхала о пластическом хирурге без иллюзий, – сказала Рахиль, – он повесился. – И ушла, протопав наружу мимо часов в зеркале, на тот же ветер, что шевелил сосной, оставив за спиною слишком мягкие подбородки, покоробленные носы и лицевые шрамы чего-то вроде, как она опасалась, сходки или конфессии.
Теперь, оставив позади решетку, она шагала по мертвой траве Риверсайд-парка под безлистыми деревьями и еще более солидными скелетами жилых домов на Драйве, задумавшись об Эсфири Харвиц, своей давней соседке по квартире, кому она помогала выпутаться из стольких финансовых кризисов, что и не вспомнить ни той ни другой. На пути ее лежала старая ржавая пивная банка; она злобно пнула жестянку. Что ж это, подумала она, так вот Нуэва-Йорк устроен, значит, нахлебники и жертвы? Шёнмахер живет на хлебах моей соседки, она живет на моих. Что у них, эта долгая цепочка гонителей и гонимых, трахарей и трахомых? А если так, кого именно трахаю я. Сперва она подумала про Сляба – Сляба из триумвирата Рауль-Сляб-Мелвин, который у нее перемежался с отсутствием милости ко всем мужчинам с тех пор, как она приехала в этот город.
– Зачем ты даешь ей брать, – говорил он, – всегда брать. – Происходило это у него в студии, вспомнила она, еще во время одной из тех идиллий Сляба-и-Рахили, что обычно предшествовали Связи Сляба-и-Эсфири. «Кон Эдисон» только что отрубил электричество, поэтому им оставалась лишь одна газовая конфорка на плите, чтобы смотреть друг на дружку, а та распускалась синим и желтыми минаретом, от чего лица становились личинами, глаза – невыразительные холсты света.
– Малыш, – сказала она, – Сляб, просто детка же совсем на мели, и если я себе это могу позволить, отчего ж нет.
– Нет, – сказал Сляб, по верху его скулы танцевал тик – а может, просто свет газа… – нет. Неужели непонятно, что мне все видно, ты ей нужна из-за денег, на которые она тебя все время разводит, а она тебе – чтоб ты себя чувствовала мамочкой. Каждый грош, что она получает из твоего кошелька, наращивает лишнюю жилу к этому кабелю, который вас обеих связывает пуповиной, отчего его все труднее разрезать, и опасность для ее выживания, когда эта связка порвется, все больше. Сколько она тебе за все это время уже вернула.
– Еще вернет, – сказала Рахиль.
– Ну да. Теперь – еще $800. Поменять вот это. – Он махнул рукой на небольшой портрет, стоявший у стены возле мусорной урны. Дотянулся, взял его, наклонил к синему пламени, чтоб стало видно обоим. – Девушка на вечеринке. – Картинку, вероятно, следовало рассматривать только при углеводородном свете. На ней была Эсфирь, она прислонялась к стене, глядя прямо с картинки на того, кто к ней приближался. И вот он, этот взгляд – наполовину жертва, наполовину контроль. – Погляди-ка, нос, – сказал он. – Зачем ей его менять. С таким носом она человек.
– Это заботит лишь художника, – сказала Рахиль. – Ты против из живописных либо общественных соображений. Но что еще.
– Рахиль, – завопил он, – домой она приносит 50 в неделю, 25 уходит на анализ, 12 на квартиру, остается 13. На что, на высокие каблуки, которые она ломает на решетках в подземке, на помаду, на серьги, на одежду. Еда, временами. И вот нынче 800 на дело с носом. Что дальше-то будет. «Мерседес-бенц 300 СЛ»? Оригинал Пикассо, аборт, чё.
– У нее все вовремя, – сказала Рахиль, льдисто, – если тебя вдруг волнует.
– Детка, – вдруг весь томительно и мальчишески, – ты хорошая баба, твоя раса исчезает. Правильно, что ты помогаешь тем, кому везет меньше. Но ты дошла до точки.
Спор кидался туда и сюда, и ни он, ни она при этом не злились, а в три часа ночи – неизбежный конечный пункт, постель, ласками снять головную боль, что уже возникла у обоих. Ничего не улажено, ничего не улаживается вообще. Это было еще в сентябре. Марлевый клюв пропал, нос теперь – гордым серпом, что показывает, такое чувство, на большой Вестчестер в небесах, где оказываются, рано или поздно, все избранники Божьи.
Она свернула из парка и пошла прочь от Хадсона по 112-й улице. Трахарь и трахомый. На этом фундаменте, быть может, и стоял весь остров, от дна нижайшего сточного коллектора сквозь улицы вплоть до кончика телевизионной антенны на верхушке «Эмпайр-стейт-билдинга».
Она вошла в вестибюль, улыбнулась древнему швейцару; в лифт, вверх на семь этажей к 7Г, домой, хо, хо. Прежде всего в открытую дверь она увидела табличку на кухонной стене, со словом «ВЕЧЕРИНКА», украшенным карандашными карикатурами Цельной Больной Шайки. Сумочку швырнула на кухонный стол, закрыла дверь. Дело рук Паолы, Паолы Майистрал, третьей их сожительницы. Которая также оставила на столе записку. «Обаяш, Харизма, Фу и я. V-Нота, Макклинтик Сфер. Паола Майистрал». Сплошь имена собственные. Девчонка живет именами собственными. Людьми, местами. Вещей нет. Ей про вещи кто-нибудь рассказывал? Рахили, похоже, ничего другого и не осталось. И главная среди них теперь – нос Эсфири.
В ду́ше Рахиль спела страстную песнь, голосом жаркой мамули, усиленным кафельной камерой. Она знала, других он забавлял, ибо раздавался из такой маленькой девочки:
- Скажем, мужик хорош
- Только что покуролесить.
- Пустите в курятник его –
- И там он давай чудесить,
- А с бабой своею он –
- Такой, что впору повесить.
- Я вот хорошая баба,
- Потому что мне ли не знать,
- Об меня вытирали ноги
- Но, милая, мне-то начхать.
- Я знаю, тебе будет трудно
- Мужика себе раздобыть,
- Потому что хороший мужик –
- Только тот, кто…
Вот свет в комнате Паолы начал сочиться в окно, вверх по вентиляционному колодцу и в небо, сопровождаясь звяком бутылок, шумом воды, спуском бачка в ванной. А затем почти неслышимые звуки Рахили, расчесывающей длинные волосы.
Когда она ушла, погасив все лампы, стрелки часов с подсветкой у кровати Паолы Майистрал стояли около шести. Не тикали: часы были электрические. Движенья минутной стрелки не увидать. Но вскоре она миновала двенадцать и легла на курс вниз по другой стороне циферблата; словно проникла сквозь зеркало, и теперь ей в зеркальном времени приходилось повторять то, что уже совершила на стороне реального.
II
Вечеринка, словно бы все ж неодушевленная, разворачивалась ходовой пружиной часов к краям шоколадной комнаты, стремясь как-то облегчить собственное напряжение, обрести некое равновесие. Вблизи ее центра на сосновом полу свернулась Рахиль Филинзер, ноги бледно сияли сквозь черные чулки.
Такое чувство, будто со своими глазами она проделала тысячу тайных штук. Им не требовалось марево сигаретного дыма, чтобы смотреть соблазнительно и непостижимо, они с собой несли свое. Нью-Йорк был для нее, должно быть, городом дыма, улицы его – дворами лимба, его тела – что виденья. Дым, казалось, клубился в само́м ее голосе, в ее движеньях; отчего была она еще телеснее, больше присутствовала, будто бы слова, взгляды, мелкие похоти лишь сбивались с толку и угомонялись, как дым в ее длинных волосах; оставались там без пользы, пока она их не выпускала, случайно и безотчетно, тряхнув головой.
Молодой Шаблон, всемирный искатель приключений, сидя на раковине, шевелил лопатками, словно крылами. Спиной она была к нему; сквозь вход в кухню он различал, как тень выемки у нее в хребте змеится в черноту глубже по ее черному свитеру, видел мелкую дрожь ее головы и волос – она слушала.
Я ей не нравлюсь, уже решил Шаблон.
– Оттого, что он так смотрит на Паолу, – говорила она Эсфири. Эсфирь, разумеется, доложила Шаблону.
Но дело не в эротике, тут все глубже. Паола была мальтийка.
Родился Шаблон в 1901-м, в год, когда умерла Виктория, и со временем ему суждено было стать дитем века. Взращен без матери. Отец, Сидни Шаблон, некогда служил в Министерстве иностранных дел своей державы немногословно и умело. Об исчезновении матери данных нет. Умерла родами, с кем-то сбежала, покончила с собой: исчезла неким манером, достаточно болезненным, чтобы Сидни о нем не упоминал никогда в переписке со своим сыном, ныне доступной. Отец погиб при невыясненных обстоятельствах в 1919-м, расследуя Июньские Беспорядки на Мальте.
Однажды вечером 1946-го, отделенный каменной балюстрадой от Средиземноморья, сын сидел с некоей маркграфиней ди Кьяве Лёвенштейн на террасе ее виллы на западном побережье Майорки; солнце опускалось в густые тучи, обращая все видимое море в полотно жемчужно-серого. Возможно, ощущали себя они как последние два бога – последние обитатели – водянистой земли; или глядишь – но строить догадки было бы нечестно. Как бы там ни было, сцена разыгрывалась следующая:
Марк. Значит, вы должны ехать?
Шабл. Шаблон должен быть в Люцерне до конца недели.
Марк. Не нравятся мне прелиминарии.
Шабл. Это не шпионаж.
Марк. Что ж тогда?
(Шаблон смеется, разглядывая сумерки.)
Марк. Вы так близки.
Шабл. К кому? Маркграфиня, даже не к себе. Это место, этот остров: всю свою жизнь он только скакал с одного острова на другой. Довольно ли такой причины? Обязательна ли причина вообще? Сказать ли ему вам: ни на какой Уайтхолл он не работает, даже представить себе такой невозможно, если, ха ха, это не сеть холлов, проеденная в его собственном мозгу уайт-спиритом: эти невыразительные коридоры, за подметанием и надлежащим состоянием коих он следит на случай визитов агентуры. Посланников из зон человека распятого, легендарных областей человеческой любви. Но у кого в найме? Не у себя: то было б умопомешательством, безумьем любого самозваного пророка…
(Следует долгая пауза, а свет, достигающий их сквозь тучи, слабеет либо разжижается так, что омывает их обессиленно и уродливо.)
Шабл. Шаблон вступил в совершеннолетие через три года после смерти старого Шаблона. Наследство, ему доставшееся, частью состояло из нескольких рукописных книг в полукожаных переплетах, покоробленных влажным воздухом множества европейских городов. Его дневники, его неофициальный журнал агентской карьеры. Под меткой «Флоренция, апрель 1899-го» есть фраза, молодой Шаблон выучил ее наизусть: «За и внутри V. – больше, чем кто-либо из нас подозревал. Не кто, но что: что́ она есть. Боже упаси меня от того, чтобы когда-либо пришлось записать ответ, здесь ли, в официальном ли отчете».
Марк. Женщина?
Шабл. Другая женщина.
Марк. Это ее вы преследуете? Ищете?
Шабл. Дальше вы спро́сите, не полагает ли он ее своей матерью. Вопрос смешон.
С 1945 года Херберт Шаблон сознательно вел кампанию за то, чтобы обходиться без сна. До 1945-го он был ленив, сон принимал как одно из величайших благ жизни. Промежуток между войнами провел непоседливо, источник его дохода тогда, как и сейчас, неведом. Сидни ему не оставил много в виде фунтов и шиллингов, но почти в каждом городе западного мира заслужил благосклонность среди людей своего поколения. Поскольку то было поколение, по-прежнему верившее в Семью, перед молодым Хербертом открывались хорошие перспективы. Он не всегда жил на дармовщину: на юге Франции работал крупье, в Восточной Африке – десятником на плантации, в Греции управлял борделем; а дома еще и занимал ряд постов на государственной гражданской службе. Чтобы заполнить низины, всегда можно было положиться на «жеребцовый покер» – хотя время от времени сравнивалась с землей и гора-другая.
В этом междуцарствии смерти Херберт едва пробавлялся, изучая отцовы дневники лишь на предмет того, как можно ублажить «контакты» из своего наследия, сознающие узы крови. Пассаж о V. так и остался тогда незамеченным.
В 1939-м он был в Лондоне, работал на МИД. Настал и минул сентябрь: Шаблона словно бы тряс чужак, разместившийся над границами сознания. Ему не весьма хотелось просыпаться; но он понял, что если не – вскоре спать ему в одиночестве. Будучи персоной общительной, Херберт предложил свои услуги добровольно. Отправили его в Северную Африку, в некоем нечетко определяемом качестве шпиона/переводчика/связника, и он возвратно-поступательно мотылялся вместе с прочими от Тобрука до Эль-Агейлы, обратно через Тобрук в Эль-Аламейн, снова в Тунис. Под конец уже видел больше мертвых, чем хотелось бы видеть опять. Когда мир выиграли, он пофлиртовал с мыслью возобновить свое довоенное снохождение. Сидя в кафе Орана, посещаемом преимущественно американскими экс-ВС[18], решившими не возвращаться пока в Штаты, он праздно листал флорентийский дневник, и тут фразы о V. вдруг обрели собственный свет.
– V. значит «виктория», – игриво предположила маркграфиня.
– Нет. – Шаблон покачал головой. – Может статься, Шаблону одиноко и нужно что-то в смысле общества.
Какова б ни была причина, он взялся обнаруживать, что сон занимает время, которое можно потратить деятельно. Его произвольные движения до войны уступили место огромному единому порыву от инертности к – если не витальности, то, по меньшей мере, деятельности. Поскольку работа, преследование – ибо охотился он на V. – отнюдь не было средством славить Бога и собственную набожность (как верят пуритане), для Шаблона оно оставалось мрачно, безрадостно; сознательным принятием неприятного, без иной причины, нежели наличие V., которую нужно выследить.
Найти ее: что потом? Лишь то, что любовь, чем бы ни была она для Шаблона, направилась целиком внутрь, к этому новоприобретенному ощущению одушевленности. Обретя такое вот, он уже едва мог ее отпустить, слишком дорога та была. Для поддержки следовало охотиться на V.; но отыщи он ее, куда ему потом отправляться – только вернуться к полусознанию? Он старался не думать, стало быть, ни о каком конце поиска. Подступить и избегнуть.
Тут, в Нью-Йорке, тупик обострился. На вечеринку он пришел по приглашению Эсфири Харвиц, чей пластический хирург Шёнмахер владел жизненно важным куском V.-головоломки, однако изображал неведение.
Шаблон подождет. Он занял бросовую квартиру в 30-х улицах (Ист-сайд), временно освобожденную египтологом по фамилии Бонго-Штырбери, сыном египтолога, знакомого Сидни. Некогда они были противниками, еще перед первой войной, как у Сидни бывало со многими другими нынешними «контактами»; что примечательно, само собой, но удачно для Херберта, ибо удваивало его шансы на снабжение. Квартиру он пользовал как pied-à-terre[19] весь последний месяц; сон хватал урывками между нескончаемыми визитами к другим своим «контактам»; населению, все более состоящему из сыновей и друзей исходников. В каждом колене чувство «крови» слабло. Шаблон уже предвидел день, когда его будут всего лишь терпеть. Тогда останутся лишь он и V. наедине, в мире, как-то упустившем их обоих из виду.
Но до прихода такого времени следовало ждать Шёнмахера; и Зубцика, оружейного короля, и Собствознатча, терапевта (определения, что характерно, корнями уходили еще к эпохе Сидни, хотя ни того ни другого Сидни лично не знал), чтобы это время заполнить. Размывание, застойный период, и Шаблон это осознавал. Месяц – слишком долго, чтобы задерживаться в любом городе, если для расследования нет ничего ощутимого. Он пристрастился скитаться по городу, бесцельно, ожидая совпадения. Ни одного не случилось. Он ухватился за приглашение Эсфири, надеясь наткнуться на какой-нибудь ключ, след, намек. Но Цельная Больная Шайка не сумела предложить ничего.
Хозяин этой квартиры, похоже, выражал преобладающую наклонность, для них всех общую. Словно бы довоенная ипостась Шаблона, он являл Шаблону зрелище ужасающее.
Фёргэс Миксолидян, ирландо-армянский еврей и человек вселенский, утверждал, будто он ленивейшее живое существо в Нуэва-Йорке. Творческие его предприятия, все незавершенные, простирались от вестерна белыми стихом до стены, которую он извлек из кабинки мужского туалета Пенсильванского вокзала и выставил в художественной галерее как то, что старыми дадаистами называлось «готовой вещью». Критика в своих комментариях добра не была. Фёргэс так разленился, что единственной деятельностью его (за исключением тех, что требовались для поддержания жизни) осталось раз в неделю копошиться у кухонной раковины с сухими элементами, ретортами, перегонными кубами, солевыми растворами. Делал он вот что – выделял водород; тот отправлялся заполнять крепкий зеленый шарик с большими буквами ЦЫЦ, на нем напечатанными. Шарик он привязывал бечевкой к столбику своей кровати всякий раз, когда собирался спать, и только так его посетители могли разобрать, на какой стороне сознания Фёргэс находится.
Другим его развлечением было смотреть телевизор. Он разработал хитроумный сноключатель, куда сигнал поступал от двух электродов, расположенных на дерме его предплечья. Когда Фёргэс опускался ниже определенного уровня осознания, сопротивление кожи превышало заданный уровень и управляло переключателем. Тем самым Фёргэс стал придатком телеприемника.
Остаток Шайки разделял ту же летаргию. Рауль писал для телевидения, тщательно не упуская из виду – и горько сетуя на – всякие спонсорские фетиши этой промышленности. Сляб спорадическими вспышками писал маслом, относя себя к «кататоническим экспрессионистам», а работу свою – к «высшему проявлению бес-толкования». Мелвин играл на гитаре и пел либеральные народные песни. Узор этот был бы знаком – богема, творчество, претензия на искусство, – вот только он располагался еще дальше от реальности, романтизм в его крайнем декадансе; ибо лишь изнуренное подражание нищете, бунту и «душе» художника. Поскольку неутешительный факт заключался в том, что по большинству своему они зарабатывали на жизнь, а существо бесед своих черпали со страниц журнала «Тайм» и ему подобных публикаций.
Быть может, выживали они лишь потому, рассуждал Шаблон, что были не одни. Бог знает, сколько еще их таких, с тепличным ощущением времени, без знания жизни и на милости у Фортуны.
Сама вечеринка, сегодня, делилась натрое. Фёргэс и его подруга, а также еще одна пара давно удалились в спальню с галлоном вина; заперли дверь и позволили Шайке творить все, что захотят в смысле хаоса, со всем остальным помещением. Раковина, на которой ныне сидел Шаблон, стала бы насестом Мелвина: он играл бы на гитаре, и в кухне водили б хо́ры и устраивали африканские пляски плодородия до самой полночи. Лампы в гостиной гасли бы одна за другой, на проигрыватель-автомат ставились бы квартеты Шёнберга (полностью) и повторялись, и повторялись; а сигаретные угли пятнали комнату как сторожевые костры, и неразборчивая в связях Дебби Сенсэй (напр.) была б на полу, ласкаемая Раулем, скажем, или Слябом, а сама возила б рукой по ноге кого-то, кто сидел б на диване с ее сожительницей – и так дальше, неким любовным пиром либо гирляндной цепью; плескалось бы вино, ломалась мебель; Фёргэс кратко бы проснулся завтра наутро, обозрел разрушения и остаточных гостей, простертых по всей квартире; с матюками выгнал бы всех и снова лег спать.
Шаблон раздраженно пожал плечьми, поднялся с раковины и нашел свое пальто. На выходе коснулся узла шестерых: Рауля, Сляба, Мелвина и трех девушек.
– Дядя, – сказал Рауль.
– Пейзаж, – сказал Сляб, помавая рукой, дабы показать развертывание вечеринки.
– Потом, – сказал Шаблон и выдвинулся за дверь.
Девушки стояли молча. Они были в некотором роде маркитантки и расходны. Или, по крайней мере, заменяемы.
– О да, – сказал Мелвин.
– Предместья, – сказал Сляб, – захватывают мир.
– Ха, ха, – сказала одна девушка.
– Глохни, – сказал Сляб. Дернул себя за шляпу. Он всегда носил шляпу, внутри ли, снаружи, в кровати или вусмерть пьяный. И костюмы как у Джорджа Рафта, с огромными заостренными лацканами. Заостренные, накрахмаленные, до-конца-не-застегивающиеся воротнички. Подбитые, заостренные плечи: он весь был сплошь острия. А вот лицо его, заметила девушка, – отнюдь: довольно мягкое, как у беспутного ангела: курчавые волосы, красные и пурпурные круги, свисавшие кольцами по два-три под глазами. Сегодня ночью она будет целовать у него под глазами, один за другим, эти печальные круги.
– Извините, – бормотнула она, отплывая к пожарному выходу. У окна остановилась вглядеться в реку, не видя ничего, кроме тумана. Позвоночника ее коснулась рука, точно в том месте, которое отыскивали все до единого мужчины, кого она знала, рано или поздно. Она выпрямилась, прижав лопатки друг к дружке, поднесши груди упруго и вдруг зримо к окну. Она видела, как его отражение рассматривает ее отражение. Повернулась. Он зарделся. Стрижен ежиком, костюм, хэррисский твид.
– Скажите-ка, вы новенький, – она улыбнулась. – Я Эсфирь.
Он покраснел и стал симпатюлей.
– Брэд, – ответил он. – Простите, что испугал вас.
Наитием она понимала: сгодится он как парнишка из студенческого братства, только что после школы «Плющевой Лиги», кто знает, что студбратом таким не перестанет быть, пока жив. Но такой все равно чувствует, будто ему чего-то не хватает, и потому болтается на закраинах Цельной Больной Шайки. Если намылился в управление, он пишет. Если инженер или архитектор – да что уж, рисует или лепит. Он оседлает линию, прозревая до знания, что ему достается худшее от обоих миров, но никогда не тормознет подумать, почему эта линия тут должна быть или даже есть ли она вообще. Научится жить сдвоенным человеком и будет играть себе дальше, сидя верхом, пока не расколется в промежности пополам от длительного напряжения, и тогда-то вот уничтожится. Она встала в четвертую балетную позицию, груди передвинула под 45° к его зорной линии, уставила нос ему на сердце, взглянула снизу вверх на него сквозь ресницы.
– Сколько вы уже в Нью-Йорке?
Снаружи «V-Ноты» у передних окон кругом толпились в некотором количестве ханыги, заглядывали внутрь, туманя стекло дыханьем. Время от времени из створчатых дверей возникал кто-либо студенческого вида, обычно с подругой, и они просили у него, один за другим чередой по этому краткому отрезку тротуара Бауэри, сигаретку, на подземку, пива купить. Ночь напролет февральский ветер крутило во всю прыть вдоль широкого паза Третьей авеню, перемещая над ними всеми: стружку, смазочно-охлаждающую жидкость, шугу токарного станка Нью-Йорка.
Внутри Макклинтик Сфер свинговал до потери пульса. Кожа его была тверда, словно не кожа, а сам череп: все до единой вены и щетинки выделялись на этой голове четко и ясно под зеленым малым прожектором: видно морщины-двойняшки, что спускались по обе стороны его нижней губы, награвированные силой его амбушюра, похожие на продолжение усов.
Дул он в альт-саксофон ручной работы из слоновой кости с язычком 4½, и звук был такой, какого никто из них никогда раньше не слышал. Превалировали обычные разногласия: скубенты не врубались и отваливали после в среднем 1½ отделений. Состав других ансамблей, либо в свой выходной вечер, либо на долгом перерыве в чем-то где-то на другом конце или окраине города, слушал плотно, стараясь врубиться.
– Я пока думаю, – отвечали они, если ты у них спрашивал. Все у барной стойки выглядели так, словно и впрямь врубались в смысле понимания, одобрения, сопереживания: но это, вероятно, лишь потому, что те, кто предпочитает стоять у бара вообще, по всему миру, вид имеют непроницаемый.
В конце барной стойки «V-Ноты» есть столик, куда посетители обычно ставят пустые пивные бутылки и стаканы, но если кто-нибудь захватит его пораньше, никто не возражает, а бармены обычно все равно слишком заняты и орать, чтоб освободили, не станут. В данный момент столик занимали Обаяш, Харизма и Фу. Паола удалилась в дамскую комнату. Никто из них ничего не говорил.
У ансамбля на эстраде не было фортепиано: имелись контрабас, ударные, Макклинтик и мальчишка, которого он нашел в Озарках, – тот дул в натуральный рог в строе фа. Барабанщик был человек ансамблевый, пиротехники избегал, что могло раздражать толпу из колледжей. Басист – мелкий и на вид гад гадом, а глаза у него желтые с булавочными уколами по центру. Он со своим инструментом разговаривал. Контрабас был выше него и, похоже, не слушал.
Натуральный рог и альт вместе благоволили к секстам и малым квартам, и в таких случаях выходило вроде драки на ножах или перетягивания каната: благозвучно, однако в воздухе висело противостояние. Соло Макклинтика Сфера же были совсем что-то с чем-то. Там бывали такие, в основном – кто писал в журнал «Даунбит» либо аннотации на долгоиграющие пластинки, – и они, похоже, чувствовали, словно играет он совершенно без внимания к аккордовой последовательности. Они много трындели о душе, и антиинтеллектуальном, и о восстающих ритмах африканского национализма. Это новая концепция, говорили они, а некоторые утверждали: Птица Жив.
С тех пор как душа Чарли Паркера рассосалась на враждебном мартовском ветру почти год назад, о нем говорилось и писалось много всякой ерунды. Гораздо больше ожидалось, кое-что пишется и сегодня. Он был величайшим альтом на всей послевоенной сцене, и когда сошел с нее, некая примечательная воля отрицания – неохота и отказ поверить в окончательный, холодный факт – овладела самыми отпетыми до того, что на всех станциях подземки, на тротуарах, в писсуарах карябался этот отказ: Птица Жив. Поэтому-то среди публики в «V-Ноте» в тот вечер присутствовало, по осторожной оценке, 10 процентов тех мечтателей, до кого весть еще не дошла, и они видели в Макклинтике Сфере некую реинкарнацию.
– Он играет все ноты, которые Птица пропустил, – прошептал кто-то перед Фу. Тот безмолвно показал уместными жестами, как разбивает о край стола пивную бутылку, вгоняет «розочку» в спину оратора и поворачивает.
Почти настала пора закрываться, последнее отделение.
– Идти уже скоро, – сказал Харизма. – Где Паола.
– Вон, – сказал Обаяш.
Снаружи у ветра шел собственный неизменный концерт. Он все дул и дул.
Глава третья,
в которой Шаблон, артист-трансформист, выступает с восемью перевоплощениями
Как раздвинутые бедра для распутника, стаи перелетных птиц для орнитолога, режущая кромка инструмента для производственного рабочего, такова же была буква V для молодого Шаблона. Он, бывало, грезил, быть может, раз в неделю, что все это греза, а теперь вот он пробудился и обнаружил, что стремление за V. было всего лишь навсего учеными поисками, приключением разума, в традиции «Золотой ветви» или «Белой богини».
Но уже вскоре он просыпался вторично, взаправду, и вновь совершал это утомительное открытие – на самом деле, тот же бесхитростный, буквальный поиск и не прекращался; V., двусмысленно заповедное животное, загоняемое, как благородный олень, лань или заяц, гонимое, словно устарелая, или причудливая, или запретная разновидность полового наслаждения. А шут гороховый Шаблон откалывает свои коленца за нею следом, бубенцы звенят, машет деревянным, игрушечным погонялом. И весело при этом лишь ему.
Его несогласие с маркграфиней ди Кьяве Лёвенштейн (подозревая, что естественная среда обитания V. – осадное положение, он прибыл на Майорку прямиком из Толедо, где неделю гулял ночами по алькасару, задавая вопросы, собирая ненужные реликвии): «Это не шпионаж», – и тогда, и посейчас выражалось скорей из вздорности, а не желания установить чистоту побуждений. Жаль, что все это далеко не столь респектабельно и ортодоксально, как шпионаж. Но в его руках традиционные орудия и принципы всегда отчего-то применялись для низменных целей: плащ – как мешок для грязного белья, кинжал – чистить картошку; досье – заполнять мертвые воскресные дни; хуже всего, сама смена личин – не из какой-то профессиональной необходимости, а лишь фокус, дабы он просто меньше занимался погоней, чтобы возложить толику мучений от дилеммы на различные «перевоплощения».
Херберт Шаблон, как маленькие дети на определенной ступени и Хенри Эдамз в «Образовании»[20], равно как различные аристократы с незапамятных времен, всегда говорил о себе в третьем лице. Это помогало «Шаблону» выступать лишь одним из целого репертуара личностей. «Насильственное перемещение индивидуальности» – вот как называл он методику вообще, что не вполне означает «разделять чужую точку зрения»; ибо здесь подразумевались, скажем, ношение такой одежды, какую Шаблон скорей бы сдох, чем надел, поедание такой пищи, от которой Шаблона бы тошнило, проживание по незнакомым впискам, частое посещение баров и кафе не-Шаблонного характера; и все это – неделями кряду; а зачем? Чтобы держать Шаблона на его месте, а именно в третьем лице.
Вокруг каждого семечка досье, стало быть, наросла перламутровая масса умозаключений, поэтических вольностей, насильственного перемещения индивидуальности в прошлое, которого он не помнил да и не вправе на него был, если не считать права на изобретательную тревогу, сиречь одержимость историей, кое никем не признается. Каждую ракушку на своей подводной ферме scungilli[21] он обхаживал нежно и беспристрастно, неловко перемещаясь по своему обвешенному заказнику на портовом дне, тщательно избегая маленькой темной глубины прямо посреди прирученных моллюсков, где бог знает что живет: острова Мальта, на котором погиб его отец, где Херберт никогда не был и ничего о нем не знал, ибо что-то его туда не пускало, ибо отпугивало.
Однажды вечером, дремля на софе в квартире Бонго-Штырбери, Шаблон извлек свой единственный сувенир того, чем бы ни было мальтийское приключение старого Сидни. Веселенькая почтовая открытка в четыре краски, военный снимок «Дейли мейл» с Великой войны, изображающий взвод потных «гордонов» в килтах – они катят носилки, на которых лежит огромный германский рядовой с грандиозными усами, одна нога в лубке, а улыбка самая что ни есть довольная. Сообщение Сидни гласило: «Чувствую себя стариком, однакож и жертвенной девой. Напиши и приободри меня. ОТЕЦ».
Молодой Шаблон не написал, потому что ему было восемнадцать и он не писал никогда. В этом и состояла отчасти нынешняя гонка: каково ему было услышать о смерти Сидни полгода спустя и лишь тогда осознать, что ни тот ни другой после этой открытки не сообщались.
Некто Иглошёрст, один из отцовых коллег, был убит в Египте по дуэльному кодексу Эриком Бонго-Штырбери, отцом владельца нынешней квартиры. Отправился ль Иглошёрст в Египет, как старый Шаблон на Мальту, быть может написав своему сыну, что он себя чувствует, как некий другой шпион, который, в свою очередь, уехал умирать в Шлезвиг-Голштинию, Триест, Софию, куда угодно? Апостольское преемство. Они должны знать, когда близится срок, часто думал Шаблон; но приходит ли смерть и впрямь как некий последний благодатный дар, он на самом деле никак сказать не мог. У него в дневниках были только завуалированные отсылки к Иглошёрсту. А все прочее – перевоплощение и греза.
I
Давно перевалило за полдень, и над площадью Мухаммеда Али со стороны Ливийской пустыни начали собираться желтые тучи. Ветер вообще безо всякого звука выметал рю Ибрахим и площадной квадрат, неся в город озноб пустыни.
Для некоего П. Айёля, официанта кафе и распутника-любителя, тучи означали дождь. Его единственный посетитель, англичанин, вероятно – турист, ибо лицо его очень сгорело на солнце, сидел весь в твиде, ольстере и ожиданиях, глядя на площадь. Хотя за кофе он тут не пробыл и пятнадцати минут, уже казался столь же постоянной деталью пейзажа, как сама конная статуя Мухаммеда Али. У некоторых англичан, знал Айёль, есть такой талант. Но они обычно не туристы.
Айёль обретался у входа в кафе; снаружи инертен, но внутри у него теснились печальные и философские размышления. Ждет ли этот даму? До чего неправильно рассчитывать на какую-то романтику или внезапную любовь от Александрии. Ни один туристский город не дарит такого легко. Заняло – сколько его уже не было в Миди? двенадцать лет? – вот, по крайней мере, сколько. Пускай обманываются и думают, будто город – несколько больше того, что утверждается в их «Бедекерах»: Фарос, давно сгинувший в трусе земном и морской пучине; колоритные, но безликие арабы; памятники, гробницы, современные отели. Фальшивый и ублюдочный город; инертный – для «них», – как сам Айёль.
Он смотрел, как потемняется солнце, а ветер трепещет листвой акаций вокруг площади Мухаммеда Али. Вдали проревели имя: Иглошёрст, Иглошёрст. Оно заныло в гулких закоулках площади, как голос из детства. Еще один толстый англичанин, светловолосый, румяный – разве северяне все не похожи? – шагал по рю Шариф Паша в парадном костюме и тропическом шлеме на два размера больше. Подходя к клиенту Айёля, он быстро замолол языком по-английски аж с двадцати ярдов. Что-то про женщину, про консульство. Официант пожал плечами. Много лет назад уяснив себе, что любопытствовать в беседах англичан особо не о чем. Но скверная привычка не исчезла.
Пошел дождь, тощие капли, едва ль сильнее дымки.
– Hat fingan, – взревел толстяк, – hat fingan kahwa bisukkar, ya weled[22]. – Две красные рожи зло пылали друг другу через столик.
Merde[23], подумал Айёль. У столика:
– М’sieu?
– А, – улыбнулся жирный, – тогда кофе. Café, понимаешь.
По его возвращении двое жеманно беседовали о большом приеме сегодня вечером в Консульстве. Каком консульстве? Айёль мог разобрать только имена. Виктория Краль. Сэр Аластер Краль (отец? супруг?). Какой-то Бонго-Штырбери. Что за нелепые имена порождает эта страна. Айёль принес кофе и вернулся к месту своего обретания.
Этот толстый вознамерился соблазнить девушку, Викторию Краль, другую туристку, путешествующую со своим отцом-туристом. Но ему не дал возлюбленный, Бонго-Штырбери. Старик в твиде – Иглошёрст – он macquereau[24]. Парочка, за которой он наблюдал, – анархисты, замышляют покушение на сэра Аластера Краля, могущественного члена английского Парламента. Супруга пэра – Виктория – меж тем шантажируема этим Бонго-Штырбери, которому известны ее тайные анархистские симпатии. Эти двое – артисты мюзик-холла, хотят получить работу в грандиозном эстрадном представлении, его намерен поставить Бонго-Штырбери, который ныне в городе и старается раздобыть средства у глупого рыцаря Краля. Подступать к нему Бонго-Штырбери намерен через блистательную актрису Викторию, любовницу Краля, выдающую себя за его жену, дабы удовлетворять английскому фетишу добропорядочности. Толстяк и Твид войдут сегодня вечером рука об руку в свое консульство, распевая бодрую песню, шаркая ногами, вращая глазами…
Дождь набрал в густоте. Между двоими за столиком передался белый конверт с гербом на клапане. Твидовый ни с того ни с сего вскочил на ноги, дернувшись, как заводная кукла, и заговорил по-итальянски.
Припадок? Но солнца нет. А Твид еще и запел:
- Pazzo son!
- Guardate, come io piango ed imploro…[25]
Итальянская опера. Айёлю стало тошно. Он наблюдал за ними с умученной улыбкой. Нелепый англичанин подпрыгнул, щелкнул каблуками; принял позу, кулак у груди, другая рука простерта:
- Come io chiedo pietà![26]
Дождь мочил обоих. Обожженное солнцем лицо колыхалось надувным шаром, единственный мазок цвета на этой площади. Толстяк сидел под дождем, похлебывая кофе, наблюдая своего резвящегося компаньона. Айёль слышал, как по волокнам его топи постукивают капли. Наконец Толстяк, похоже, проснулся: встал, оставив пиастр и мильем на столике (avare!)[27], и кивнул второму, который теперь стоял и смотрел на него. Площадь была пуста, исключая Мухаммеда Али и коня.
(Сколько уже раз они так стояли: приниженные до карликов горизонтально и вертикально какой ни возьми площадью или днем на своем исходе? Была б возможность основать телеологический аргумент лишь на этом вот мгновенье, нынешних двоих можно было б разменять, как мелкие шахматные фигуры, где угодно по всей доске Европы. Оба колоритны, хоть один пятится по диагонали из почтения к своему партнеру, оба озирают паркеты каких угодно консульств на предмет некоего смутно ощущаемого противостояния – возлюбленного, кормильца, объекта политического покушения, – лицо какой угодно статуи, дабы убедиться в собственной дееспособности и, быть может, к несчастью, собственной человечности; а то и пытаются не вспоминать, что всякая квадратная площадь в Европе, как ее ни режь, остается в итоге неодушевленной?)
Они чопорно повернулись оба и убыли в противоположные стороны, Толстяк – к отелю «Хедиваль», Твид – к рю де Рас-эт-Тин и Турецкому кварталу.
Bonne chance[28], подумал Айёль. Что бы сегодня вечером ни вышло, bonne chance. Потому что ни одного из вас я снова не увижу, а больше ничего не могу я пожелать. В конце концов он уснул, прислоняясь к стене, убаюканный дождем, и видел сны о некоей Марьям и сегодняшнем вечере и об Арабском квартале…
Низины площади заполнялись, поперек них перемещались обычные случайные порядки пересекающихся концентрических кругов. Около восьми часов дождь ослаб.
II
Челядин Юсеф, предоставленный временно взаймы отелем «Хедиваль», метнулся под падающим дождем через дорогу к австрийскому консульству; внутрь влетел через вход для слуг.
– Опоздал! – заорал Мекнес, вожак кухонного подразделения. – А потому, отродье верблюда-содомита: тебе – стол с пуншем.
Неплохое задание, подумал Юсеф, надевая белую тужурку и причесывая усы. От стола с пуншем в бельэтаже видно все представление: и в декольте самых хорошеньких женщин (итальянские груди прекраснее всех – ах!), и по всему блистательному сборищу звезд, лент и экзотических Орденов.
Вскоре со своей выгодной позиции Юсеф уже мог подпустить рябью себе на знающие уста первую из многих в тот вечер презрительных ухмылок. Пусть празднуют, покуда могут. Скоро изящная одежда их станет тряпьем, а элегантное дерево покроется коркой крови. Юсеф был анархист.
Анархист и отнюдь не простак. Следил за текущими событиями, всегда высматривал любые вести, благоприятные даже для мелкого хаоса. Сегодня вечером политическая ситуация была благоприятна: сардар Китченер, новейший колониальный герой Англии, не так давно одержавший победу в Хартуме, нынче всего в каких-то 400 милях ниже по Белому Нилу, фуражируется в джунглях; также ходили слухи, что где-то поблизости и некий генерал Маршан. Британия не желала Франции в долине Нила никаким боком. М. Делькассе, министр иностранных дел только что сформированного во Франции кабинета министров, скорей пойдет на военную конфронтацию, чем нет, случись какая заваруха, если два эти подразделения встретятся. А они, как все уже отдавали себе отчет, встретятся. Россия поддержит Францию, а у Англии временно возобновились дружественные отношения с Германией – а значит, с Италией и Австрией тоже.
Ну, вздрогнем, говорят англичане. Шарик в воздухе. Юсеф, полагая, что анархисту, сиречь приверженцу истребления, полагается иметь хоть какие-то детские воспоминания, дабы ностальгировать по ним для поддержания равновесия, воздушные шары любил. По большинству ночей, на кромке сна он мог вращаться луною вокруг какой-нибудь свинячьей кишки веселого окраса, растянутой его собственным теплым дыханьем.
Но вот краем глаза: чудо. Чем, если ни во что не веришь, еще объяснить…
Девушка-шарик. Девушка-шарик. Кажется, будто едва касается навощенного зеркала под собой. Протягивает пустую чашку Юсефу. Mesikum bilkher, добрый вечер; не желаете ли наполнить себе еще какие-нибудь полости, английская леди. Быть может, таких детей он пощадит. Пощадит ли? Если неизбежно дойдет до утра, любого утра, когда молчат все муэдзины, голуби попрятались в катакомбах, сможет ли он восстать без одежд на заре Ничто и сделать, что должен? По совести – должен?
– Ох, – улыбнулась она: – Ох, спасибо. Leltak leben. – Пусть ночь твоя будет бела, как молоко.
Как твой живот… хватит. Она отскочила, легкая, как сигарный дым, восходящий из огромной залы внизу. «О» свои она произносила со вздохом, словно бы обмирала от любви. Мужчина постарше, крепко сложенный, волосы поседели – похож на профессионального уличного драчуна в вечернем платье – подошел к ней у лестницы.
– Виктория, – пророкотал он.
Виктория. Названа в честь своей королевы. Он тщетно постарался сдержать смех. Нипочем не скажешь, что способно развеселить Юсефа.
Весь вечер внимание его то и дело отвлекалось на нее. Приятно было посреди всего этого блеска на чем-нибудь сосредоточиться. Но она выделялась. Цвет ее – даже голос был легче остального ее мира, подымался с дымом к Юсефу, чьи руки были клейки от пунша с шабли, усы печально спутались – у него имелась привычка бессознательно подравнивать кончики зубами.
Раз в полчаса заглядывал Мекнес – по-всякому его обозвать. Если в пределах слышимости никого не оказывалось, они обменивались оскорблениями – когда грубыми, когда изобретательными, но все по левантийскому образцу уходили вглубь родословной собеседника, экспромтом создавая при каждом шаге или поколении все более невероятный и причудливый мезальянс.
Граф Кевенхюллер-Меч, австрийский консул, много времени проводил в обществе своего русского аналога м. де Вилье. Как, не понимал Юсеф, могут двое так перешучиваться, а назавтра быть врагами. Наверное, врагами они были и вчера. Он решил, что слуги общества – не люди.
Юсеф погрозил черпаком для пунша удаляющейся спине Мекнеса. Слуга общества, фу ты ну ты. А он, Юсеф, кто, если не слуга общества? Он – человек? Перед тем, как впасть в политический нигилизм, разумеется. Но как слуга, вот здесь, сегодня, для «них»? С таким же успехом мог быть и деталью на стенке.
Но это изменится, улыбнулся он, мрачно. Вскоре он уже вновь грезил наяву о воздушных шарах.
У подножья лестницы сидела эта девушка, Виктория, центр примечательной живой картины. Рядом с нею расположился полноватый блондин, чье вечернее платье, похоже, село от дождя. Лицом к ним в вершинах плоского равнобедренного треугольника стояли седобородый мужчина, назвавший ее по имени, девочка одиннадцати лет в белом бесформенном платье и еще один мужчина, чье лицо, судя по виду, сгорело на солнце. До Юсефа доносился единственный голос, Виктории.
– Моей сестре нравятся камни и окаменелости, мистер Славмаллоу. – (Светловолосая голова с нею рядом учтиво кивнула.) – Покажи им, Милдред.
Девочка извлекла из своего ридикюля камень, повернулась и протянула его сначала собеседнику Виктории, затем – краснолицему с нею рядом. Этот, похоже, отступил, в смущении. Юсеф поразмыслил, что краснеть он может сколько влезет, никто этого и не заметит. Еще несколько слов, и краснолицый, покинув компанию, вприпрыжку взбежал по лестнице.
Юсефу он показал пять пальцев:
– Khamseh. – Пока Юсеф занимался наполнением чашек, кто-то подошел к англичанину сзади и легонько тронул за плечо. Англичанин крутнулся на месте, кулаки его сжались, изготовившись к насилию. Брови Юсефа вскинулись на долю дюйма. Еще один уличный драчун. Сколько он уже не наблюдал таких рефлексов? У Тофика-ассасина, восемнадцати лет и подручного резчика надгробий, – быть может.
Но этому лет сорок – сорок один. Никто, рассудил Юсеф, не может так долго быть в форме, если того не требует род занятий. А какая профессия сочетает в себе талант к убийству и присутствие на консульском приеме? В австрийском консульстве, к тому ж.
Руки англичанина расслабились. Он любезно кивнул.
– Милая девушка, – произнес второй. На нем были очки с синеватыми стеклами и накладной нос.
Англичанин улыбнулся, повернулся, собрал пять чашек пунша и двинулся вниз по лестнице. На второй ступеньке он споткнулся и упал; далее кружился и подскакивал, сопровождаемый дрязгом бьющегося стекла и набрызгом пунша из шабли, до самого низа. Юсеф отметил, что падать он умеет. Другой уличный драчун засмеялся, прикрывая общую неловкость.
– Видел разок, как один так в мюзик-холле сделал, – пророкотал он. – У вас гораздо лучше вышло, Иглошёрст. Честно.
Иглошёрст извлек сигарету и остался лежать, куря, там, где и упокоился.
В бельэтаже мужчина в синих очках лукаво выглянул из-за столба, снял нос, сунул его в карман и пропал.
Странное сборище. Тут есть что-то еще, догадался Юсеф. Какое-то отношение к Китченеру и Маршану? Разумеется, должно быть. Но… Недоумение его прервал Мекнес, вернувшийся описать прапрапрадеда и – бабку Юсефа как одноногую дворнягу, питающуюся экскрементами осла, и сифилитичную слониху соответственно.
III
В ресторане «Финк» было тихо: мало что происходит. Несколько английских и немецких туристов – жмотье, к таким и подходить не стоит – разбросано по залу, шумят так, что хватит для середины дня на площади Мухаммеда Али.
Максуэлл Роули-Педд, волосы уложены, усы завиты, а наружная одежда корректна до последней морщинки и ниточки, сидел в одном углу, спиной к стене, чувствуя, как в брюшной полости начинают танцевать первые болезненные прострелы паники. Ибо под тщательной скорлупой волос, кожи и ткани лежало, забившись в норку, никчемное сердце из посерелого полотна. Старина Макс был чужеземец и притом безденежный.
Еще четверть часика, решил он. Если ничего путного не упромыслится, передвинусь в «L’Univers»[29].
Границу в землю Бедекера он перешел лет восемь назад – в 90-м – после неприятности в Йоркшире. Тогда он был Ралф Макбёрджесс – младой Лохинвар гей-прискакал на тогда еще довольно широкие просторы водевильной сцены Англии. Он попевал, потанцовывал, рассказывал несколько сносных заборных анекдотов. Но у Макса, сиречь Ралфа, была одна незадача: слишком, вероятно, оголтел, когда дело доходит до маленьких девочек. Эта конкретная, Алиса, в свои десять лет уже являла те же полуответные порывы (игра, заливалась она, – как весело), что и ее предшественницы. Но они знают, говорил себе Макс: сколь ни юны, отлично они знают, что именно делают. Только об этом не слишком задумываются. Отчего он и провел черту годах на шестнадцати, а чуть старше – и неуклюжими рабочими сцены заявляются романтика, религия, угрызения и портят чистое па-де-де.
Этой же надо было рассказать подружкам, и те взревновали – одна, по крайней мере, довольно, чтобы передать все священнику, родителям, полиции – О боже мой. Как неудобно все вышло. Хотя он не пытался забыть эту живую картину – гримерную комнату в театре «Атенеум», в средних размеров городке под названием Лярдвик-на-Болоте. Голые трубы, в углу висят ношеные вечерние платья в блестках. Сломанный столп из полой сухой штукатурки для романтической трагедии, которую сменил водевиль. Постелью им служил сундук с костюмами. Затем шаги, голоса, так медленно поворачивается дверная ручка…
Она этого хотела. Даже потом, из-за оградительного кордона ненавидящих лиц, сухие глаза ее говорили: я этого по-прежнему хочу. Алиса, погибель Ралфа Макбёрджесса. Кому ведомо, чего все они хотят?
Как он приехал в Александрию, куда будет потом уезжать – мало что из этого имело бы значение для какого ни возьми туриста. Он относился к тому сорту бродяг, кто существует, пусть и против воли, целиком в мире Бедекера – такие же приметы топографии, как другие автоматоны: официанты, носильщики, извозчики, конторщики. Принимаемые как должное. Когда б ни пускался Макс в свои дела – клянчить еду, питье или жилье, – в действие вступала временная договоренность между ним и его «сюжетом»; оным Макс определялся как зажиточный собрат-турист, временно стесненный сбоем машинерии Кука.
Распространенная среди туристов игра. Они знали, кто он; и те, кто в игре участвовал, делали это потому же, почему торговались в лавках или давали нищим бакшиш: таковы неписаные законы земли Бедекера. Макс служил одним из мелких неудобств в почти идеально устроенном туристском государстве. Неудобство это более чем оправдывало себя «колоритом».
Вот у «Финка» забурлила какая-то жизнь. Макс с интересом поднял голову. Из здания, похожего на посольство или консульство, с той стороны рю де Розетт, сюда шли гуляки. Должно быть, прием там завершился только сейчас. Ресторан быстро наполнялся. Макс озирал каждого вновь прибывшего, дожидаясь незаметного кивка, сигнала.
Наконец остановился на компании из четверых: двое мужчин, маленькая девочка и юная дама – как и вечернее платье на ней, она выглядела до неловкости пышной и провинциальной. Все, конечно, англичане. У Макса есть мерила.
А кроме того – и натренированный глаз, и что-то в компании его обеспокоило. Проведя восемь лет в этом наднациональном царстве, уж туриста определить он бы сумел. Девушки – почти наверняка они, а вот спутники их вели себя не так: им не хватало некой уверенности, инстинктивной принадлежности к туристической части Алексы, общей для всех городов, кою даже самые зеленые проявляют в свой первый раз. Но час наступал поздний, а Максу негде было приклонить на ночь голову, да и не ел он еще.
Первая реплика его была малозначима – выбор лишь между стандартными дебютами, всякий действенен, если в силе правило «взялся – мухлюй». Тут важен ответный ход. Сейчас вышло близко к тому, что он угадал. Двое мужчин, похожие на комический дуэт: один светел и толст, другой темноволос, краснолиц и тощ, – судя по всему, желали поиграть в весельчаков. Прекрасно, пусть их. Веселым Макс быть умел. При общем знакомстве взгляд его мог на полсекунды дольше задержаться на Милдред Краль. Но та была близорука и коренаста; в ней вообще ничего от той прежней Алисы.
А взялся идеально: все держались так, точно знакомы с ним не первый год. Но как-то чувствовалось, что неким кошмарным осмосом весть непременно разлетится. Ветром каждому попрошайке, бродяге, добровольному изгнаннику и чужеземцу без портфеля в Алексе, что команда в составе Иглошёрст-со-Славмаллоу плюс сестры Краль сидит за столиком в «Финке». Все это нуждающееся народонаселение вскоре может начать сюда прибывать, один за другим, всякого встречать станут одинаково, радушно и как ни в чем ни бывало втягивать в компанию, как близкого знакомого, откланявшегося и четверти часа не прошло. Макс подвержен был виденьям. Так оно и будет тянуться, до завтра, до послезавтра, дальше: теми же бодрыми голосами подзывать официантов, чтоб несли еще стульев, еды, вина. Вскоре придется давать от ворот поворот другим туристам: все стулья у Финка окажутся заняты, от этого столика компания расползется кольцами, как древесный ствол или дождевая лужа. А когда у Финка стулья закончатся, замотанным официантам придется брать взаймы новые по соседству, приносить со всей улицы, из соседнего квартала, из следующего района; усаженные нищие выплеснутся на улицу, все будет пухнуть и пухнуть… и беседа вырастет до неохватности, каждый из тысяч участников внесет свою лепту воспоминаний, шуток, грез, полоумности, эпиграмм… развлечение! Большой водевиль! И будут они так сидеть, есть, когда наступит голод, напиваться, потом отсыпаться, напиваться снова. Как оно все закончится? А как оно может?
Она болтала, девушка постарше – Виктория, – видать, белый «Фёслауэр» ударил в голову. Восемнадцать, догадался Макс, медленно отрясая от себя виденье обедни бродяг. Столько было б Алисе – теперь.
Есть ли там что-то от Алисы? Алиса, разумеется, была еще одним его мерилом. Ну, та же странная смесь, по крайности, девочки-за-игрой, девочки-в-течке. Жизнерадостна и так зелена…
Она была католичка; посещала женскую школу при монастыре недалеко от дома. Это у нее первое путешествие за границу. О своих религиозных убеждениях говорила, быть может, чрезмерно; вообще-то, какое-то время даже помышляла о Сыне Божием, как всякая юная дама – о любом пригодном холостяке. Но со временем спохватилась, что, конечно же, ничего подобного, а вместо этого он содержит целый гарем, облаченный в черное, украшенный лишь четками. Не в силах терпеть эдакое соперничество, Виктория посему удалилась из послушничества всего через пару недель, но Церковь не покинула: та, с ее грустноликими изваяниями, ароматами свечей и благовоний, образовывала при содействии некоего дядюшки Ивлина фокальные точки ее безмятежной орбиты. Дядюшка сей, одичавший либо отступившийся скиталец, каждые несколько лет приезжал из Австралии и привозил никакие не подарки, а свои чу́дные байки. Насколько Виктория могла припомнить, ни разу не повторялся. Еще важнее, быть может, ей сообщалось материала достаточно для выведения между визитами своего частного захолустья, мира колониальной куколки, с которым и в котором она могла играть все время: развивать, исследовать, управлять. Особенно на Мессе: ибо здесь располагалась сцена, сиречь драматическое поле, уже подготовленное, пригодное для посева прихотей. Так оно и вышло, что Господь носил широкополую фетровую шляпу и дрался в стычках с Сатаной аборигенов на антиподах тверди, во имя и ради сохранности всякой Виктории.
А вот Алиса – «ее» ж там был священник, разве нет? – она принадлежала АЦ[30], крепкая англичанка, будущая мать, щечки-яблочки, все такое. Что с тобой не так, Макс, спрашивал он себя. Выходи уже из этого гардероба, этого безрадостного прошлого. Эта – всего-навсего Виктория, Виктория… но что же в ней такого?
Обычно в подобных сборищах Макс мог бывать разговорчив, забавен. Не столько в смысле оплаты собственного пропитания либо ночлега, сколько для поддержания себя в форме, заточки кромки, навыка травить добрую байку и замерять свое согласие с аудиторией на случай, случай…
Он мог бы вернуться в ремесло. За границей есть гастрольные труппы: даже теперь, на восемь лет старше, линия бровей поменялась, волосы крашены, усы – кто его узнает? Зачем нужно изгнанничество? Россказни дошли до труппы, а через нее – до всей местечковой и провинциальной Англии. Но все они его любили, симпатягу и весельчака Ралфа. Наверняка ж и через восемь лет, даже если его узнают…
Но вот теперь Максу особо нечего было сказать. Беседой властвовала девушка, а к таким беседам навыка у Макса не было. Никаких тебе посмертных вскрытий минувших дней – просторов! гробниц! любопытных нищих! – никакого извлечения мелких трофеев из лавок и базаров, никаких прикидок завтрашнего маршрута; лишь упоминание мимоходом о сегодняшнем приеме в австрийском консульстве. Вместо всего этого тут односторонняя исповедь, а Милдред созерцала камень с окаменевшими трилобитами, который отыскала возле раскопок Фароса, да двое других мужчин слушали Викторию, однако где-то в стороне еще они обменивались взглядами друг на друга, на двери, по залу. Настал ужин, был съеден, отстал. Но даже с наполненным желудком Макс не мог взбодриться. Отчего-то они унылы; Максу было неспокойно. Во что же это он ввязался? Явно скверное решение – выбрать себе эту публику.
– Бог мой, – от Славмаллоу. Они подняли взгляды и увидели – материализовавшуюся за ними – изнуренную фигуру в вечернем наряде, с головою как будто бы раздраженного ястреба-перепелятника. Голова фыркнула, не теряя в злобности. Виктория вся вскипела от смеха.
– Это Хью! – вскричала она в восторге.
– И впрямь, – раздался откуда-то изнутри полый голос.
– Хью Бонго-Штырбери, – нелюбезно произнес Славмаллоу.
– Хармахис. – Бонго-Штырбери показал на керамическую голову сокола. – Бог Гелиополиса и главное божество Нижнего Египта. Вот это совершенно подлинная: маской, знаете ли, пользовались в древних ритуалах. – Он уселся рядом с Викторией. Славмаллоу насупился. – Буквально «Гор в горизонте», также представляется в виде льва с головой человека. Как Сфинкс.
– Ох, – сказала Виктория (это вялое «ох»), – Сфинкс.
– Далеко ли вы намерены двигаться вниз по Нилу, – спросил Иглошёрст. – Мистер Славмаллоу упоминал о вашем интересе к Луксору.
– У меня есть чувство, что это свежая территория, сэр, – ответил Бонго-Штырбери. – В округе никаких первосортных работ с тех пор, как Гребо еще в 91-м обнаружил гробницу фиванских жрецов. Разумеется, надо пошарить вокруг пирамид в Гизе, но там все больше старье после кропотливейшего исследования мистера Флиндерса Питри лет шестнадцать-семнадцать назад.
Это еще что такое, недоумевал Макс. Он, что ли, египтолог или просто цитирует из «Бедекера»? Виктория прелестно держала себя между Славмаллоу и Бонго-Штырбери, стараясь поддерживать нечто вроде кокетливого равновесия.
С виду-то – все нормально. Соперничество за внимание юной дамы между этими двумя, Милдред – младшая сестра, Иглошёрст, вероятно, личный секретарь; ибо у Славмаллоу вид и впрямь зажиточный. Но глубже?
Нехотя он подступил к осознанию. В земле Бедекера нечасто встретишь самозванцев. Двуличность противозаконна, это значит ты – Неславный Малый.
Но они за туристов себя лишь выдавали. Вели игру, отличную от Максовой; это-то его и пугало.
Беседа за столом замерла. Лица троих мужчин утратили все меты конкретной страсти, что у них и были. К их столу двигалась причина: непримечательная фигура в накидке и синих очках.
– Здрассте, Лепсиус, – произнес Славмаллоу. – Утомлены климатом Бриндизи, а?
– Внезапные дела призвали меня в Египет.
Итак, компания уже разрослась от четверых до семерых. Макс вспомнил свое видение. В какой же затейливой манере чужеземцев тут: эти двое? Он подметил промельк связи между новоприбывшими, поспешный и чуть ли не совпавший со сходным взглядом меж Иглошёрстом и Славмаллоу.
Так, что ли, стороны выстраиваются? Есть ли здесь вообще стороны?
Славмаллоу принюхался к вину.
– Ваш спутник, – наконец сказал он. – Мы вполне рассчитывали увидеть его снова.
– Уехал в Швейцарию, – ответил Лепсиус, – чистых ветров, чистых гор. Бывает, однажды, что нахлебаешься уже этого замызганного Зюйда.
– Если не уехать на юг достаточно далеко. Воображаю, где-то там, ниже по Нилу, возвращаешься к некой первобытной незапятнанности.
Хорошо момент выбран, отметил Макс. И репликам предшествовали жесты, как полагается. Кем бы ни были они, у нас сегодня отнюдь не вечер художественной самодеятельности.
Лепсиус поразмыслил:
– А там не закон дикого зверя разве властвует? Там же нет прав собственности. Там сражаются. Победитель выигрывает всё. Славу, жизнь, власть и собственность; всё.
– Быть может. Но в Европе, знаете, мы цивилизованны. К счастью, закон джунглей недопустим.
Чудно́: ни Иглошёрст, ни Бонго-Штырбери не говорили. Каждый прилип взглядом к своему напарнику, храня невыразительность.
– Стало быть, снова встретимся в Каире, – произнес Лепсиус.
– Вероятнее всего; – кивая.
После чего Лепсиус отбыл.
– Какой странный господин, – улыбнулась Виктория, сдерживая Милдред, которая рукой уже нацелилась метнуть свой камень в его удаляющуюся спину.
Бонго-Штырбери повернулся к Иглошёрсту:
– Странно предпочитать чистое измаранному?
– Может зависеть от найма, – было возражением Иглошёрста: – и нанимателя.
«Финку» настало время закрываться. Бонго-Штырбери схватил чек с расторопностью, коя всех развлекла. Половина боя, подумал Макс. На улице он тронул Иглошёрста за рукав и пустился в смущенное порицание Кука. Виктория проскакала вперед через рю Шариф Паша к отелю. За ними с выезда у австрийского консульства прогрохотал закрытый экипаж и метнулся прочь по рю де Розетт так, словно черти им правили.
Иглошёрст повернулся проводить его взглядом.
– Торопится кто-то, – отметил Бонго-Штырбери.
– И впрямь, – сказал Славмаллоу. Троица оглядела несколько огней в верхних этажах консульства. – Однако все тихо.
Бонго-Штырбери быстро хохотнул, быть может – чуточку скептически.
– Вот. На улице…
– Пятерка меня бы выручила, – продолжал Макс, стараясь вернуть себе внимание Иглошёрста.
– О, – смутно, – разумеется, мог бы уделить. – Наивно возясь с бумажником.
Виктория наблюдала за ними с обочины тротуара напротив.
– Ну идите же, – позвала она.
Славмаллоу ухмыльнулся:
– Уже, дорогая мъя. – И зашагал через дорогу с Бонго-Штырбери.
Она притопнула ногой.
– Мистер Иглошёрст. – Тот, пять фунтов меж кончиками пальцев, обернулся. – Заканчивайте уже со своим увечным. Дайте ему положенный шиллинг и идите сюда. Поздно.
Белое вино, призрак Алисы, первые сомнения в подлинности Иглошёрста; все это могло содействовать нарушению кодекса. В кодексе же лишь: Макс, бери все, что тебе дают. Макс уже отвернулся от купюры, трепетавшей на уличном ветру, отошел прочь против ветра. Хромая к следующей лужице света, он чуял, что Иглошёрст по-прежнему смотрит ему вслед. Кроме того, знал – как он при этом выглядит: запинка, не так уверен в безопасности своих воспоминаний и в том, сколько еще лужиц света ему разумно ожидать от улицы ночью.
IV
Утренний экспресс Александрия – Каир опаздывал. На Gare du Caire[31] он впыхтел медленно, шумно, выпуская черный дым и белый пар, чтобы путались в пальмах и акациях парка за путями напротив вокзала.
Разумеется, поезд опаздывал. Проводник Вальдетар добродушно хмыкнул насчет тех, кто на перроне. Туристы и предприниматели, носильщики от Кука и Гейза, пассажиры победнее, третьего класса, со своим снаряжением – как на базаре –: чего еще они ждали? Семь лет он проделывал один и тот же неспешный рейс, и поезд никогда не приходил вовремя. Расписания – это для хозяев линии, для тех, кто высчитывает прибыль и потерю. Сам поезд ходил по иным часам – своим собственным, их ни один человек не поймет.
Вальдетар не был александрийцем. Родился в Португалии, жил теперь с женой и тремя детьми возле железнодорожного депо в Каире. Вся жизнь его неизбежно продвигалась на восток; как-то избежав теплицы своих собратьев-сефардов, он кинулся в другую крайность и развил в себе одержимость корнями предков. Земля триумфа, земля Б-га. Земля страданий, конечно, тоже. Сцены конкретных гонений его расстраивали.
Но Александрия – случай особый. В еврейский год 3554-й Птолемей Филопатор, коего в Иерусалиме не впустили в храм, вернулся в Александрию и заключил в тюрьму множество народу из тамошней еврейской общины. Христиан далеко не первыми выставляли на поругание и массово казнили на потеху толпе. Тут Птолемей, приказав согнать александрийских евреев на Ипподром, устроил двухдневное буйство. Сам царь, гости его и стадо слонов-убийц подкрепились вином и афродизиаками: когда накал дорос до нужного уровня кровожадности, слонов выпустили на арену и погнали на узников. Но повернули те (как рассказывают) вместо этого на охрану и зрителей, многих затоптали насмерть. Так этим впечатлился Птолемей, что отпустил осужденных, восстановил их привилегии и дал позволение убивать их врагов.
Вальдетар, человек в высшей степени набожный, слышал эту историю от своего отца и склонялся к точке зрения здравого смысла. Если нипочем не скажешь, как поведет себя пьяный человек, еще меньше понятно про стадо пьяных слонов. Зачем приписывать это Б-жьему вмешательству? Таких примеров в истории и без этого навалом, к ним всем Вальдетар относился с ужасом и ощущал собственную малость: Ной предвидел Потоп, расступалось Красное море, Лот сбегал из уничтоженного Содома. Люди, чувствовал Вальдетар, и даже, быть может, сефарды отданы на милость земле и ее морям. Случаен какой-либо катаклизм или преднамерен, им нужен Б-г, дабы уберег от вреда.
У бури и землетрясения разума нет. Душа не может поощрять не-душу. Только Б-г может.
Но у слонов-то души есть. Любое способное напиться, рассуждал он, должно иметь душу. Быть может, лишь это «душа» и значит. События меж душой и душой – не прямая вотчина Б-га: на них влияет либо Фортуна, либо добродетель. Евреев на Ипподроме спасла Фортуна.
На любой случайный взгляд со стороны Вальдетар был просто поездной механизм, а в частной жизни вот – именно такая дымка философии, воображения и нескончаемых треволнений насчет нескольких своих взаимоотношений: не только с Б-гом, но и с Нитой, с их детьми, с его собственной историей. Никто ничего особо не делает, однако остается великая шуточка над всеми посещающими землю Бедекера: постоянно живущие в ней – на самом деле замаскированные люди. Тайна эта хранится так же крепко, как и прочие: статуи разговаривают (хотя говорливый Мемнон из Фив, некоторыми рассветами, бывал несдержан), кое-какие правительственные здания сходят с ума, а мечети занимаются любовью.
Взяв на борт пассажиров и багаж, поезд оборол свою инертность и тронулся лишь четвертью часа позже расписания к карабкающемуся ввысь солнцу. Железная дорога из Александрии в Каир описывает грубую дугу, чья хорда указывает на юго-восток. Но поезд сперва должен уклониться на север, дабы обогнуть озеро Мареотис. Пока Вальдетар обходил купе первого класса и собирал билеты, поезд миновал богатые деревни и сады, живые пальмами и апельсиновыми деревьями. Враз они остались позади. Вальдетар протиснулся мимо немца с синими линзами вместо глаз и араба, погруженных в беседу, вошел в купе и как раз успел увидеть в окно мгновенную смерть: пустыню. Место древнего Элевсина – громадный курган, на вид – единственное место на земле, кое так и не попалось на глаза плодородной Деметре, – проплыл, обойденный, к югу.
В Сиди-Габер поезд наконец развернулся к юго-востоку, подвигаясь медленно и понемногу, как солнце; зенит и Каир, вообще-то, будут достигнуты одновременно. За канал Махмудья, в медленно расцветающую зелень – Дельту – и тучи уток и пеликанов, что взмывают с берегов Мареотиса, испуганные шумом. Под озером осталось 150 деревень, затопленных рукотворным Потопом 1801 года, когда англичане прорезали пустынный перешеек при осаде Александрии и впустили сюда Средиземное море. Вальдетару нравилось думать, что водоплавающие, густо парящие теперь в воздухе, – это призраки феллахов. Что за подводные чудеса там, на дне Мареотиса! Затерянная страна: дома, лачуги, фермы, водяные колеса, все нетронуто.
Тянут ли нарвалы сами свои плуги? Морские черти крутят свои водяные колеса?
Под насыпью слонялась кучка арабов, выпаривали соль из озера. Дальше по каналу – баржи, их паруса браво белели под этим солнцем.
Под тем же солнцем Нита уже наверняка бродит по их дворику, тяжелая, как Вальдетар надеялся, мальчиком. Мальчик бы уравновесил их: двое на двое. Нас теперь женщины численно превосходят, подумал он: чего ради я должен и дальше поддавать неравновесия?
– Хоть я не против, – как-то раз сказал ей он, когда женихался (частью там еще – в Барселоне, когда работал грузчиком в порту); – Б-жья воля, разве нет? Погляди на Соломона, да и других великих царей столько. Один мужчина, несколько жен.
– Великий царь, – заорала она: – кто? – Оба они расхохотались, как дети. – Одну крестьянскую девочку даже прокормить не можешь. – Не так нужно производить впечатление на молодого человека, за которого собралась замуж. Потому-то среди прочего он и влюбился в нее вскоре после, потому-то они и оставались влюбленными друг в друга почти семь лет супружеской верности.
Нита, Нита… Мысленным взором он всегда видел, как она сидит у них за домом в сумерках, где крики детворы тонут в гудке вечернего поезда на Суэц; где сажа забивается в поры, которые все шире от напоров какой-то сердечной геологии («Цвет лица у тебя все хуже, – говорил, бывало, он: – Смотри, придется мне больше внимания обращать на этих прелестных юных француженок, что всегда мне строят глазки». – «Отлично, – отвечала она, – так и скажу булочнику, когда он завтра придет со мной спать, ему легче станет»); где все ностальгии по Иберийской литорали, для них утраченной, – кальмар, развешенный вялиться, сети, натянутые поперек любого небосветлого утра или вечера, песни или пьяные вопли моряков и рыбаков из-за буквально соседнего маячащего склада (найди их, найди их! голоса, чье страданье есть ночь всего мира), – теряли реальность, символически, как перестук по стрелкам, пых-пых неодушевленного дыханья, и лишь делали вид, будто собираются среди тыкв, портулака и огурцов, одинокой фиговой пальмы, роз и пуансеттий их сада.
На полпути в Даманхур он услышал, как в купе поблизости плачет ребенок. Любопытствуя, Вальдетар заглянул внутрь. Девочка была английская, лет одиннадцати, близорукая: слезистые глаза ее влажно искажались за толстыми очками. Напротив нее мужчина, лет тридцати, разглагольствовал. Другой смотрел на все это, вероятно, сердито, по крайней мере, такую иллюзию создавало его горящее лицо. Девочка прижимала к плоской груди камень.
– Но ты ж никогда не играла с заводной куклой? – упорствовал мужчина, голос приглушен дверью. – Кукла все делает в совершенстве, из-за механизма внутри. Ходит, поет, прыгает через скакалку. Настоящие маленькие мальчики и девочки, знаешь, плачут: капризничают, не слушаются. – Руки его лежали совершенно спокойно, длинные и истощенно-нервные, по одной на каждом колене.
– Бонго-Штырбери, – начал второй.
Бонго-Штырбери отмахнулся, в раздражении.
– Позволь. Давай я покажу тебе механическую куклу. Электро-механическую куклу.
– А у вас есть… – (ей страшно, подумал Вальдетар с нахлынувшим сочувствием, видя своих девочек. Черт бы драл некоторых англичан…) – у вас с собой?
– Я сам она, – улыбнулся Бонго-Штырбери. И отвернул рукав пиджака снять запонку. Закатал манжету рубашки и сунул руку девочке голой внутренней стороной. Блестящий и черный, вшитый в плоть, там был миниатюрный электрический переключатель. Однополюсный, двухпозиционный. Вальдетар отшатнулся, моргая. Тонкие серебряные проводки бежали от контактов выше по руке, исчезая под рукавом.
– Видишь, Милдред. Эти провода идут мне в мозг. Когда переключатель замкнут вот так, я веду себя так, как сейчас. А если перебрасывается в другую…
– Папа! – вскрикнула девочка.
– Все работает на электричестве. Просто и чисто.
– Прекратите, – сказал другой англичанин.
– Отчего ж, Иглошёрст. – Злобно. – Отчего. Ради нее? Растроганы ее страхом, разве нет. Или ради себя.
Иглошёрст, казалось, пошел на попятную, застенчиво.
– Детей не пугают, сэр.
– Ура. Опять общие принципы. – Трупные пальцы потыкали воздух. – Но день настанет, Иглошёрст, и я, или кто другой, застанет вас врасплох. За любовью, ненавистью, даже проявлением какого-нибудь рассеянного сочувствия. Я глаз с вас не спущу. В тот же миг, когда вы забудетесь и признаете человечность другого, увидите в нем личность, а не символ, – тогда, быть может…
– Что есть человечность.
– Очевидное вы спрашиваете, ха, ха. Человечность – то, что подлежит уничтожению.
Из заднего вагона донесся шум, за спиной Вальдетара. Иглошёрст выскочил из купе, и они столкнулись. Милдред сбежала, сжимая свой камень, в соседнее купе.
Дверь на заднюю площадку была распахнута: перед нею толстый румяный англичанин боролся с арабом, которого Вальдетар уже видел за беседой с немцем. У араба был пистолет. Иглошёрст двинулся к ним, приноравливаясь опасливо, выбирая точку. Вальдетар, придя наконец в себя, кинулся разнимать драку. Но не успел приблизиться, Иглошёрст направил пинок в горло араба и попал ему по трахее. Хрипя, араб повалился.
– Так, – раздумчиво произнес Иглошёрст. Толстый англичанин подобрал пистолет.
– В чем дело, – решительно осведомился Вальдетар, как образцовый слуга общества.
– Ни в чем. – Иглошёрст протянул соверен. – Все можно вылечить вот этим суверенным средством.
Вальдетар пожал плечами. Общими усилиями они заволокли араба в купе третьего класса, велели служителю там за ним приглядывать – и высадить в Даманхуре. На горле араба расползалось синее пятно. Несколько раз пытался заговорить. Выглядел он довольно нездоровым.
Когда англичане разошлись наконец по своим купе, Вальдетар впал в задумчивость, коя продлилась за Даманхур (где он опять увидел, как беседуют араб и немец с синими линзами), через сужавшуюся Дельту, а солнце восходило к полудню, и поезд полз к Главному вокзалу Каира; а мелкая детвора бежала десятками вдоль вагонов и клянчила бакшиш; а девочки в синих хлопковых юбках, в чадрах, с грудями, загоревшими под солнцем до лоска, брели к Нилу наполнить свои кувшины водой; а водяные колеса кружились, и оросительные каналы поблескивали и сплетались до самого горизонта; а феллахи бездельничали под пальмами; а буйволы шагали каждодневной тропой своей, кругами, вокруг водоподъемных колес. Вершина зеленого треугольника – Каир. Это значит, что, говоря относительно, при условии, если поезд ваш стоит неподвижно, а земля движется, пустоши-близнецы Ливийской и Аравийской пустынь справа и слева неумолимо наползают, сужая плодородную и быструю часть вашего мира, пока вам не остается всего ничего, право прохода, а перед вами – великий город. И там вот подкралось к доброму Вальдетару подозрение безрадостное, как сама эта пустыня.
Если они то, о чем я думаю; что же это за мир такой, когда от них должны страдать дети?
Размышляя, само собой, о Маноэле, Антонии и Марии: своих собственных.
V
Пустыня подкрадывается к земле человека. Не феллах, но какой-то землей владеет. Владел. С мальчишества чинит стену, кладет раствор, носит камень, тяжелый, как он сам, подымает его, кладет на место. Но пустыня все равно приходит. Стена что, предатель, впускает ее? Мальчик одержим джинном, который вынуждает его руки делать работу не так? Натиск пустыни слишком силен для любого мальчика, или стены, или мертвых отца и матери?
Нет. Пустыня вселяется. Так происходит, ничего больше. Никакого джинна в мальчике, никакого коварства в стене, никакой враждебности в пустыне. Ничего.
Вскоре – ничего. Вскоре только пустыня. Две козы неизбежно подавятся песком, роя землю носами, ища белый клевер. Ему – никогда не испробовать снова их скисшего молока. Дыни умирают под песком. Никогда больше не утешишь ты летом, прохладная абделави, вылепленная как труба Ангела! Маис умирает, и нет хлеба. Жена, дети болеют и вспыльчивы. Муж, он, однажды ночью выбегает туда, где была стена, принимается подымать и расшвыривать воображаемые камни, костерит Аллаха, затем просит у Пророка прощения, затем мочится на пустыню, надеясь оскорбить то, что оскорбить нельзя.
Наутро его находят в миле от дома, кожа посинела, дрожит во сне, который почти смерть, слезы на песке обратились в лед.
И вот дом уже наполняется пустыней, как нижняя половина песочных часов, которые никогда не перевернут снова.
Что делает мужчина? Джабраил окинул быстрым взглядом своего седока. Даже здесь, в саду Эзбекие в самый полдень, копыта этой лошади стучали гулко. Ты распрочертовски прав, инглизи; мужчина приезжает в Город и возит тебя и любого другого франка, которому есть к какой земле вернуться. Вся его семья живет вместе в комнатке не больше твоего ватерклозета, в арабском Каире, куда ты никогда не заглядываешь, потому что там слишком грязно, да и не «любопытно». Где улица так узка, что даже тень человека едва протиснется; улицы, как многих, нет ни на какой карте путеводителя. Где дома навалены ступенями; так высоко, что окна двух зданий через дорогу могут касаться друг друга; и прячут солнце. Где золотых дел мастера живут в отбросах и раздувают крохотные свои огоньки, чтобы сделать украшенье для твоих путешествующих английских дам.
Пять лет Джабраил их ненавидел. Ненавидел каменные дома и щебеночные дороги, железные мосты и стеклянные окна отеля «Шефердз», – казалось, все они суть лишь различные формы того же мертвого песка, что отнял у него дом.
– Город, – часто говорил Джабраил своей жене сразу после того, как признавал, что вернулся домой пьяный, и сразу перед тем, как заорать на детей – те впятером слепо свернулись в комнате без окон над цирюльней, как кутята, – город – лишь пустыня под личиной.
Ангел Господень, Джабраил, надиктовал Коран Мухаммеду, Пророку Господню. Вот была б шутка, а не священная книга, если бы тот двадцать три года лишь вслушивался в пустыню. В пустыню, у которой нет голоса. Если Коран – ничто, значит Ислам – тоже ничто. Тогда и Аллах – лишь сказки, а Рай его – беспочвенные мечтания.
– Отлично. – Седок перегнулся через его плечо, воняя чесноком, как итальянец. – Жди здесь. – Но одет, как инглизи. Как ужасен он с обожженного лица: мертвая кожа слезает белыми лохмотьями. Они стояли перед отелем «Шефердз».
С полудня колесили они по всей фешенебельной части города. От отеля «Виктория» (где, странное дело, седок его вынырнул из входа для прислуги) они сперва поехали в квартал Россетти, затем несколько остановок вдоль по Муски; потом в гору к Rond-Point[32], где Джабраил ждал, пока англичанин полчаса пропадал в едком лабиринте Базара. В гости, должно быть, ходил. Ну а девушку он наверняка уже видел. Девушку из квартала Россетти: коптка, быть может. Глаза до невозможности огромны от туши, нос слегка крючком и кривоват, пара вертикальных ямочек по сторонам рта, волосы и спина укрыты вязаной шалью, высокие скулы, тепло-смуглая кожа.
Конечно, она тоже на нем ездила. Он вспомнил лицо. Любовница какого-то служащего в британском консульстве. Джабраил забирал для нее мальчика перед отелем «Виктория», через дорогу. В другой раз они уходили к ней в комнаты. Хорошо, что Джабраил помнит лица. Больше бакшиш будет, если через раз желать им доброго дня. Как можно говорить, что они люди: они деньги. Какое дело ему до любовных делишек англичан? Милосердие – беззаветное либо эротическое – такая же ложь, как Коран. Не существует.
Одного торговца на Муски он тоже видел. Драгоценностями торгует, ссужал деньгами махдистов и боялся, что симпатии его станут известны, раз движение теперь разгромили. Чего там надо было англичанину? Из лавки он не вынес никаких драгоценностей; а внутри просидел чуть ли не час. Джабраил пожал плечами. Оба они дурни. Единственный Махди – в пустыне.
Некоторые верили, что Мухаммед Ахмед, Махди 83-го, спит, а не лежит мертвый в пещере под Багдадом. И в Последний День, когда пророк Христос восстановит эль-Ислам как всемирную религию, он возвратится к жизни и уничтожит антихриста Даджаля у церковных врат где-то в Палестине. Ангел Исрафил вострубит и убьет все на земле, а потом еще раз – и пробудятся мертвые.
Но ангел пустыни сокрыл все трубы под песком. Сама пустыня – уже пророчество Последнего Дня.
Джабраил изнуренно околачивался у сиденья своего пегого фаэтона. Разглядывал зад бедной лошади. Жопа несчастной клячи. Он чуть не расхохотался. Вот это, значит, откровение Господне? Над городом висела дымка.
Вечером он напьется со знакомым, тот торгует тутовыми смоквами, а как звать его, Джабраил не знает. Смоквичник верил в Последний День; видел, вообще-то, его приближение.
– Слухи, – мрачно сказал он, улыбнувшись девушке с гниющими зубами, которая работала по арабским кафе, ища изголодавшихся по любви франков, с младенцем на одном плече. – Политические слухи.
– Политика вся ложь.
– Высоко по течению Бахр-эль-Абьяда, в варварских джунглях есть местечко, называемое Фашода. Франки – инглизи, ферансави – поведут там великую битву, что растечется во все стороны и охватит весь свет.
– И Исрафил созовет к оружью, – фыркнул Джабраил. – Не сможет. Он ложь, и труба его – ложь. Одна есть правда…
– Пустыня, пустыня. Wahyat abuk! Боже упаси.
И смоквичник ушел в дым за бренди.
Ничто наступало. Ничто уже здесь.
Вот вернулся англичанин со своим гангренозным лицом. Из отеля его проводил толстый друг.
– Выжидаем, – радостно крикнул седок.
– Ха, хо. Завтра вечером я веду Викторию в оперу.
Снова в коляску:
– У «Креди-Льоннэ» есть аптека. – Усталый Джабраил подобрал поводья.
Ночь надвигалась быстро. В этой дымке звезд не разглядеть. Да и бренди поможет. Джабраилу нравились беззвездные ночи. Словно в конце концов вот-вот вскроется великая ложь…
VI
Три часа ночи, на улицах ни звука, фигляру Гиргису самое время заняться ночным своим развлеченьем, взломом.
Ветерок в акациях: вот и все. Гиргис съежился в кустах, у тылов отеля «Шефердз». Пока солнце еще стояло высоко, он с труппой сирийских акробатов, а также трио из Порт-Саида (цимбалы, нубийский барабан, свирель) выступали на расчищенном пятачке у канала Исмаилья, в предместье, у скотобойни в Аббасье. Ярмарка. Стояли там качели и грозная паровая карусель для детворы; заклинатели змеев, торговцы всевозможными лакомствами: печеными семечками абделави, лаймами, жареной патокой, водой, уснащенной лакрицей или апельсиновым цветом, пирожками с мясом. Публикой его были каирские дети и эти пожилые дети Европы, туристы.
Бери у них днем, бери у них ночью. Вот бы еще кости от всего этого так не ныли. Показывать фокусы – с шелковыми платками, складывающимися шкатулками, с плащом, у которого таинственные карманы, а снаружи он украшен иероглифическими плугами, жезлами, кормящимся ибисом, лилией и солнцем – трюки и грабеж, для них рука нужна легкая, кости резиновые. А вот дурака валять – на это никаких сил не хватало. От этого кости твердели: кости, которым надо быть живыми, а не скальными стержнями под плотью и кожей. Падать с вершины пестрой пирамиды сирийцев, да так, чтоб нырок этот выглядел едва ли не смертельным, каким он и был; либо завязывать балаганную потасовку с нижним, такую жестокую, что вся конструкция шаталась и раскачивалась; на лицах у прочих выступал нарочитый ужас. А детвора хохотала, визжала, зажмуривалась или же наслаждалась напряженьем момента. Вот единственное подлинное вознаграждение, предполагал он, – Бог свидетель, не плата же – отклик детворы; сокровище паяца.
Хватит, хватит. Лучше с этим покончить, решил он, и как можно скорей на боковую. Настанет такой день, когда он взберется на эту пирамиду до того усталым, рефлексы до того расшатаны, что смертельный номер пройдет не понарошку. Гиргис поежился на том же ветерке, что студил акации. Наверх, велел он своему телу: вверх. К тому окну.
И уже полувыпрямился, когда заметил конкурента. Еще один комик-акробат – вылез из окна футах в десяти над кустами, в которых таился Гиргис.
Значит, терпенье. Присмотреться, как он это делает. Учиться всегда пригодится. Лицо другого, в профиль, казалось неправильным: но это лишь от уличного фонаря. Ногами встав на узкий карниз, человек по-крабьи пополз вбок, к углу здания. Сделав несколько шажков, остановился; взялся ковырять себе лицо. Что-то белое спорхнуло вниз, тонкое, как шелуха, в кусты.
Кожа? Гиргиса вновь передернуло. Умел он подавлять в себе мысли о болезни.
Карниз, очевидно, к углу сужался. Вор теперь обнимал стену крепче. Добрался до угла. Встал ногами по разные стороны, угол здания рассекал его от бровей до живота – и тут потерял равновесие и упал. В полете заорал по-английски непристойность. С треском рухнул в кусты, перекатился и немного полежал неподвижно. Вспыхнула спичка и погасла, оставив лишь пульсирующий уголек сигареты.
Гиргис очень ему сочувствовал. Видел, как такое и с ним однажды произойдет, перед детьми, старыми и молодыми. Верь он в приметы – бросил бы сегодня все и вернулся в палатку, где все они обитали возле скотобойни. Но как прожить на несколько мильемов, что ему швыряют за весь день? «Фигляр профессия вымирающая, – размышлял он в настроении получше. – Все хорошие ушли в политику».
Англичанин погасил сигарету, встал и полез на ближайшее дерево. Гиргис лежал, бормоча старые проклятья. Он слышал, как англичанин сопит и разговаривает сам с собой, пока взбирается, заползает на ветку, садится на нее верхом и заглядывает в окно.
Миновало секунд пятнадцать, и до Гиргиса с дерева отчетливо донеслись слова:
– Туповато, знаешь ли. – Возник еще один сигаретный уголек, после чего внезапно махнул быстрой дугой вниз и повис в нескольких футах под веткой. Англичанин раскачивался, держась за ветку одной рукой.
Нелепица какая, подумал Гиргис.
Хрясь. Англичанин снова свалился в кусты. Гиргис осторожно поднялся и подошел к нему.
– Бонго-Штырбери? – произнес англичанин, заслышав шаги Гиргиса. Он лежал, пялясь в беззвездный зенит, рассеянно счищая с лица чешуйки мертвой кожи. Гиргис остановился от него в нескольких шагах. – Пока нет, – продолжал тот, – вы меня еще не вполне уделали. Они там, наверху, на моей кровати, Славмаллоу с девушкой. Мы вместе уже два года, и я не в силах даже, знаете, сосчитать всех девушек, с кем он так поступил. Будто любая европейская столица – Маргейт, а променад – на весь континент. – Он запел:
- Это не та, с кем я вас видел в Брайтоне.
- Но кто же ваша спутница, о кто?
Безумец, подумал Гиргис, жалея. Солнце не остановилось на лице бедняги, оно ударило ему и в голову.
– Она будет в него «влюблена», что бы ни значило это слово. Он ее бросит. Думаете, мне есть дело? Напарника принимаешь, как орудие, со всеми его идиосинкразиями. Я читал досье Славмаллоу, я знал, что́ мне достанется… Но, быть может, солнце и то, что творится по Нилу, и выкидной переключатель у вас на руке, чего я не ожидал; и перепуганный ребенок, а теперь и… – он показал на окно, им покинутое, – сбили меня с толку. У всех нас свой порог. Уберите револьвер, Бонго-Штырбери, – вот славный малый – и подождите, просто подождите. Она по-прежнему безлика, по-прежнему одноразова. Боже мой, кто знает, сколькими нами придется пожертвовать на этой неделе? Она меня беспокоит меньше всего. Она и Славмаллоу.
Как мог Гиргис его утешить? По-английски он говорил неважно, понимал лишь половину слов. Безумец не шевелился, только продолжал пялиться в небо. Гиргис открыл было рот, передумал говорить и стал пятиться. Он вдруг понял, до чего устал, как много у него отбирают дни акробатики. Станет ли однажды эта отчужденная фигура на земле Гиргисом?
Старею, подумал Гиргис. Я увидел собственного призрака. Но все равно загляну в «Hôtel du Nil». Туристы там не так богаты. Но все мы делаем, что можем.
VII
Bierhalle[33] к северу от сада Эзбекие создали туристы с севера Европы по своему образу. Эдакое воспоминание о доме среди смуглого и тропического. Но столь немецкое, что в конечном счете – пародия дома.
Ханне держалась за эту работу лишь потому, что была плотна и светловолоса. Брюнетка помельче и с юга проработала какое-то время, но в итоге ее уволили, потому что немкой выглядела недостаточно. Баварская крестьянка, но недостаточно немка! Причуды владельца, Бёблиха, лишь развлекали Ханне. Воспитанная терпеть – кельнерша с тринадцати лет, – она выработала в себе и отточила бескрайнее коровье спокойствие, которое с пользой служило ей средь пьянства, продажной любви и общего скудоумия Bierhalle.
У коров этого мира – этого туристского мира, по крайней мере, – любовь приходит, испытывается и уходит как можно ненавязчивей. Так и у Ханне с этим перекати-полем Лепсиусом; торговцем – сказал он – дамскими ювелирными украшениями. Ей ли сомневаться? Повидав все (ее фраза), Ханне, выученная обычаям мира несентиментального, достаточно соображала, что мужчины одержимы политикой почти так же, как женщины замужеством. Знала, что Bierhalle – не просто место, где лишь напиваются или цепляют женщину, равно как и то, что в списке частых посетителей тут личности странные для образа жизни Карла Бедекера.
Как же расстроится Бёблих, увидь он ее любовничка. Ханне теперь грезливо бродила по кухне, в вялом межвременье от ужина до серьезного пития, руки по локоть в мыльной пене. Лепсиус, разумеется, «недостаточно немец». На полголовы ниже Ханне, глаза такие нежные, что вынужден носить затемненные очки даже в сумраке у Бёблиха, и такие бедные худенькие ручки и ножки.
– В городе сейчас конкурент, – признался ей он, – толкает линейку хуже качеством, сбивает нам цены – это неэтично, разве не видишь? – Она тогда кивнула.
Ну если б он сюда пришел… что б ни случилось ей подслушать… дело гнилое, не хотел бы в такое никакую женщину впутывать… но…
Ради слабеньких его глаз, громкого его храпа, ради того, как по-мальчишески он на нее взбирался, а потом слишком долго упокаивался в объятьях ее толстых ног… конечно же, она будет посматривать, не явится ли какой-нибудь «конкурент». Он англичанин и где-то сильно обгорел на солнце.
Весь день, сквозь медлительные утренние часы, слух ее, похоже, обострялся. Поэтому в полдень, когда в кухне мягко прорезался беспорядок – ничего не вдруг: запоздало несколько заказов, обронили тарелку, и та раскололась, как нежные барабанные перепонки Ханне, – она уже услышала, видать, больше, чем намеревалась. Фашода, Фашода… слово плескалось по заведению Бёблиха пагубным ливнем. Даже лица изменились: шеф-повар Грюне, кельнер Вернер, Муса – мальчик, подметавший полы, – Лотте, Эва и другие девушки, все, казалось, стали уклончивы, а все это время таили секреты. Что-то зловещее просквозило даже в обычном шлепке по ягодицам, который Бёблих выделил Ханне, когда она проходила мимо.
Воображение, твердила себе Ханне. Она всегда была девушкой практичной, причуди не поддавалась. Неужели таков какой-нибудь побочный эффект любви? Притягивает виденья, науськивает голоса, которых не существует, отчего пережевывать и вторично переваривать любую жвачку только труднее? Ханне беспокоилась из-за этого, а ведь думала, что все о любви уже знает. Чем Лепсиус не похож на прежних: помедленней, послабей; уж точно не корифей этого дела, не таинственней и не замечательней любого из десятка чужаков.
Черт бы побрал мужчин и их политику. Быть может, это для них вроде половой любви. Разве не тем же словом для того, что мужчина делает с женщиной, они даже называют то, что удачливый политик делает со своим бессчастным оппонентом? Что ей Фашода или Маршан с Китченером, или как их там зовут, тех двоих, что «встретились» – для чего встретились? Ханне рассмеялась, качая головой. Могла она себе представить для чего.
Отбеленной мылом рукой она смахнула отбившуюся прядь желтых волос. Занятно, как кожа умирает и становится размокше-белой. На проказу похоже. С полудня начиная, сюда успел дрожко проникнуть некий лейтмотив болезни, полупроявил себя, таясь в музыке каирского дня; Фашода, Фашода, слово, от которого бледно, расплывчато болит голова, оно намекает на джунгли, и невиданные микроорганизмы, и лихорадки отнюдь не любовные (а ей ведомы были только такие, в конечном счете, здоровая же девушка), да и ничем не человечьи. Свет ли переменился, или на коже у всех прочих действительно выступили кляксы болезни?
Она сполоснула и поставила в стопу последнюю тарелку. Нет. Пятно. Тарелка снова отправилась в мойку. Ханне потерла, затем осмотрела тарелку опять, повернув к свету. Пятно не сошло. Еле заметно. Грубо треугольное, оно тянулось от вершины почти в центре к основанию в дюйме или около того у края. Буроватое, нечеткого очерка на выцветшей белизне поверхности. Ханне наклонила тарелку еще на несколько градусов к свету, и пятно исчезло. Недоумевая, она склонила голову рассмотреть его под другим углом. Пятно дважды мигнуло – то есть оно, то нет. Ханне поняла, что, если присмотреться чуть за тарелку и мимо ее края, пятно останется сравнительно постоянным, хотя форма его меняется; то оно полумесяц, то трапеция. В раздражении она сунула тарелку обратно в воду и зарылась в кухонную утварь под раковиной, нет ли там щетки пожестче.
Настоящее ли пятно? Цвет ей не нравился. Такого у нее головная боль: мертвенно-бурая. Это же пятно, сказала она себе. Вот и все. Она принялась тереть его ожесточенно. Снаружи с улицы входили питухи.
– Ханне, – позвал Бёблих.
О господи, неужто никогда не сойдет. Наконец она бросила тереть и поставила тарелку к другим. Но теперь пятно, похоже, расщепилось – и перенеслось наложением на обе ее сетчатки.
Быстрый взгляд на прическу в осколок зеркала над раковиной; тут же зажглась улыбка, и Ханне вышла прислуживать соотечественникам.
Конечно же, первым она увидела лицо «конкурента». Ее затошнило. В красных и белых пятнах, лоскуты кожи висят… Он тревожно совещался с сутенером Варкумяном, которого она знала. Ханне принялась подкатываться.
– …лорд Кромер мог бы удержать лавину…
– …сэр, все шлюхи и наемные убийцы в Каире…
В углу кто-то наблевал. Ханне кинулась убирать.
– …если надо совершить покушение на Кромера…
– …не годится, без генерального консула…
– …оно ухудшится…
Клиент амурно приобнял. Дружелюбно хмурясь, подошел Бёблих.
– …он должен быть в безопасности любой ценой…
– …люди способные в этом больном мире подвергаются…
– …Бонго-Штырбери постарается…
– …Опера…
– …где? Только не в Опере…
– …Сад Эзбекие…
– …Опера… «Манон Леско»…
– …кто сказал? Я ее знаю… Коптка Зенобия…
– …Кеннет Слиз к посольской девушке…
Любовь. Ханне навострила уши.
– …от Слиза, что Кромер не бережется. Боже мой: мы со Славмаллоу сегодня утром ворвались под видом ирландских туристов: он в заплесневелом цилиндре с трилистником, я в рыжей бороде. Нас физически вышвырнули на улицу…
– …никаких мер предосторожности… О господи…
– …Боже, с трилистником… Славмаллоу хотел кинуть бомбу…
– …словно его ничто не разбудит… он что, не читает…
Долгое ожидание у стойки бара, пока Вернер и Муса вставляли кран в новый бочонок. Треугольное пятно плыло где-то над толпой, как язык на Троицу.
– …раз они теперь встретились…
– …останутся, могу себе представить, возле…
– …джунгли вокруг…
– …будет ли, как вы считаете…
– …если начнется, то около…
Где?
– Фашода.
– Фашода.
Ханне шла себе дальше, в двери заведения и на улицу. Официант Грюне нашел ее десять минут спустя – она опиралась на витрину, мягко глазея в ночной сад.
– Пойдем.
– Что такое Фашода, Грюне?
Дерг плечьми.
– Место. Как Мюнхен, Веймар, Киль. Городок, только в джунглях.
– А какое отношение он имеет к женским украшениям?
– Заходи. Нам с девочками с этим стадом не управиться.
– Я что-то вижу. А ты? Плывет над парком. – Из-за канала прилетел свисток ночного экспресса на Александрию.
– Bitte…[34] – Некая общая ностальгия – по городам на родине; по этому поезду – или только по его свистку? – может, и задержала их на миг. Потом девушка пожала плечами, и они вернулись в Bierhalle.
Варкумяна сменила юная девушка в цветастом платье. Прокаженный англичанин, казалось, был расстроен. С находчивостью жвачного Ханне повела глазами, выпятила груди средних лет банковскому служащему, сидевшему с приятелями за столиком рядом с этой парой. Получила и приняла приглашение подсесть к ним.
– Я за вами следила, – сказала девочка. – Узнай папа, он бы на месте умер. – Ханне видела ее лицо, полу-в-тени. – Про мистера Славмаллоу.
Пауза. Следом:
– Ваш отец сегодня днем был в немецкой церкви. Как мы сейчас – в немецком пивном зале. Сэр Аластер слушал, как кто-то там играет Баха. Словно только Бах и остался. – Еще пауза. – Чтоб он знал.
Ее голова поникла, ус пивной пены на верхней губе. Тут случилось эдакое странноватое затишье в уровне шума, какое бывает в любом помещении; в центре его – еще один свисток александрийского экспресса.
– Вы любите Славмаллоу, – произнес мужчина.
– Да. – Почти шепотом… – Что б я ни думала, – сказала она, – я догадалась. Вы мне поверить не сможете, но я должна сказать. Это правда.
– Что, по-вашему, я должен тогда сделать?
Накручивая локоны на пальцы:
– Ничего. Только понять.
– Как вы можете… – раздраженно, – люди гибнут, неужели неясно, за такое «понимание» кого-нибудь. Как вам того и хочется. У вас вся семья полоумная? Не получив сердце, легких и печени, не успокоятся?
То была не любовь. Ханне извинилась и ушла. Дело не в мужчине/женщине. Пятно никуда от нее не девалось. Что она вечером скажет Лепсиусу. Хотелось ей одного – снять с него очки, разломить и раздавить их и посмотреть, как он мучается. Какой бы это был восторг.
И такое вот – от кроткой Ханне Эхерце. Неужто весь мир сошел с ума от Фашоды?
VIII
Коридор тянется вдоль входов в четыре ложи за пологами, размещенных справа от партера на верхнем ярусе летнего театра в саду Эзбекие.
Человек в синих очках торопливо заходит во вторую по коридору ложу от сцены. Красные портьеры, тяжелый бархат, покачиваются туда и сюда, рассинхронно, после его прохода. Колебание вскоре замирает из-за тяжести. Они повисают неподвижно. Истекает десять минут.
У аллегорической статуи Трагедии из-за угла выворачивают двое. Ноги их давят единорогов и павлинов, что ромбами повторяются по всей длине ковра. Лица одного мужчины не разобрать под массами белой ткани, скрывающими его черты и слегка переменившими общий очерк этого лица. Второй – толстый. Они входят в ложу рядом с той, где человек в синих очках. Свет снаружи, поздний летний свет сейчас падает сквозь единственное окно, крася статую и ковер с фигурами в монохромно оранжевый. Тени тускнеют. Воздух меж ними вроде бы густеет цветом неопределенным, хотя он, вероятно, оранжевый. Затем по коридору проходит девушка в цветастом платье и скрывается в ложе, занятой двумя мужчинами. Несколько минут спустя она появляется вновь, в глазах и на лице у нее слезы. Толстый выходит следом. Они оба скрываются с глаз.
Тишина всеобща. Поэтому ничто не предвещает, когда сквозь портьеры проходит мужчина с красно-белым лицом, держа в руке пистолет. Тот дымится. Мужчина входит в соседнюю ложу. Вскоре он и человек в синих очках, схватившись, вываливаются через полог и падают на ковер. Ниже пояса они по-прежнему за портьерами. Мужчина с лицом в белых пятнах срывает с противника синие очки; разламывает их напополам и роняет на пол. Противник крепко зажмуривается, пытается отвернуться от света.
В конце коридора стоял еще кто-то. Отсюда он выглядит лишь тенью; окно – за ним. Тот, кто сорвал очки, теперь присел и тянет голову лежащего на свет. Человек в конце коридора мелко дергает правой рукой. Присевший смотрит туда и полувстает. У правой руки возникает огонек; еще один; еще. Огоньки ярче и оранжевей солнца.
Должно быть, зрение гаснет последним. Кроме того, между глазом отражающим и глазом вмещающим должна пролегать почти неразличимая линия.
Тело в полуприседе рушится. Лицо с его массами белой кожи разрастается еще ближе. Упокоенное тело в точности принято пространством этой выгодной позиции.
Глава четвертая,
в которой Эсфирь остается с носом
Следующим вечером, чопорная и нервнобедрая на заднем сиденье автобуса-экспресса на другой край города, Эсфирь делила свое внимание между противоправными дебрями снаружи и экземпляром «В поисках Брайди Мёрфи». Книжку написал один колорадский предприниматель, дабы сообщить людям, что жизнь после смерти есть. По ходу текста он касался метемпсихоза, лечения внушением, сверхчувственного восприятия и прочего из причудливого канона метафизики двадцатого века, что мы теперь привыкли связывать с городом Лос-Анджелесом и ему подобными областями.
Водитель относился к нормальному, сиречь безмятежному, экспрессному типу водителей; светофоров и остановок таким выпадает меньше, чем обычным рейсовым, и он мог себе позволить доброжелательность. Портативный радиоприемник, висевший у руля, настроен был на «Дабью-кью-экс-ар». Увертюра Чайковского к «Ромео и Джульетте» обтекала сиропом и водителя, и пассажиров. Когда автобус пересекал Коламбус-авеню, безликий правонарушитель кинул в него камнем. Из темноты к автобусу взметнулись крики на испанском. В нескольких кварталах к центру раздался хлопок – может, выхлоп, а может, выстрел. Захваченная черными символами партитуры, оживленная вибрирующими воздушными столбами и струнами, пройдя сквозь преобразователи, катушки, конденсаторы и лампы к содрогающемуся бумажному конусу, вечная драма любви и смерти все дальше развертывалась без всякой связи с этим вечером и местом.
Автобус въехал в неожиданную пустошь Центрального парка. Там, знала Эсфирь, и ближе к центру, и дальше от него, они наверняка занимаются этим в кустах; грабят, насилуют, убивают. Ей же, ее миру, ничего не известно о квадратных пределах Парка после заката. Он, словно бы заветом, оставлен легавым, правонарушителям и всяческим девиантным личностям.
Допустим, она телепат и способна настраиваться на то, что там происходит. Она предпочитала об этом не думать. В телепатии была б сила, рассуждала она, но и много боли тоже. И кто-нибудь чужой может твой ум подслушивать без разрешения. (Рахиль же слушала по отводной трубке?)
Она коснулась кончика своего нового носа бережно, тайно: эта манера у нее возникла недавно. Не столько подчеркнуть его для тех, кто может на нее смотреть, сколько убедиться, что он никуда не делся. Автобус выехал из парка в безопасный, яркий Ист-сайд, к огням Пятой авеню. Те ей напомнили, что завтра надо бы сходить купить примеченное платье, $39.95 в «Лорде-и-Тейлоре», ему понравится.
Какая же я храбрая девочка, заливалась она трелями себе, еду сквозь такую ночищу и беззаконность к Моему Любовнику.
На Первой авеню она вышла и простучала чечеткой по мостовой, лицом к окраине и, быть может, некой грезе. Вскоре свернула вправо, зарылась в сумочку за ключом. Нашла дверь, открыла, ступила внутрь. Все передние комнаты пусты. Под зеркалом два золотых бесенка в часах танцевали все то же несинкопированное танго, что и всегда. Эсфирь себя почувствовала дома. За операционной (сентиментальный взгляд вбок в отрытую дверь на стол, на котором ей изменили лицо) располагалась клетушка, в ней кровать. Он лежал, голова и плечи в круге интенсивного нимба параболоидной лампы для чтения. Глаза его открылись ей, ее объятья – ему.
– Ты рано, – сказал он.
– Я поздно, – ответила она. Уже перешагивая юбку.
I
Шёнмахер был консервативен, а потому свою профессию называл искусством Тальякоцци. Его собственные методы, хоть и не столь примитивные, как у этого итальянца шестнадцатого века, отмечены были некоторой сентиментальной инертностью, отчего Шёнмахер постоянно слегка отставал от передового края. Всеми силами он культивировал в себе вид Тальякоцци: брови демонстрировал тонкие и полукруглые; носил кустистые усы, бородку клинышком, а иногда и ермолку – свою старую, еще со школы.
Импульс свой – как и все это занятие – он получил от Мировой войны. В семнадцать, сверстник веку, он отрастил усы (которых потом не сбривал), подделал себе возраст и фамилию и вперевалку уплюхал в вонючем транспорте, чтобы летать, как он думал, в вышине над руинами châteaux[35] и раскуроченных полей Франции, подъятый, как безухий енот, на драчку с Фрицем; бравый такой Икар.
В общем, в воздух пацан так и не поднялся, зато его сделали авиатехнарем, хоть он и на это не рассчитывал. Ему хватило. Он изучил кишки не только «бреге», «бристоль-файтеров» и «джей-энов», но и тех летунов, кои подымались в воздух и кого он, естественно, боготворил. В таком разделении труда всегда присутствовало нечто феодально-содомитское. Шёнмахер себя чувствовал мальчиком-пажом. С тех пор, как мы знаем, вторглась демократия, и те грубые летательные аппараты усовершенствовались до «систем вооружения» такой сложности, о которой в те времена не приходилось и мечтать; поэтому сегодня механику-ремонтнику приходится держать столько же профессионального благородства, сколько его есть и у тех летных экипажей, которые он обеспечивает.
Но тогда: то была чистая и абстрактная страсть, нацеленная, по крайней мере для Шёнмахера, на лицо. Отчасти виной тут были, наверное, его собственные усы; его часто принимали за летчика. В увольнениях, нечастых, он щеголял шелковым платком (приобретенным в Париже) на шее, повязанным для имитации.
Поскольку война есть война, некоторые лица – морщинистые ли, гладкие, с зализанными волосами или лысинами – никогда уже не возвращались. На это юный Шёнмахер отзывался со всею гибкостью подростковой любви: его безадресная нежность печалилась и ненадолго отвращалась, пока ей не удавалось зацепиться за какое-нибудь новое лицо. Но в каждом случае потеря оставалась столь же неопределенной, как утверждение «любовь умирает». Они улетали и проглатывались небом.
До Эвана Годолфина. Офицер связи лет тридцати с чем-то, ВО[36] к американцам для проведения разведывательных полетов над Аргоннским плато, Годолфин доводил естественную фатоватость первых авиаторов до таких крайностей, которые в истерическом контексте того времени казались делом совершенно обычным. Мы ж тут, в конце концов, не в окопах; воздух здесь свободен от пагубы газа или разлагающихся товарищей по оружию. Обе воюющие стороны могут себе позволить бить фужеры для шампанского в величественных каминах реквизированных поместий; относиться к своим пленникам с чрезвычайной любезностью, придерживаться всех пунктов дуэльного кодекса, когда дело доходит до воздушной схватки; короче говоря, с педантичным тщанием практиковать всю эту канитель, как и благородные господа девятнадцатого века на войне. Эван Годолфин носил летный костюм, пошитый на Бонд-стрит; частенько, неуклюже мчась по рубцам их импровизированного летного поля к своему французскому «СПАДу», останавливался сорвать одинокий мак, выживший после бреющих атак осени и германцев (естественно, зная стихотворение о полях Фландрии в «Панче», три года назад, когда у окопной войны еще имелся какой-то идеалистический оттенок), и вставить его в петлицу на безупречном лацкане.
Годолфин стал для Шёнмахера героем. Знаки внимания, брошенные ему, – временами отданная честь, «хорошо поработал» за предполетную подготовку, которая стала обязанностью юного техника, скупая улыбка – пламенно копились. Вероятно, видел он и конец этой невзаимной любви; разве дремлющее предчувствие смерти не усиливает всегда наслаждения от эдакой «связи»?
Конец настал довольно быстро. Одним дождливым днем на исходе Мёз-Аргоннского наступления, изувеченный самолет Годолфина неожиданно материализовался из всей этой серятины, вяло заложил вираж, завалился на крыло и проскользил, как змей в воздушном потоке, к посадочной полосе. Мимо нее он промахнулся на сотню ярдов: а когда ударился оземь, санитары и носильщики уже к нему выбежали. Шёнмахеру довелось быть поблизости, и он увязался с ними, не имея ни малейшего понятия, что произошло, – пока не увидел кучу тряпок и щепок, уже намокшую под дождем, а из нее, хромая навстречу медикам, – на верхушке одушевленного трупа покачивалась худшая из возможных карикатура на человеческое лицо. Верх носа ему отстрелили; шрапнелью разорвало одну щеку и раздробило часть подбородка. Глаза, не пострадавшие, не показывали ничего.
Шёнмахер, должно быть, забылся. А снова опомнился только в медпункте, где старался убедить тамошних врачей взять хрящ у него. Годолфин выживет, решили они. Но лицо ему придется перестроить. Для молодого офицера жизнь будет – иначе – немыслима.
Ну а к счастью для некоторых, в области пластической хирургии действовал закон спроса и предложения. Случай Годолфина к 1918 году едва ли был уникален. Методы восстановления носов существовали с пятого века до н. э., трансплантаты Тирша применялись уже лет сорок. За войну из необходимости разработали новые методы, их применяли терапевты, окулисты-ухогорлоносы, даже поспешно мобилизованный гинеколог-другой. Действенные быстро одобрялись и передавались медикам помоложе. А неудачные породили поколение уродов и парий, кои вместе с теми, кому вообще никакой восстановительной хирургии не досталось, превратились в тайное и ужасное послевоенное братство. Ни на какой обычной ступени общества ни к чему они не пригодны, куда им деться?
(Профан некоторых видел под улицей. Иных можно было встретить на любом сельском распутье в Америке. Профан встречал: натыкался на новую дорогу, перпендикулярную его продвижению, нюхал дизельный выхлоп давно уехавшего грузовика – словно сквозь призрак проходил – и видел там одного такого, как мильный камень. Хромота его могла означать парчу или барельеф рубцовой ткани по всей ноге – сколько женщин смотрели и пугались? – ; его шрам на горле скромно бы прятался, как безвкусная военная награда; язык его, лукаво торча из дыры в щеке, никогда б не произнес тайных слов никаким лишним ртом.)
Эван Годолфин оказался среди таких. Врач был молод, располагал собственными идеями, АЭК[37] же для такого не место. Звали его Сакралн, и он благоволил к аллотрансплантатам: пересадке инертных веществ на живое лицо. В то время подозревали, что безопасно пересаживать только хрящи или кожу с собственного тела пациента. Шёнмахер, ничего не понимая в медицине, предложил свой хрящ, но дар его отвергли; аллотрансплантация внушала доверие, и Сакралн не видел смысла госпитализировать двоих, когда это требовалось лишь одному.
Поэтому Годолфину досталась переносица из слоновой кости, скула из серебра и парафиново-целлулоидный подбородок. Месяц спустя Шёнмахер навестил Годолфина в больнице – тогда он его видел в последний раз в жизни. Реконструкция выглядела идеально. Его отправляли обратно в Лондон, на какую-то неведомую штабную должность, и говорил он об этом с мрачным легкомыслием.
– Присмотрись хорошенько. Больше чем на полгода не хватит. – Шёнмахер залепетал: Годолфин продолжил: – Видишь вон, чуть дальше? – В двух кроватях от них лежал похожий вроде бы случай, только кожа на лице у него была целая, блестящая. А вот кости черепа под нею – изуродованы. – Реакция отторжения инородного тела, как это называют. Иногда инфекция, воспаление, иногда только болит. Парафин, к примеру, не держит форму. Оглянуться не успеешь, а уже там же, с чего начал. – Говорил он, как приговоренный к смерти. – Может, скулу в заклад отдам. Стоит она целое состояние. Перед тем как ее переплавили, она была пасторальной фигуркой из набора, восемнадцатый век – нимфы, пастушки, – трофейная, из château, где фрицы устроили себе КП[38]; а откуда изначально – бог весть…
– А нельзя… – в горле у Шёнмахера пересохло… – нельзя ли, чтобы это как-то починили: начали сызнова…
– Слишком спешно. Мне и с этим-то повезло. Грех жаловаться. Другим чертям и полгода на разгул не светит.
– Что вы станете делать, когда…
– Я об этом не думаю. Но это будут роскошные полгода.
Юный механик не выходил из какого-то эмоционального лимба много недель. Работал без обычной прохладцы, полагая, будто одушевлен не больше гаечных ключей и отверток у себя в руках. Когда выдавали увольнительные, какие были, он уступал их другим. Спал в среднем по четыре часа в ночь. Этот минеральный период завершился случайной встречей однажды вечером с офицером медслужбы в казарме. Шёнмахер озвучил примитивно, каково ему и было:
– Как мне стать врачом.
Конечно, идеалистично и несложно. Ему лишь хотелось делать что-то для таких, как Годолфин, помогать в том, чтобы профессию не захватили ее противоестественные предатели Сакралны. Десять лет ушло на работу по первой специальности – механика, – а также чернорабочим на двух десятках рынков и складов, сборщиком платежей, однажды – помощником администратора бутлегерского синдиката с центром в Декейтере, Иллинойс. Те годы трудов уснащались ночными курсами и, по временам, дневными зачислениями, хотя дольше чем на три семестра подряд не бывало никогда (после Декейтера, когда ему было по карману); интернатурой; в конце концов накануне Великой депрессии случилось вхождение в медицинское франкмасонство.
Если союз с неодушевленным – мета Плохого Парня, Шёнмахер хотя бы начинал благо. Однако в некий миг по пути случился сдвиг взглядов – столь тонкий, что даже Профан, необычайно в этом отношении чувствительный, его бы, вероятно, не заметил. Подстегивала его ненависть к Сакралну и, быть может, затухавшая любовь к Годолфину. Из их совокупности выросло, как он его называл, «ощущение миссии» – нечто столь чахлое, что его приходилось подкармливать пищей поплотнее как ненависти, так и любви. Так и стало оно подкрепляться, довольно благовидно, несколькими бескровными теориями «идеи» пластического хирурга. Услыхав призвание в ветре битвы, Шёнмахер посвятил себя восстановлению разора, чинимого теми, кто не попадал в область его ответственности. Войны вели другие – политики и машины; другие – быть может, машины человеческие – приговаривали его пациентов к опустошенью приобретенным сифилисом; другие – на шоссе, на заводах – портили работу природы своими автомобилями, фрезерными станками, прочими инструментами гражданского уродования. Что мог он сделать для уничтожения причин? Они существовали, составляли собой массив всего-как-оно-есть; его постепенно одолела консервативная лень. Некоторым образом – общественное сознание, но с границами и стыками, от которых оно казалось незначительней той католической ярости, что владела им тем вечером в казарме с медиком. Говоря короче, то была порча цели; тлен.
II
Эсфирь с ним, как ни странно, познакомилась через Шаблона, который в ту пору был в Шайке новеньким. Шаблон, идя по иному следу, из неких своих соображений заинтересовался историей Эвана Годолфина. Проследил за ней до Мёз-Аргонна. Наконец, раздобыв в архивах АЭК псевдоним Шёнмахера, Шаблон не один месяц потратил на то, чтобы отыскать его в Немецком квартале и лицевой клинике, заполненной фоновой музыкой. Добрый доктор все отрицал, даже после всевозможных увещеваний, известных Шаблону; еще один мертвый тупик.
Как обычно бывает после известных разочарований, мы реагируем с благосклонностью. Эсфирь, спелая и жаркоокая, изнывала в «Ржавой ложке», ненавидя свой нос 6-кой, и, как уж могла, доказывала максиму несчастливых студентов: «Все уродки дают». Отвергнутый Шаблон, повсюду закидывая сети на тех, на ком все это можно выместить, в надежде уцепился за это ее отчаяние – улов, протянувшийся к грустным летним дням, когда они бродили среди пересохших фонтанов, витрин лавок, перенесших солнечный удар, и улиц, истекающих гудроном, а со временем и к отцовско-дочернему соглашению, достаточно несерьезному, чтобы в любое время расторгнуться, пожелай такого кто-либо из них, и никаких вскрытий трупа не нужно. Его поразило тонкой иронией, что самым приятным сентиментальным пустячком для нее будет знакомство с Шёнмахером; соответственно, в сентябре подписали договор, и Эсфирь без промедления легла под его скальпели и мнущие пальцы.
В тот день в приемной для нее, как бы на сличение, собрался контингент деформированных. Лысая женщина без ушей созерцала часы с бесами, кожа румяная и блестит от висков до затылка. Рядом сидела девушка помоложе, череп у нее был в таких изломах, что три отдельные макушки, по форме параболические, вздымались над волосами, росшими и ниже по сторонам плотно прыщавого лица, подобно шкиперской бороде. Напротив, погрузившись в «Ридерз дайджест», сидел пожилой господин в мшисто-зеленом габардиновом костюме, располагавший тремя ноздрями, с отсутствующей верхней губой и ассортиментом разнокалиберных зубов – те толпились и наваливались друг на друга, как могильные камни на погосте в краях, где часты торнадо. А в углу подальше, ни на что не глядя, помещалось бесполое существо с наследственным сифилисом: у существа были повреждены кости – они частично ввалились так, что серый профиль его был почти прямой линией, а нос висел вялым кожаным лоскутом, почти полностью прикрывая рот; подбородок сбоку вдавлен крупным кратером, с радиальными морщинами на коже; глаза прижмурены тем же неестественным тяготением, что сплющило ему остальной профиль. Эсфирь, еще не вышедшая из впечатлительного возраста, отождествляла себя со всеми. Так подкреплялось это отчуждение, что гнало ее в постель к стольким членам Цельной Больной Шайки.
Тот первый день Шёнмахер провел за предоперационной разведкой местности: фотографировал лицо и нос Эсфири с разных точек, проверял, нет ли инфекций верхних дыхательных путей, делал пробу Вассермана. Ирвинг и Окоп также ассистировали ему в изготовлении двух парных отливок посмертной маски. Эсфири дали две бумажные соломинки дышать, и она по-детски, как водится, подумала о лавках с газировкой, вишневых ко́лах, Чистосердечных Признаниях.
Назавтра она вернулась в кабинет. Два слепка лежали у врача на столе, бок о бок.
– Я близнецы, – хихикнула она; Шёнмахер протянул руку и отломил у одной маски гипсовый нос.
– Так, – улыбнулся он; извлекая откуда-то, как фокусник, комок ваяльной глины, которым заменил отломанный нос. – Вы какой себе нос имели в виду?
Какой же еще: ирландский, хотелось ей, вздернутый. Как им всем. Ни одной не приходило в голову, что и нос retroussé – эстетический бездоля: еврейский нос навыворот, только и всего. Немногие вообще просили так называемый совершенный нос, у которого верх прямой, кончик не кос и не крючком, колумелла (разделяющая ноздри) сходится с верхней губой под 90°. Все это лишний раз доказывало его личный тезис, что коррекция – по всем измерениям: общественному, политическому, эмоциональному – влечет за собой скорее отступление к диаметрально противоположному, а не какой-либо разумный поиск золотой середины.
Несколько художественных росчерков пальцами и покручиваний запястьями.
– Такой сгодится? – (Глаза вспыхнули, она кивнула.) – Он должен быть в гармонии с вашим остальным лицом, понимаете. – Он, разумеется, в ней не был. Все, что может гармонировать с лицом, если подходить к вопросу гуманистически, очевидно, есть то, с чем это лицо родилось.
– Но, – сумел он дать рационалистическое объяснение многими годами раньше, – есть гармония и гармония. – И вот – нос Эсфири. Идентичен идеалу назальной красоты, установленному кинофильмами, рекламными объявлениями, журнальными иллюстрациями. Культурная гармония, как называл ее Шёнмахер.
– Значит, попробуем на следующей неделе. – Назначил ей время. Эсфирь была в восторге. Это как ждать собственного рождения – и обсуждать с богом, спокойным и деловитым, как именно предпочтешь вступить в мир.
Через неделю она прибыла, пунктуально; в нутре туго, кожа все чувствует.
– Заходите. – Шёнмахер мягко взял ее за руку. Ей стало вяло, даже (немножко?) возбужденно. Ее усадили в зубоврачебное кресло, откинули назад, Ирвинг ее подготовила, хлопоча вокруг, как камеристка.
Лицо Эсфири очистили вокруг носа зеленым мылом, йодом и спиртом. Волосы в ноздрях постригли, преддверия бережно обработали антисептиками. После чего дали нембутал.
Делался расчет, что он ее успокоит, но дериваты барбитуровой кислоты на всех действуют по-разному. Вероятно, способствовало ее начальное возбуждение; но когда Эсфирь вкатили в операционную, она была в полубреду.
– Надо было гиосцину дать, – сказал Окоп. – От него у них амнезия, дядя.
– Тихо, шлеп, – произнес врач, размываясь. Ирвинг принялась раскладывать его инвентарь, а Окоп пристегнул Эсфирь ремнями к операционному столу. Глаза у нее были дики; она тихонько всхлипывала, очевидно начиная уже передумывать.
– Поздняк метаться, – с ухмылкой утешил ее Окоп. – Лежите спокойно, ага.
На всех троих были хирургические маски. Глаза их вдруг показались Эсфири злонамеренными. Она замотала головой.
– Окоп, придержи ей голову, – раздался приглушенный голос Шёнмахера, – а Ирвинг будет давать анестезию. Нужно практиковаться, детка. Принеси-ка склянку с новокаином.
Под голову Эсфири подоткнули стерильные полотенца, в глаза капнули касторового масла. Все лицо ей снова промокнули, на сей раз – метафеном и спиртом. После чего в глубину каждой ноздри протолкнули марлевую набивку, чтобы антисептики и кровь не стекали ей в глотку и гортань.
Ирвинг вернулась с новокаином, иглой и шприцем. Сперва она ввела анестетик Эсфири в кончик носа, по уколу с каждой стороны. Затем сделала по нескольку инъекций радиально вокруг каждой ноздри, дабы омертвить крылья носа, сиречь пазухи, ее большой палец жал на поршень всякий раз, когда игла извлекалась.
– Поменяй на большу́ю, – тихо сказал Шёнмахер. Ирвинг выудила из автоклава двухдюймовую иглу. Теперь игла впихивалась, под самой кожей, до самого верха по каждой стороне носа, от ноздри до смычки носа и лба.
Никто не предупреждал Эсфирь, что в операции будет что-то болезненное. Но от уколов этих было больно: ничего прежде ею испытанное так никогда не болело. Двигать от боли ей оставалось только бедрами. Окоп держал ее голову и щерился оценивающе, а она, в узах, корчилась на столе.
Снова в носу с еще одним грузом анестетика, шприц Ирвинг теперь ввелся между верхним и нижним хрящами и протолкнулся до самой глабеллы – надпереносья, бугра между бровями.
Серия внутренних инъекций в перегородку – костную и хрящевую стенку, разделяющую две половины носа, – и с анестезией покончено. Половая метафора всего предприятия не прошла мимо Окопа, который твердил нараспев:
– Суй… вынай… суй… ууу как хорошо… тяни… – и тихонько подхихикивал, нависая над глазами Эсфири. Ирвинг всякий раз вздыхала в раздражении. «Ох уж этот мальчик», – того и гляди, казалось, скажет она.
Немного погодя Шёнмахер принялся щипать и крутить нос Эсфири.
– Теперь как? Больно? – Шепотом «нет»: Шёнмахер крутнул сильнее: – Больно?
– Нет.
– Ладно. Накройте ей глаза.
– Может, она посмотреть хочет, – сказал Окоп.
– Хотите посмотреть, Эсфирь? Что мы с вами собираемся сделать?
– Не знаю. – Голос ее был слаб, колебался между тут и истерикой.
– Тогда смотрите, – сказал Шёнмахер. – Образовывайтесь. Сначала срежем горб. Смотрите – это скальпель.
Операция была рутинной; Шёнмахер работал быстро, ни он сам, ни его медсестра движений впустую не тратили. А от ласковых мазков губкой – и почти без крови. Время от времени струйка от него убегала и дотекала почти до полотенец, но он ее перехватывал.
Сначала Шёнмахер сделал два надреза, по обеим сторонам, в слизистой оболочке носа, возле перегородки у нижней границы бокового хряща. Затем ввел изогнутые и заостренные ножницы с длинными ручками в ноздрю, мимо хряща к носовой кости. Ножницы сконструированы были так, чтобы резать и при открытии, и при закрытии. Быстро, как цирюльник, достригающий голову с хорошими чаевыми, он отделил кость от перегородки и кожи, ее покрывающей.
– Мы это называем подсечкой, – пояснил он. Он повторил ножницами то же самое и в другой ноздре. – Понимаете, у вас две носовые кости, они разделены перегородкой. Внизу обе крепятся к латеральному хрящу. Я у вас подсекаю все от этого соединения до того места, где носовые кости соединяются со лбом.
Ирвинг передала ему что-то вроде стамески.
– Элеватор Маккенти – вот эта штука. – Он позондировал элеватором внутри, завершая подсечку. – А теперь, – мягко, словно любовник, – я отпилю ваш горб. – Эсфирь, как могла, наблюдала за его глазами, выискивая в них что-нибудь человеческое. Никогда еще не была она столь беспомощна. Потом она скажет:
– То было почти что мистическое переживание. В какой это религии – что-то восточное – высочайшее состояние, которого мы можем достичь, – предмет – камень. Там было так же; я чувствовала, как меня сносит вниз, такая восхитительная утрата Эсфирности, я все больше становлюсь каплей, ни забот, ни травм, ничего: одно лишь Бытие…
Маска с глиняным носом лежала на столике поблизости. Сверяясь с нею быстрыми косыми взглядами, Шёнмахер ввел в один надрез полотно пилы и протолкнул до костистой части. Затем выровнял его согласно новой линии носа и осторожно принялся пилить носовую кость с этой стороны.
– Кость пилится легко, – заметил он Эсфири. – На самом деле все мы довольно хрупки. – Пила дошла до мягкой перегородки; Шёнмахер извлек полотно. – А вот теперь хитрая часть. Мне нужно с другой стороны отпилить все в точности так же. Иначе нос у вас выйдет кособокий. – Он так же вставил полотно с другой стороны, а потом смотрел на маску, как показалось Эсфири, чуть ли не четверть часа; несколько раз меленько подровнял пилу. После чего наконец отпилил там кость по прямой. – Ваша горбинка теперь – два отдельных кусочка кости, держащихся только за перегородку. Это нам предстоит перерезать, встык с двумя другими разрезами. – Так он и поступил – скобелем с угловым лезвием, рассек быстро, завершив этот этап изящными росчерками губки. – А теперь горб у вас болтается в носу. – Он оттянул одну ноздрю ретрактором, ввел в нее хирургические щипцы и пошарил, где же там горб. – Беру свои слова обратно, – улыбнулся он. – Пока еще он не желает выходить. – Ножницами отчикал горб от латерального хряща, который его удерживал; затем костными щипцами извлек темноватый комок хрящевины и торжествующе помахал им перед лицом Эсфири. – Двадцать два года общественной несчастности, nicht wahr?[39] Конец первого акта. Мы его поместим в формальдегид, можете хранить как сувенир, если захотите. – Говоря, он заглаживал края надрезов маленьким рашпилем.
Ну вот и все с горбинкой. Но там, где она была, теперь осталось плоское место. Переносица, для начала, была слишком широка, теперь ее следовало сузить.
Вновь он подсек носовые кости, только теперь – дотуда, где они встречались со скулами, и дальше. Вынимая ножницы, он вместо них вставил угловую пилу.
– Носовые кости у вас, видите ли, укреплены прочно; сбоку к скуле, сверху ко лбу. Мы должны их разломить, чтобы подвигать вам нос. Как вот этот комок глины.
Он распилил носовые кости с обеих сторон, отделив их от скул. После чего взял долото и вправил в одну ноздрю, вогнал, сколько мог, пока лезвие не коснулось кости.
– Дайте мне знать, если что-то почувствуете. – Он несколько раз легонько постукал по долоту киянкой; остановился в недоумении, а затем заколотил жестче. – Крепкий засранец, – сказал он, отбросив всякую веселость. Тук, тук, тук. – Давай же, ублюдок. – Острие долота медленно продвигалось, по миллиметру, между бровей Эсфири. – Scheisse![40] – С громким щелчком нос ее отделился от лба. Подтолкнув его большими пальцами с обеих сторон, Шёнмахер довершил откол. – Видите? Все теперь шатается. Это акт второй. Теперь мы укоротим das Septum, ja[41].
Скальпелем он сделал надрез вокруг перегородки, между нею и двумя прилегающими боковыми хрящами. После этого дорезал по кругу перед самой перегородкой до самого «хребта», расположенного в ноздрях глубже.
– Отчего перегородка у вас будет болтаться. А заканчиваем мы работу ножницами. – Анатомическими ножницами он подсек перегородку по бокам и поверх костей до самой глабеллы, в верхней части носа.
Далее он ввел скальпель в один надрез в ноздре, а высунулся тот в другую, и пилил режущей кромкой, пока перегородка внизу не отделилась. После чего приподнял одну ноздрю ретрактором, сунул внутрь зажим Эллиса и вытянул часть неприкрепленной перегородки наружу. Быстрый перенос циркуля от маски к обнажившейся перегородке; потом прямыми ножницами Шёнмахер выкусил треугольный клинышек перегородки.
– Теперь ставим все на место.
Поглядывая на маску, он свел носовые кости вместе. Это сузило переносицу и убрало плоскость там, откуда срезали горб. Некоторое время тщательно удостоверялся, что половинки выровнены намертво по центру. Кости причудливо пощелкивали, когда он ими двигал.
– Чтобы носик ваш был вздернут, наложим два шва.
«Стык» располагался между недавно надрезанным краем перегородки и колумеллой. Иглой в держателе сквозь всю ширину колумеллы и перегородки сделали два шелковых стежка наискось.
Целиком операция заняла меньше часа. Эсфирь почистили, вынули марлевую набивку и заменили сульфамидной мазью и новой марлей. Ноздри ей залепили клейким пластырем, другую полосу наклеили поверх ее новой переносицы. Поверх – формирующий вкладыш Стента, жестяной защитный кожух и снова клейкий пластырь. В каждую ноздрю ввели резиновые трубки, чтобы она могла дышать.
Два дня спустя всю эту упаковку убрали. Пластырь отклеили через пять. Швы сняли через семь. Вздернутый конечный продукт выглядел нелепо, но Шёнмахер ее заверил, что через несколько месяцев он немного обмякнет. Обмяк.
III
На этом бы и всё: но не для Эсфири. Возможно, ее прежние горбоносые привычки не отступали по инерции. Но никогда прежде не бывала она так пассивна ни с одной мужской особью. Коль скоро пассивность имела для нее только одно значение, она вышла из больницы, куда ее отправил Шёнмахер, всего через сутки и бродила по Восточной стороне с реакцией бегства, пугая прохожих своим белым клювом и некоторой контузией во взоре. Чувственно она была возбуждена, вот и все: словно бы Шёнмахер обнаружил тайный переключатель или клитор у нее в носовой полости и щелкнул им. Полость, в конце концов, есть полость: дар Окопа к метафорам мог оказаться заразным.
Вернувшись на следующей неделе снимать швы, она скрещивала и раскрещивала ноги, хлопала ресницами, говорила вкрадчиво: все грубые трюки, что она знала. Шёнмахер с самого начала распознал в ней легкую добычу.
– Приходите завтра, – сказал он ей. У Ирвинг был выходной. Эсфирь явилась на следующий день, облаченная подо всем как можно кружевней, и фетишей на ней было столько, сколько оказалось по карману. Вероятно, даже «Шалимаром» капнула на марлю посреди лица.
В задней комнатке:
– Как вы себя чувствуете.
Она рассмеялась, слишком громко.
– Болит. Но.
– Да, но. Всегда есть способы забыть о боли.
Похоже, ей никак не удавалось избавиться от дурацкой, полусмущенной улыбки. От нее лицо растягивалось, нос болел сильнее.
– Знаете, что мы сделаем? Нет, что я сделаю с вами? Разумеется.
Она ему позволила раздеть ее. Он высказался только насчет черного пояса с резинками.
– О. Ох господи. – Приступ совести: ей его подарил Сляб. С любовью, подразумевалось.
– Прекратите. У нас тут не стриптиз для подгляд. И вы не девственница.
Еще самоуничижительный смешок.
– Вот именно. Другой мальчик. Подарил мне его. Мальчик, которого я любила.
У нее шок, подумал он, смутно удивившись.
– Пойдемте. Притворимся, что мы на вашей операции. Вам же понравилась операция, верно.
Сквозь щель в занавесях напротив подглядывал Окоп.
– Ложитесь на кровать. Это будет наш операционный стол. Вам сейчас сделают межмышечную инъекцию.
– Нет, – вскрикнула она.
– Вы репетировали столько способов говорить нет. Нет, значащее да. Вот это нет мне не нравится. Скажите иначе.
– Нет, – с легким стоном.
– Иначе. Снова.
– Нет, – теперь с улыбкой, глаза приспущены.
– Еще.
– Нет.
– Получается лучше. – Развязывая галстук, брюки лужицей у ног, Шёнмахер спел ей серенаду.
- Скажу, старик, пусть неумело:
- У нее – что надо колумелла,
- А перегородка – хоть ты стой, хоть падай;
- И с каждым иссечением хряща
- Она вручает, трепеща,
- Мне чек остеокластовой наградой.
- [Припев]:
- Покуда Эсфирь не вскроешь –
- Считай, ничего ты не резал;
- Она лучше всех аж втрое,
- И я с ее носа не слезу.
- Она не скандалит, а ластится,
- Лежит так, что ничем не проймешь;
- Обожает мою ринопластику,
- А чужие не ставит ни в грош.
- Эсфирь у нас пассивна,
- Но держится массивно,
- И как такой красивой
- Никто не замечал?
- Она во всей своей красе
- Ирландию позорит вдаль и вширь,
- Ведь нос ее теперь стал ретруссэ,
- А зовут ее, не забывай, Эсфирь…
Последние восемь тактов она скандировала «Нет» на первом и третьем.
Такова была (своего рода) яковианская этиология эвентуального путешествия Эсфири на Кубу; о чем далее.
Глава пятая,
в которой Шаблон едва не канает в Лету с аллигатором
I
Аллигатор этот был пег: бледно-бел, водорослево-черен. Двигался быстро, но неуклюже. Возможно – ленив, или стар, или глуп. Профан считал, что он, наверное, устал жить.
Погоня длилась с заката. Они оказались в отрезке 48-дюймовой трубы, спина разламывалась. Профан надеялся, что аллигатор не свернет никуда поуже, где сам он не поместится. Тогда придется вставать на колени в слякоть, целиться почти вслепую и стрелять, все быстро, пока cocodrilo[42] не скрылся из зоны поражения. Анхель держал фонарик, но до этого пил вино и теперь полз за Профаном рассеянно, луч его мотыляло по всей трубе. Профан различал коко лишь в случайных вспышках.
Время от времени его добыча полуоборачивалась, кокетливо, завлекая. С какой-то грустью. Наверху, должно быть, шел дождь. За спиной у них, у последнего канализационного люка, не смолкала тонкая сопля. Впереди была тьма. Тоннель здесь оказался мучителен, и проложили его десятки лет назад. Профан надеялся на прямизну. Там поразить цель можно легко. Если стрелять где-то на этом отрезке с короткими безумными углами, могут быть опасные рикошеты.
Этот был бы не первой его добычей. Работал Профан уже две недели, на его счету четыре аллигатора и одна крыса. Каждое утро и каждый вечер для каждой смены устраивали разнарядку перед кондитерской лавкой на Коламбус-авеню. Начальник Цайтзюсс втайне хотел стать профсоюзным боссом. Он носил костюмы акульей кожи и черепаховые оправы. Обычно добровольцев не хватало даже для этого пуэрториканского района, что уж говорить про весь Нью-Йорк. И все равно Цайтзюсс каждое утро в шесть расхаживал перед ними, упрямый в своей мечте. Его работой была государственная гражданская служба, но настанет день – и он будет Уолтером Рейтером[43].
– Ладно, так, Родригес, ага. Наверное, мы можем тебя взять. – И вот вам Управление, которому даже добровольцев не хватает. Все равно некоторые приходили – разбросом, неохотно и отнюдь не постоянно: большинство после первого же дня сваливало. Чудно́е это было сборище: бродяги… Главным образом они. С зимнего солнца Юнион-скуэр, где все их общество – несколько болтливых голубей; из района Челси и с холмов Харлема либо от минимального тепла уреза воды, украдкой поглядывая из-за бетонных столбов эстакадного обхода на ржавый Хадсон с его буксирами и камнебаржами (они в этом городе сходят за, вероятно, дриад: приглядитесь, где они, в первый же зимний день, когда вас вдруг обойдут, кротко прорастают из бетона, стараясь слиться с ним или, по крайней мере, защититься от ветра и того мерзкого предчувствия, что у них – нас? – есть, касаемо того, куда на самом деле течет эта упорная река); бродяги из-за обеих рек (или же только что со Среднего Запада, сгорбаченные, обматеренные, спаренные и переспаренные так, что и не упомнить, с теми добродушными увальнями, которыми были раньше, или несчастными жмурами, которыми станут однажды); один нищий – ну или всего один, кто признался, – у которого полный чулан Хики-Фримена и других костюмов с подобными ценниками, а после работы он ездит на сияющем белом «линкольне», у него три или четыре жены затерялось где-то на его личной Трассе 40 по пути на восток; Миссисипи, родом из Кельце в Польше, чье имя никто выговорить не мог, у которого жену забрали в концлагерь Освенцим, глаз отнял коуш чалочного каната на сухогрузе «Миколай Рей», а пальчики сняли легавые в Сан-Диего, когда он попробовал в 49-м сбежать с судна; кочевники с конца сезона сбора бобовых в каком-нибудь экзотическом месте – экзотическом до того, что запросто могло бы оказаться прошлым летом и к востоку от Вавилона, Лонг-Айленд, но им, помнящим лишь сезон, позарез требовалось, чтоб он только что закончился, только начинал тускнеть; скитальцы северных предместий из самой классической бродяжьей цитадели на свете – Бауэри, нижняя Третья авеню, лари с ношеными рубашками, цирюльные школы, любопытная утрата времени.
Работали бригадами по двое. Один держал фонарик, другой нес магазинное охотничье ружье 12-го калибра. Цайтзюсс понимал, что большинство охотников к такому оружию относятся, как удильщики к динамиту; но он не стремился к очеркам в «Поле и ручье». Магазинные быстры и действуют наверняка. После Большого Канализационного Скандала 1955 года в Управлении развилась страсть к честности. Им требовались мертвые аллигаторы; крысы тоже, если попадут под раздачу.
Каждый охотник получал нарукавную повязку – это Цайтзюсс придумал. «АЛЛИГАТОРНЫЙ ПАТРУЛЬ», гласила она зелеными буквами. Когда программа только начиналась, Цайтзюсс передвинул к себе в кабинет большой чертежный планшет из плексигласа с награвированной картой города, на которую накладывалась координатная сетка. Цайтзюсс сидел перед этим планшетом, а картограф – некто В. А. Спуго (он же «Косарь»), уверявший, что ему восемьдесят пять, а еще – что он истребил 47 крыс своим косарем под летними улицами Браунсвилла 13 августа 1922 года, – размечал желтым восковым карандашом места визуальных наблюдений, вероятных появлений, охот в текущий момент, поражений цели. Все сообщения поступали от кочующих регулировщиков, ходивших по определенным маршрутам от люка к люку: они туда орали и спрашивали, как дела. У каждого с собой была рация, связанная в общей сети с кабинетом Цайтзюсса и низкокачественным 15-дюймовым динамиком на потолке. Поначалу все шло довольно захватывающе. Цайтзюсс не включал никакой свет, кроме лампочек на планшете и лампы у себя над столом. Кабинет походил на какой-то боевой командный пункт, и кто бы в него ни вошел – сразу ощущал это напряжение, целеустремленность, огромную сеть, раскинувшуюся повсюду вплоть до самых дальних своясей города, а кабинет – ее мозги, ее фокальная точка. То есть покуда не слышали, что сюда поступает по радио.
– Один хороший проволоне, говорит.
– Я взял ей хорошего проволоне. Чего она сама в магазин сходить не может. Весь день же смотрит телевизор у миссис Гроссерии.
– А ты видел вчера вечером у Эда Салливана, а, Энди. У него там мартышки на пианино играли своими…
С другого края города;
– А Прыткий Гонсалес ему: «Сеньор, уберите, пжальста, руку у меня с жёппы».
– Ха, ха.
И:
– Жалко, что ты не тут, на Восточной стороне. Тут повсюду навалом.
– На Восточной стороне оно все с молнией.
– У тебя поэтому такой короткий?
– Дело не в сколько, а в том, как применять.
Естественно, бывали неприятности от ФКС[44], которая, говорят, ездит на эдаких машинках слежения, с пеленгационными антеннами, ищет как раз таких вот людей. Сначала поступали письменные предупреждения, потом телефонные звонки, затем наконец явился некто в костюме из акульей кожи еще глянцевей, чем у Цайтзюсса. И рации пропали. А вскоре после этого Цайтзюсса вызвало начальство и сообщило ему, весьма по-отечески, что на обеспечение Патруля в том стиле, к которому все привыкли, недостаточно бюджетных средств. И Поисково-Истребительный Аллигаторный Центр заменился мелким отделением расчетного отдела, а старый Косарь Спуго отправился в Асторию, Куинз, на пенсию, к цветнику, где росла дикая марихуана, и к преждевременной могиле.
По временам и теперь, когда они собирались перед кондитерской лавкой, Цайтзюсс проводил с ними ободряющий инструктаж. В тот день, когда Управление лимитировало им выдачу патронов, он стоял без шляпы под мерзлым февральским дождем и сообщал им об этом. Трудно было разобрать, слякоть ли это стаивает у него по лицу или текут слезы.
– Ребята, – говорил он, – кое-кто из вас работает с самого начала этого Патруля. Парочку тех же харь я вижу тут каждое утро. Многие не возвращаются, да и ладно. Если в других местах платят больше – валяйте, с богом, я не против. У нас тут не намазано медом. Если б это был профсоюз, многие хари возвращались бы сюда каждое утро. А те из вас, кто приходит, живут в человечьем говне и крокодильей крови по восемь часов в день, и никто не жалуется, я вами горжусь. Наш Патруль видал много сокращений за то короткое время, какое был Патрулем, и об этом тоже, как мы слышим, никто не ходит и не ноет, что гораздо хуже говна… Ну а сегодня нас урезали еще раз. Каждой бригаде будет выдаваться по пять патронов в день, а не по десять. В центре они там считают, что вы впустую тратите боеприпасы. Я-то знаю, что нет, но как это объяснишь тем, кто и вниз-то ни разу не спускался, чтоб костюм за сто долларов себе не испачкать. Поэтому я так скажу, бейте только наверняка, не тратьте время на вероятную добычу… Валяйте дальше, как валяли раньше. Я горжусь вами, ребята. Я так вами горжусь!
Все переминались, в смущении. Цайтзюсс ничего больше не сказал, лишь стоял, полуотвернувшись и глядя, как пуэрториканская старушка с корзинкой для покупок хромает к окраине по другой стороне Коламбус-авеню. Цайтзюсс вечно говорил, как он ими гордится, и, хоть был он горлопаном, хоть правил всем, как в АФТ[45], хоть сбрендил на своей высшей цели, он им нравился. Потому что под акульей кожей и за тонированными линзами он тоже был бродяга; лишь случайность времени и пространства не давала им всем вместе раздавить сейчас пузырь. И раз он им нравился, от его же гордости «нашим Патрулем», в которой никто не сомневался, всем становилось неловко – как вспомнишь тени, в которые они палили (винные тени, тени одиночества); как ложились подремать среди рабочего дня, привалившись к бокам промывных баков у рек; как гундели, но шепотом, так тихо, что даже напарник не слышал; крыс, которым давали удрать, потому что их становилось жалко. Они не умели разделить гордости босса, но могли стыдиться всего, от чего гордость эта была ложью, ибо научились – на не очень удивительных или трудных уроках, – что гордости – нашим Патрулем, собой, даже гордыни как смертный грех – на самом деле не существует так, скажем, как существуют три пустые пивные бутылки, которые можно сдать на проезд в подземке и тепло, где-нибудь немного поспать. Гордость вообще ни на что не обменяешь. Что Цайтзюсс, невинный бедняга, за нее получает? Сплошную убыль, вот что. Но он им нравился, и никому не хватало духу научить его уму-разуму.
Насколько Профан знал, Цайтзюсс понятия не имел, кто он, да и плевать хотел. Профану бы нравилось считать себя одной из тех возвратных харь, однако что́ он в итоге – всего лишь опоздавший. У него нет права, решил он после речи о боекомплекте, думать про Цайтзюсса так или иначе. Никакой гордости за группу, бог ты мой, у него не было. Это работа, не Патруль. Он научился обращаться с магазинной винтовкой – даже неполную разборку и чистку теперь умел – и вот сейчас, после двух недель на работе, уже почти начал себя чувствовать не таким неуклюжим. Может, и не прострелит случайно себе ногу или что похуже, в конце концов.
Анхель пел:
– Mi corazón, está tan solo, mi corazón…[46] – Профан смотрел, как его собственные заброды движутся в такт песне Анхеля, следил за изменчивым блеском фонарика на воде, за тем, как мягко покачивается аллигаторов хвост, впереди. Подходили к лазу. Точка встречи. Гляди бодрей, Аллигаторный Патруль. Анхель пел и плакал.
– Кочумай, – сказал Профан. – Если десятник Хез наверху, нам кранты. Держись трезво.
– Терпеть не могу десятника Хеза, – сказал Анхель. Он засмеялся.
– Чш, – сказал Профан. Десятник Хез носил рацию, пока ФКС не запретила. Теперь же он носил планшет с зажимом и ежедневно подавал Цайтзюссу рапорты. Разговаривал он мало – только отдавал распоряжения. Одной фразой пользовался всегда: «Я десятник». Иногда: «Я Хез, десятник». У Анхеля была теория, что он это повторяет, дабы самому не забыть.
Впереди топал аллигатор, одиноко. Двигался он медленней, словно чтобы они его нагнали и с ним покончили. Они подошли к лазу. Анхель забрался по лесенке и ломиком постучал снизу по крышке люка. Профан держал фонарик и не спускал глаз с коко. Сверху послышался скрежет, и крышку вдруг дернули вбок. Нарисовался полумесяц розового неонового неба. В глаза Анхелю плеснуло дождем. В полумесяце возникла голова десятника Хеза.
– Chinga tu madre[47], – любезно произнес Анхель.
– Докладывай, – сказал Хез.
– Он уходит, – крикнул снизу Профан.
– Мы за одним как раз идем, – сказал Анхель.
– Ты пьян, – произнес Хез.
– Нет, – сказал Анхель.
– Да, – воскликнул Хез. – Я десятник.
– Анхель, – сказал Профан, – давай быстрее, мы его потеряем.
– Я трезвый, – сказал Анхель. Ему пришло в голову, как приятно будет двинуть Хезу в зубы.
– Я о тебе сообщу, – сказал Хез. – От тебя несет бухлом.
Анхель полез наружу из люка.
– Мне бы хотелось это с вами обсудить.
– Ребята, вы там это чего, – сказал Профан, – в классики играете?
– Выполняй, – крикнул Хез в колодец. – Я задерживаю твоего напарника за дисциплинарный проступок. – Анхель, наполовину выбравшись из люка, вонзил зубы в ногу Хеза. Тот завопил. На глазах у Профана Анхель исчез, и его заменил розовый полумесяц. С неба брызгало дождем, сопливилось по старым кирпичным стенкам колодца. С улицы доносилась потасовка.
– Что там еще за черт, – сказал Профан. Развернул луч фонарика в тоннель, заметил, как аллигаторов хвост увильнул за следующий поворот. Пожал плечами. – Хрен там выполняй, – сказал он.
Он отошел от лаза, держа законтренное ружье под одной рукой, фонарик – в другой. Он впервые охотился соло. Страшно ему не было. Когда настанет миг убивать, фонарик он на что-нибудь пристроит.
Насколько удалось прикинуть, сейчас он был где-то на Восточной стороне, ближе к северному предместью. Со своего участка он ушел – господи, он за этим аллигатором через весь город, что ли, гнался? Профан свернул за поворот, свет розового неба скрылся: теперь тут двигался лишь вялый эллипс с ним и аллигатором в фокальных точках да стройная ось света, их соединяющая.
Они брали влево, углубившись в предместья. Вода становилась чуть глубже. Они вступали в Приход Благостыня, названный так в честь священника, жившего наверху много лет назад. Во время Депрессии 30-х, в час апокалиптического благополучия, он решил, что, когда Нью-Йорк вымрет, к власти придут крысы. По восемнадцать часов в день он обходил дозором очереди безработных за пищей и миссии, где утешал, латал изодранные души. Он предвидел лишь город изможденных от голода трупов, покрывших все тротуары и газоны в скверах, лежащих вверх животами в фонтанах, кривошее свисающих с уличных фонарей. Этот город – может, и вся Америка, горизонты его на такую ширь не распространялись – будет принадлежать крысам, не успеет и год закончиться. А раз так, отец Благостынь счел лучшим дать крысам хороший задел, и это значило – обратить их в римско-католическую веру. Однажды ночью в начале первого срока Рузвельта он спустился в ближайший колодец, прихватив Балтиморский катехизис, свой требник и, по соображениям, коих никто так никогда и не постиг, «Современное мореплавание» Найта. Первым делом, согласно его дневникам (обнаруженным через много месяцев после его кончины), было навеки благословить всю воду, протекающую по канализации между Лексингтон и Ист-ривер и между 86-й и 79-й улицами, а также изгнать из нее кое-какую нечистую силу. Этот район и стал Приходом Благостыня. Его бенедикции обеспечили адекватный запас святой воды; а кроме того, отменили хлопоты по индивидуальным крещениям, когда он наконец обратил всех крыс прихода. К тому же он рассчитывал, что и другие крысы узнают о том, что творится под северной оконечностью Ист-сайда, и сходным образом обратятся. Пройдет совсем немного времени, и он станет духовным вождем наследников земли. Он считал, что не очень велика будет жертва с их стороны, если они станут предоставлять ему троих из своего числа в день для поддержания его физических сил – в обмен на духовное кормление, которое им даровал он.
Соответственно, он выстроил себе небольшое укрытие на одном берегу канализационного коллектора. Сутана – постель, требник – подушка. Каждое утро он разводил костерок из плавника, собранного и разложенного сушиться накануне вечером. Поблизости в бетоне имелось углубление, располагавшееся под стоком дождевой воды. Здесь он пил и мылся. Позавтракав жареной крысой («Печенки, – писал он, – особо сочны»), он принялся за первую свою задачу: научиться общаться с крысами. Надо полагать, в этом он преуспел. Запись от 23 ноября 1934 года гласит:
Игнатий оказывается очень и очень неподатливым учеником. Поссорился сегодня со мной из-за природы индульгенций. Варфоломей и Тереза его поддержали. Я прочел им из катехизиса: «Индульгенция – это отпущение перед Богом временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена; отпущение получает христианин, имеющий надлежащее расположение, при определенных обстоятельствах чрез действие Церкви, которая как распределительница плодов искупления раздает удовлетворения из сокровищницы заслуг Христа и святых и правомочно наделяет им… К этому сокровищу принадлежит также та ценность, подлинно неисчерпаемая, неизмеримая и всегда новая, какую имеют перед Богом молитвы и добрые дела Пресвятой Девы Марии и всех святых».
«А какова, – поинтересовался Игнатий, – эта неисчерпаемая ценность?»
И вновь прочел я: «Которые, следуя за Христом и силою Его благодати, освятились и исполнили поручение Отца, таким образом трудясь для собственного спасения, они также способствовали спасению своих братьев в единстве мистического Тела».
«Ага, – возликовал Игнатий, – тогда я не понимаю, чем это отличается от марксистского коммунизма, кой, как ты нас уверял, безбожен. Каждому по его потребностям, от каждого по его способностям». Я постарался объяснить, что коммунизм бывает различных сортов: ранняя Церковь, вообще-то, зиждилась на общей благотворительности и разделении благ. Варфоломей тут же встрял с замечанием, что, быть может, сия доктрина духовной сокровищницы проистекла из экономических и общественных условий Церкви в ее младенчестве. Тереза быстренько обвинила Варфоломея в приверженности марксистским взглядам, и завязалась ужасная потасовка, в коей несчастной Терезе из глазницы выцарапали глаз. Дабы избавить ее от дальнейших мучений, я ее усыпил, а из ее останков приготовил восхитительную трапезу, вскоре после шестого часа. Обнаружил, что хвосты при достаточно долгом варении вполне приятны на вкус.
Очевидно, он обратил по меньшей мере одну партию. Далее в дневниках скептик Игнатий не упоминается: вероятно, погиб в следующей драке, быть может, покинул общину и удалился в языческие пределы Центра. После первого обращения дневниковые записи идут на убыль: но все они оптимистичны, временами в них даже сквозит эйфория. Приход как маленький анклав света в ревущих Темных веках невежества и варварства.
Крысиного мяса в конечном счете Отец перенести не смог. Может, содержалась в нем какая-то зараза. А возможно, и марксистские тенденции его паствы слишком напоминали ему о том, что он видел и слышал на поверхности, в очередях за едой, у постелей больниц и родильных домов, даже в исповедальне; и тем самым бодрость духа, отраженная в последних его записях, была на деле не чем иным, как необходимым заблуждением, призванным защитить его от унылой правды: его бледные изгибистые прихожане могут оказаться ничем не лучше тех тварей, чьи владения они унаследовали. Последняя запись его намекает на нечто подобное:
Когда Августин станет мэром города (ибо он великолепный малый и прочие ему преданы), вспомнит ли он, либо его совет, старого священника? Не синекурой или жирной пенсией, но истинным милосердием в сердцах? Ибо, хотя преданность Господу вознаграждается на Небесах и столь же надежно не вознаградится на сей земле, некое духовное удовлетворение, верю я, можно снискать и в Новом Граде, чей фундамент мы здесь закладываем, в сем Ионе под фундаментами старыми. Если ж не произойдет сего, я все равно упокоюсь в мире, единый с Богом. Сие, разумеется, есть лучшая награда. Я остаюсь классическим Старым Пастырем – не особенно крепким, никогда не богатым – всю свою жизнь. Пожалуй
На этом дневник заканчивается. Хранится он до сих пор в недостижимых глубинах Ватиканской библиотеки да в памяти нескольких старожилов Управления канализации Нью-Йорка, которым довелось его видеть, когда его обнаружили. Он лежал поверх погребальной пирамиды из кирпичей, камней и палок, достаточно крупной, чтобы покрыть труп человека; она была возведена в отрезке 36-дюймовой трубы у границы Прихода. Рядом лежал требник. Ни катехизиса, ни «Современного мореплавания» Найта не обнаружили.
– Возможно, – сказал предшественник Цайтзюсса Манфред Кац, прочтя дневник, – возможно, они ищут там лучший способ сбежать с тонущего корабля.
Истории к тому времени, когда их услышал Профан, стали довольно-таки апокрифичны, и в них присутствовало больше фантазии, нежели позволяли сами документы. Ни в какой миг за эти двадцать или около того лет, что рассказывалась легенда, никому не пришло в голову усомниться в нормальности старого священника. С байками из канализации всегда так. Они просто есть. Истинность или ложность здесь неприменимы.
Профан пересек границу, аллигатор по-прежнему впереди. На стенах временами встречались накарябанные цитаты из Евангелий, латинские изречения (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem – Агнец Божий, берущий на Себя грех мира, даруй нам мир). Мир. Тут и был мир, как-то раз во время депрессии сокрушенный медленно, истощенно-нервно, до улицы мертвым грузом собственного неба. Несмотря на временны́е искажения в повести об отце Благостыне, Профан общий смысл уловил. Отлученный от церкви, быть может, самим фактом своей тут миссии, скелет в шкафу Рима и норе собственной сутаны и постели, старик сидел и проповедовал пастве крыс с именами святых, и все это – ради мира.
Профан обмахнул лучом старые надписи, увидел темное пятно очертаниями как распятие, и его пробило мурашками. Впервые после ухода от лаза Профан осознал, что он совершенно один. От аллигатора впереди толку не было, скоро он умрет. Станет еще одним призраком.
Его больше всего интересовали сообщения о Веронике, единственной женской особи, помимо бессчастной Терезы, упоминаемой в дневниках. Поскольку работники канализации у нас таковы (любимый ответ у них: «В клоаках витаешь»), один из апокрифов их повествовал о противоестественных отношениях священника и этой крысихи, описываемой как нечто вроде роскошной и сластолюбивой Магдалины. Судя по всему, что Профан слышал, Вероника была единственной среди всей паствы, чью душу, считал отец Благостынь, стоит спасать. Она приходила к нему ночами не как суккуб, но взыскуя наставленья, вероятно – передать своему гнезду, где бы в Приходе оно ни было, частичку его желанья привести ее ко Христу: медальку на скапулярий, выученный стих Нового Завета, хоть какую-то индульгенцию, епитимью. Такое, что можно сохранить. Вероника вам не обычная крыса-торгаш.
Моя маленькая шутка могла быть вполне и всерьез. Когда они упрочатся довольно, дабы начать думать о канонизации, я уверен, список возглавит Вероника. С каким-нибудь потомком Игнатия, несомненно, в роли адвоката дьявола.
V. пришла ко мне сегодня ночью, расстроенная. Они с Павлом снова этим занимались. Бремя вины так тяжко легло на это дитя. У нее это почти в глазах: огромный, белый, неуклюжий зверь гонится за нею, желая ее пожрать. Мы несколько часов говорили о Сатане и его кознях.
V. выразила желание войти в сестринство. Я объяснил ей, что до сего времени не существует признанного ордена, в который ее могли бы принять. Она поговорит с некоторыми другими девушками, дабы понять, достаточно ли широк интерес для того, чтобы какие-то действия потребовались от меня. Это означало бы письмо Епископу. А латынь у меня так жалка…
Агнец Божий, подумал Профан. Учил ли их священник «крысе Божьей»? Как он оправдывал уничтожение их по трое в день? Как бы отнесся ко мне или Аллигаторному Патрулю? Он проверил ружейный затвор. Тут, в этом приходе, извивы похитрей, чем в катакомбах первохристиан. Не стоит здесь рисковать и палить, это точно. Только ли в этом дело?
Спину ломило, он начал уставать. Интересно, сколько ему еще так? Ни разу еще он столько за одним аллигатором не бегал. Профан остановился на минутку, прислушался к тоннелю. Ни звука, лишь скучно плещет вода. Анхель не придет. Он вздохнул и снова поплюхал к реке. Аллигатор булькал в стоках, пускал пузыри и нежно порыкивал. Говорит ли он что-нибудь, задумался Профан. Мне? Он вновь завел пружину, чувствуя, что совсем скоро сможет думать лишь о том, чтобы рухнуть, и пусть его вынесет поток – вместе с порнографическими картинками, кофейной гущей, контрацептивами использованными и не, говном – через промывной бак в Восточную реку и с приливом на ту сторону, к каменным лесам Куинза. И ну его к черту, этого аллигатора и охоту эту, посреди здешних легендарных стен, исписанных мелом. Нельзя тут убивать. Он чуял на себе взгляды крыс-призраков, свой взгляд не сводил с того, что впереди, – боялся, не увидеть бы эту 36-дюймовую трубу с гробницей отца Благостыня, – а уши не разлеплял, чтобы не слышать подпорогового писка Вероники, старой любви священника.
Внезапно – так внезапно, что он испугался, – впереди возник свет, из-за угла. Не свет дождливого вечера в городе, а бледней, неуверенней. Они свернули за угол. Профан заметил, что лампочка фонарика замигала; и тут же потерял аллигатора из виду. Затем свернул и обнаружил обширное пространство, вроде церковного нефа, сверху потолочные своды, от стен, чье точное расположение неотчетливо, идет фосфоресцирующий свет.
– Чё, – вслух произнес он. Противоток реки? Морская вода в темноте иногда светится; в кильватере судна видно то же неуютное сияние. Но не тут же. Аллигатор повернулся к нему мордой. Чистый, легкий выстрел.
Профан ждал. Должно что-то случиться. Что-то иномирное, само собой. Он был сентиментален и суеверен. Наверняка аллигатор обретет дар языков, воскресится тело отца Благостыня, соблазнительная V. отвлечет его от убийства. Профан уже чуть не левитировал и с трудом сказал бы, где он, вообще-то, находится. В оссуарии, в гробнице.
– Ай, шлемиль, – прошептал он фосфоресценции. Тридцать три несчастья, шлимазл. Ружье разорвет у него в руках. Сердце аллигатора и дальше будет тикать, а его – лопнет, ходовая пружина и регулятор хода заржавеют в этих отходах по щиколотку, при этом нечестивом свете. – Можно тебя просто отпустить? – Десятник Хез знал, что он идет за верняком. У него на планшете записано. И тут он понял, что аллигатору дальше идти некуда. Крок устроился на корточках ждать, чертовски хорошо зная, что сейчас его разнесут в клочья.
В Зале Независимости в Филли, когда перекладывали пол, участок первоначального, в квадратный фут, оставили показывать туристам.
– Возможно, – говорил вам экскурсовод, – прямо здесь стоял Бенджамин Фрэнклин, а то и Джордж Вашингтон. – Профан на экскурсии в восьмом классе был уместно этим впечатлен. Теперь у него появилось такое же чувство. Здесь, в этом помещении, старик убил и сварил оглашенного, совершил содомию с крысой, обсуждал грызунье монашество с V., будущей святой – это смотря какую историю ты слышал.
– Извини меня, – сказал Профан аллигатору. Он всегда извинялся. Такова заготовка шлемиля. Он поднял магазинное ружье к плечу, снял с предохранителя. – Прости, – снова сказал он. Отец Благостынь разговаривал с крысами. Профан разговаривал с аллигаторами. Он выстрелил. Аллигатор дернулся, сделал сальто назад, кратко забился, затих. Кровь засочилась амебой, образуя изменчивые узоры со слабым тленьем воды. Вдруг погас фонарик.
II
Гувернёр Обаяш, он же «Руйни», сидел на своей гротесковой эспрессо-машине, курил «шнурок» и метал недобрые взгляды на девушку в соседней комнате. Квартира, унасестившаяся в высоте над Риверсайд-драйвом, насчитывала что-то вроде тринадцати комнат, все отделаны в «раннем гомосексуализме» и обустроены так, чтобы представлять то, что писателям прошлого века нравилось называть «перспективами», когда все межкомнатные двери открыты, как сейчас.
Супруга его Мафия на кровати играла с котом Клыком. В данный момент она была нага и болтала надувным бюстгальтером перед раздраженными когтями Клыка – сиамца, серого и невротичного.
– Прыг-скок, – говорила она. – Башая киска сеудится, патушта не дают игуать с уифчиком? ИИИИ, какой он масенький и хоосенький.
Ох елки, думал Обаяш, интеллектуалка. И надо было выбрать интеллектуалку. У них всех развиваются атавизмы.
«Шнурок» был из «Блуминдейла», отменного качества: добыт Харизмой несколько месяцев назад, когда у него случился очередной рабочий запой; он тогда служил экспедитором. Обаяш сделал себе зарубку в памяти – повидать сбытчицу из «Лорда-и-Тейлора», хрупкую девушку, надеявшуюся однажды устроиться продавать дамские сумочки в отделе аксессуаров. Эту штуку высоко оценивали курильщики «шнурка», на том же уровне, что и скотч «Шивис-Ригэл» или черную панамскую марихуану.
Руйни управлял «Запредельными записями» («Фольксвагены в высокой точности», «Ливенуортский клуб хорового пения исполняет старое любимое») и почти все время занимался выискиванием новых курьезов. Как-то раз, к примеру, тайно пронес магнитофон, замаскировав его под дозатор тампонов «Котекс», в женскую уборную Пенсильванского вокзала; его видели с микрофоном в руке, когда он ныкался в фонтане на Вашингтонской площади в накладной бороде и «ливайсах», когда его вышвыривали из борделя на 125-й улице, когда он крался вдоль питчерского загона на стадионе «Янки» в день открытия. Руйни бывал всюду и неугомонен. Туже всего ему пришлось тем утром, когда к нему в контору ворвались два агента ЦРУ, вооруженные до зубов, уничтожить его великую тайную мечту: версию торжественной увертюры Чайковского «1812 год», которая отменила бы все прочие исполнения. Лишь Богу и самому Обаяшу известно, что он собирался использовать вместо колоколов, духового или симфонического оркестра; это ЦРУ не волновало. Они явились выяснить насчет пушечных выстрелов. Судя по всему, Обаяш запустил свои щупальца в высший эшелон комсостава Стратегического авиакомандования США.
– Для чего, – сказал ЦРУшник в сером костюме.
– А чего, – сказал Обаяш.
– Для чего, – сказал ЦРУшник в синем костюме.
Обаяш сказал им для чего.
– О господи, – сказали они, в унисон побледнев.
– Сбрасывать, естественно, придется на Москву, – сказал Руйни. – Мы хотим добиться исторической точности.
Кот испустил такой вопль, что забряцали все нервы. Из одной примыкающей комнаты выполз Харизма, покрытый большим зеленым одеялом от «Хадсонова залива».
– Утро, – сказал Харизма, голос его глушился одеялом.
– Нет, – ответил Обаяш. – Ты опять не угадал. Сейчас полночь, и моя супруга Мафия играет с котом. Заходи, посмотришь. Я подумываю билеты продавать.
– Где Фу, – из-под одеяла.
– Резвится, – сказал Обаяш, – в центре.
– Руин, – взвизгнула барышня, – иди сюда посмотри только на него. – Кот валялся навзничь, все четыре лапы вверх, а на морде смертный оскал.
Обаяш ничего на это не сказал. Зеленый курган посреди комнаты миновал эспрессо-машину; вошел в комнату Мафии. Когда проходил мимо кровати, из него высунулась рука и похлопала Мафию по ляжке, после чего он вновь двинулся курсом на ванную.
Эскимосы, размышлял Обаяш, полагают весьма гостеприимным предлагать гостю свою жену на ночь, помимо пищи и крова. Интересно, перепадает тут старине Харизме от Мафии или нет.
– Муклук[48], – вслух сказал он. По его прикидкам, слово было эскимосское. Если ж нет – что тут сделать: других он не знал. Никто его все равно не услышал.
Кот влетел по воздуху в комнату с эспрессо-машиной. Супруга Обаяша надевала пеньюар, кимоно, домашний халат или неглиже. Разницы он не понимал, хотя Мафия периодически пыталась ему объяснить. Обаяш знал одно – это с нее надо снимать.
– Пойду немного поработаю, – сказала она.
Его супруга была авторесса. Романы ее – числом пока три – каждый насчитывал по тысяче страниц и, подобно гигиеническим прокладкам, впитывали в себя обширное и преданное сестринство потребительниц. Образовалось даже нечто вроде общины или клуба поклонниц, который заседал, читал вслух куски ее книг и обсуждал ее Теорию.
Если они когда-нибудь все же пойдут на окончательный раскол, к нему приведет именно Теория. Мафия, к несчастью, сама верила в нее так же рьяно, как любой ее последователь. Теория была так себе – скорей благие пожелания Мафии, а не теория. Ибо в ней было всего одно суждение: мир от бесспорного разложения спасется лишь Героической Любовью.
На практике Героическая Любовь означала харево пять-шесть раз за ночь, каждую ночь, с огромным количеством спортивных полусадистских захватов в придачу. В тот единственный раз, когда Обаяш сорвался, он заорал:
– Ты превращаешь наш брак в номер на батуте, – что Мафия сочла неплохой репликой. Та возникла в ее следующем романе – там ее произносил Шварц, слабак, еврей и психопат, он же главный злодей.
Все ее персонажи группировались так же расово предсказуемо, что вызывало опасения. Положительные – эти богоподобные, неутомимые атлеты блуда, которых она брала своими героями и героинями (и героином? задавался он вопросом), все были рослые, сильные, белые, хотя зачастую со здоровым загаром (по всему телу), англосаксы, тевтонцы и/или скандинавы. Комической разрядке и негодяйству неизменно служили негры, евреи и выходцы из Южной Европы. Обаяш, сам родом из Северной Каролины, терпеть не мог, как она ненавидит черномазых – по-городскому, как янки. Еще женихаясь, он восхищался ее обширным репертуаром анекдотов про негров. Но только после свадьбы ему открылась жуткая правда – как тот факт, что она носит лифон с подбивкой: почти нацело она была не осведомлена о чувствах южанина к неграм. Слово «негритос» она применяла для обозначения ненависти, ибо сама, очевидно, была не способна ни на что требовательнее эмоций кувалды. Обаяш слишком расстроился и не стал ей говорить, что дело тут не в любви, ненависти, симпатиях или антипатиях, а скорее в том наследии, с которым живешь. Спустил на тормозах, как и все остальное.
Если она верила в Героическую Любовь, коя на самом деле всего лишь частота, то Обаяш, судя по всему, не располагался на мужском конце и половины того, чего она искала. За пять лет их брака он уяснил только, что они оба – цельные «я», едва ли вообще сплавляются воедино, а эмоционального осмоса у них не больше, чем протекания семени сквозь прочные мембраны контрацептива либо диафрагмы, которые всегда на месте и предохраняют их.
Обаяш же воспитан был на белых протестантских сантиментах журналов вроде «Круга семьи». Чаще многих других ему там попадался закон того, что брак освящают дети. Было время, когда Мафия спятила и восхотела потомства. Вероятно, имелось у нее какое-то намерение породить череду сверхдеток, основать новую расу, кто знает. Обаяш, очевидно, отвечал ее спецификациям – как генетическим, так и евгеническим. Коварная, однако, выжидала она, и в первый год Героической Любви началась вся эта канитель с контрацептивами. Все тем временем стало разваливаться, Мафия, само собой, все больше сомневалась, насколько Обаяш для нее хороший кандидат. Почему она зависла на этом так долго, Обаяш не знал. Из соображений литературной репутации, может. А возможно, откладывала развод, пока ей команду не даст ее чуйка по связям с общественностью. У него закрадывалось справедливое подозрение, что в суде она его станет описывать настолько близко к импотенту, насколько ей позволят пределы правдоподобия. А «Дейли ньюз» и журнал «Конфиденшел» сообщат Америке, что он евнух.